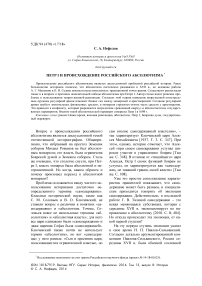Петр I и происхождение российского абсолютизма
Автор: Нефедов Сергей Александрович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 8 т.13, 2014 года.
Бесплатный доступ
Происхождение российского абсолютизма является дискуссионной проблемой российской истории. Ранее большинство историков полагало, что абсолютизм постепенно развивался в XVII в., но недавние работы А. Г. Манькова и П. В. Седова показали несостоятельность традиционной точки зрения. Существуют разногласия также и в вопросе о причинах окончательной победы абсолютизма при Петре I. Автор статьи видит решение проблемы в использовании теории военной революции. Согласно этой теории появление вооруженной огнестрельным оружием регулярной армии изменяет баланс сил между монархией и аристократией. Создание регулярной армии требует значительных финансовых средств, и монархия стремится отнять часть средств у аристократии. Это приводит к конфликту, который разрешается посредством «революций сверху» и абсолютистских государственных переворотов. Именно такой абсолютистский переворот совершил Петр I в 1698 г.
Раннее новое время, военная революция, абсолютизм, петр i, боярская дума, государственный переворот
Короткий адрес: https://sciup.org/147219178
IDR: 147219178 | УДК: 94
Текст научной статьи Петр I и происхождение российского абсолютизма
Вопрос о происхождении российского абсолютизма является дискуссионной темой отечественной историографии. Общепризнано, что избранный на престол Земским собором Михаил Романов не был абсолютным монархом; его власть была ограничена Боярской думой и Земским собором. Столь же очевидно, что столетие спустя, при Петре I, власть монарха была абсолютной и неограниченной. Но когда, каким образом и почему произошел переход к абсолютной монархии?
Проблема осложняется ввиду частого использования историками достаточно неопределенного термина «самодержавие». Классики исторической науки, такие как С. М. Соловьев и В. О. Ключевский, не ставили вопрос о различии в понятиях «самодержавие» и «абсолютизм. Точнее, Соловьев вовсе не использовал термины «абсолютизм» и «абсолютная власть»; для него все цари одинаково были «самодержцами» и даже царевна Софья была «самодержицей». Ключевский также почти не использует термин «абсолютизм», но вот «самодержцы» у него разные. «Сын и преемник царя, пользовавшегося ограниченной властью, но сам вполне самодержавный властелин», – так характеризует Ключевский царя Алексея Михайловича [1937. Т. 3. С. 347]. При этом, однако, историк отмечает, что Алексей «при своем самодержавии уступал широкое участие в управлении» боярам [Там же. С. 348]. В отличие от «тишайшего» царя Алексея, Петр I своих функций боярам не уступал, он характеризуется как «самодержец, не знавший границ своей власти» [Там же. С. 108].
Уже это простое сопоставление характеристик правителей показывает, что самодержавие может быть разным, и специалистам приходится говорить об эволюции самодержавия. Действительно, в последней работе Г. В. Талиной самодержавие – это некая меняющаяся субстанция, которая с середины XVII в. эволюционирует по направлению к абсолютизму [2010. C. 8, 404]. Но откуда происходит эта эволюция, от какой первой ступени?
На эту первую ступень эволюции указал в свое время Н. П. Павлов-Сильванский. Согласно детально аргументированной концепции Павлова-Сильванского, Россия середины XVII в. была обычной сословной
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-18-01625).
ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 8: История © С. А. Нефедов, 2014
монархией европейского типа. Как и в других европейских государствах, в России имелись достаточно четко выраженные сословия: сильная аристократия, многочисленное дворянство, горожане и крестьяне. Земский собор, по мнению Павлова-Сильванского, был учреждением, однотипным западным сословным учреждениям, а Московское государство по своей структуре одинаково с западноевропейскими сословными монархиями [1924. C. 134, 147]. «Самодержавие первых Романовых не было “самовластием”, – писал Н. П. Павлов-Сильванский, – оно фактически было связано силой сословий… а также сильным тогда еще консерватизмом обычного права. Царь должен был править по старине в согласии с Боярской думой…» [Там же. С. 155]
Конечно, при этом возникает вопрос: что такое «самодержавие» без «самовластия»? Привычный термин «самодержавие» теряет смысл, и становится понятно, что реальностью первой половины XVII в. было не самодержавие, а сословно-представительная монархия. Причем эта монархия была не только не самодержавной, но и ненаследственной. «После смерти Грозного наследственная монархия в России сменилась избирательной, – писал Л. В. Черепнин. – Все последующие цари до Алексея Михайловича избирались Земским собором или добивались трона при его фиктивном участии. Алексей Михайлович занял престол как прямой его наследник, но затем, по-видимому, был утвержден Земским собором» [1978. С. 345]. П. П. Смирнов отмечал, что обычаем было «отнюдь не наследование, а избрание царя Земским собором, что практиковалось со времен смерти Ивана Грозного; такой порядок подсказывался и примером весьма авторитетного для Руси XVII в. соседнего Польско-Литовского государства» [1929. С. 13]. Московское государство брало пример с Речи Посполитой, которая была наиболее мощной державой Восточной Европы. В частности, это нашло свое выражение в составлении Уложения 1649 г.: в его основу был положен Литовский статут. Общая структура и целые главы Уложения были заимствованы из законов Литвы [Маньков, 1980. C. 16–17].
Большинство советских историков придерживалось концепции Н. П. Павлова-Силь-ванского, т. е. концепции московской со- словной монархии. В официальном издании «Очерки истории СССР» К. В. Базилевич, С. К. Богоявленский и Н. С. Чаев писали, что в первой половине XVII в. продолжалось развитие сословно-представительной монархии, причем земские соборы достигли своего расцвета: «Во второй половине столетия земские соборы отмирают, и начинается переход к абсолютной монархии. Однако для установления абсолютизма необходима была ликвидация политического влияния не только земских соборов, но и Боярской думы, которая в период сословнопредставительной монархии в известной мере разделяла власть с царем» [Базилевич и др., 1955. С. 350].
В ходе дискуссии, состоявшейся в 1968– 1971 гг., советские историки пытались понять механизм возникновения абсолютизма в России. Однако марксистское определение абсолютизма, как власти, опирающейся на равновесие дворянства и буржуазии, сделало эти попытки непродуктивными: в России того времени, очевидно, не существовало буржуазного класса. А. Я. Аврех комментировал эту ситуацию таким образом: «Доказывать, что Иван Грозный был ограниченным монархом, значит ставить под удар свою научную репутацию. Признать же его абсолютным монархом, поскольку он был неограниченным, еще хуже – значит, скомпрометировать идею равновесия» [1968. С. 85]. В поисках выхода из этой ситуации М. П. Павлова-Сильванская предложила отказаться от использования термина «абсолютизм» и считать русское самодержавие восточной деспотией [1968. С. 83].
В конце XX в. ситуация не прояснилась. Е. В. Анисимов писал: «Дискуссия 1960-х – начала 1970-х гг. показала бессмысленность научного экстраполирования на русскую почву тех форм государственной власти, которая сложилась в Западной Европе и традиционно называется абсолютной. В России конца XVII – начала XVIII в. не было ни “сословий”, ни “абсолютизма”, а были “служилые люди” и было самодержавие, и знак равенства между этими понятиями ставить невозможно» [1997. C. 270]. Таким образом, часть российских историков отказалась от концепции абсолютизма, вернувшись к неопределенному понятию «самодержавие». Однако многие историки остались на традиционной позиции. Так, А. Н. Медушевский в работе, посвященной созданию административных институтов петровской монархии, указывает на сходство этих институтов с бюрократическими учреждениями других абсолютных монархий, в частности, Швеции и Дании [1994].
Отсутствие единого подхода сказалось и в наиболее популярном учебнике для студентов-историков, изданном Московским университетом. В первом томе этого учебника говорится, что «Россия в XVII в. была унитарным государством с формой правления в виде сословно-представительной монархии», что никакого абсолютизма в тот период не было и «речь идет не об утверждении новой формы монархии, а об определенных абсолютистских тенденциях в ее эволюции, получившей завершение в петровскую эпоху» [История России, 2009. C. 605]. А во втором томе при описании петровской эпохи о «завершении эволюции» и утверждении абсолютизма нет ни слова, и сам термин «абсолютизм» встречается лишь два раза в совершенно случайном контексте [История России, 2010. C. 78, 79].
Последнее и наиболее подробное исследование эволюции российской государственности в XVII – первой четверти XVIII в. принадлежит Г. В. Талиной [2010]. Она избегает говорить о сословно-представительной монархии, но не отказывается от понятия «абсолютизм» и утверждает, что самодержавие развивалось в направлении установления абсолютизма, что при Петре I было построено абсолютистское государство. Несомненно, новое заключается в том, что Г. В. Талина ищет объяснение утверждения абсолютизма в России в теории военной революции, «согласно которой в основе становления абсолютистской формы правления в европейских странах лежит переход к регулярной армии» [Там же. С. 338].
В принципе еще Н. П. Павлов-Силь-ванский писал, что «с образованием сильного регулярного войска центральная власть усиливается у нас, как и на западе, и московское патриархальное самодержавие превращается в императорский абсолютизм» [1924. C. 155]. Однако конкретный механизм этой трансформации был показан лишь много десятилетий спустя в работах Майкла Робертса и Брайана Даунинга [Roberts, 1967; Downing, 1992]. Теория военной революции утверждала, что причиной социально-политической трансформации государств являлись революционные изме- нения в военных технологиях. Для Средних веков было характерно военное преобладание рыцарской кавалерии; рыцарь, который был господином на поле боя, был господином и в обыденной жизни – это порождало сеньориальную систему и феодализм [White, 1962]. Появление огнестрельного оружия привело к закату эпохи рыцарской кавалерии; дворяне-рыцари утратили свое военное превосходство, что означало неизбежное крушение феодального режима. В середине XVI в. на поле боя господствовали массы пехоты, организованные в батальоны: по периметру батальона стояли мушкетеры, а внутри – пикинеры. В XVII в. появление оснащенной штыком фузеи привело к созданию линейной тактики. На смену анархичным рыцарям пришла сложная военная машина, где все зависело от слаженности и дисциплины. «Строгая дисциплина и механическая тренировка, требуемые новой… тактикой, согласовывались с тенденцией эпохи к абсолютизму, – отмечал Робертс. – Она наводила на мысль, что дисциплина, дающая успех в бою, могла дать положительные результаты в применении к гражданскому обществу. Правитель все более и более ассоциировался с главнокомандующим, и из новой дисциплины и обучения рождалось не только самодержавие, но тот особый тип монарха, который предпочитал называть себя Kriegsherr» [Roberts, 1967. P. 206].
Механизм перехода к абсолютизму на примере некоторых европейских государств был проанализирован в известной работе Брайана Даунинга [Downing, 1992]. Создание новой армии требовало больших финансовых затрат и введения новых налогов, что вызывало сопротивление сословных собраний, парламентов и штатов. Дворянство, господствовавшее в этих собраниях, понимало, что оно теряет не только доходы, но и лишается своей военной опоры, рыцарского ополчения. Однако дворяне-рыцари ничего не могли противопоставить новой военной силе, и итогом «военной революции» было становление режима, который Брайан Даунинг назвал «военно-бюрократическим абсолютизмом» [Ibid. P. 11, 74–78]. «Я определяю военно-бюрократический абсолютизм как высоко бюрократизированное и военизированное централизованное государство, – указывает Даунинг. – Этим государством управляют без парламента, уничто- жив его или обходя его прерогативы. Военно-бюрократический абсолютизм берет под контроль большинство местных центров власти, и управляет экономикой с целью поддержания большой и растущей армии. Основные социальные классы вынуждены покориться, или, чаще, примиряются с абсолютизмом, получая доходы от государственной и военной службы. Военно-бюрократический абсолютизм стоит выше закона; государственный интерес превалирует над строгим соблюдение законодательства» [Downing, 1992. P. 11].
Из приведенного отрывка следует, что Даунинг рассматривал два варианта взаимоотношений элиты и монарха: подчинение и сотрудничество, причем сотрудничество было более распространенным вариантом. После первоначального столкновения стороны, как правило, приходили к компромиссу, и в дальнейшем монарх старался учитывать интересы элиты. Вот, например, в Пруссии: «Несмотря на преобладание государственной власти, имелись политические ограничения, особенно на местном уровне. Государство полагалось на дворянство и допускало его к местному управлению, в то время как контроль над налогообложением и армией оставался в руках правительства. Абсолютизм никогда не был абсолютным» [Ibid. P. 92].
Этот последний тезис – «абсолютизм никогда не был абсолютным» – был акцентирован в известной работе Николаса Хен-шелла, который заявил, что «абсолютизм – это миф». В реальности, утверждал Хен-шелл, «абсолютные» монархи на неформальном уровне делились властью с элитой либо в интересах сотрудничества делали ей уступки. «Консенсус между монархами и правящей элитой был основой всех политических режимов Средневековья и раннего Нового времени», – утверждает Хеншелл [2003. С. 11]. Это, конечно, слишком категорическое утверждение, чтобы быть справедливым всегда – тем более, на соседней странице Хеншелл признает, что, например, в Швеции «дворянство стало жертвой абсолютизма» [Там же. C. 10].
Помимо Швеции, можно привести в пример Данию. Датская «революция» 1660 г. привела к утрате дворянством большей части привилегий и принятию «конституции», которая провозглашала неограниченный характер королевский власти [A Revo- lution…, 2000. P. 97]. Скандинавские историки находят много общего в развитии Дании и Швеции и называют государства этого типа «maktstat» («могущественное государство»), но иногда пользуются обычным термином «абсолютизм» [Ibid. P. 27]. Таким образом, «настоящий» «военно-бюрократический абсолютизм», в котором «социальные классы вынуждены покориться» все-таки, существовал – хотя и был довольно редким и временным явлением.
В большинстве случаев – как показывают исследования современных историков – тезис Хеншелла о консенсусе между монархами и элитой оказывается справедливым. Более того, нужно признать, что в некоторых случаях ширма «абсолютизма» скрывала реальную власть элиты. История России дает много примеров такого рода: Екатерина I, Елизавета Петровна, Екатерина II, Александр I получили престол благодаря дворянской гвардии и были вынуждены считаться с мнением дворянства.
Формула «абсолютизм никогда не был абсолютным» лишает смысла понятие «абсолютизм», поэтому многие историки стали оказывать предпочтение созданной Джоном Бревером модели «фискально-военного государства» [Brewer, 1989]. Эта модель исходит из того, что военная революция порождает необходимость создания регулярной армии, увеличение налогов, централизацию и бюрократизацию – но не абсолютную власть монархов, а сотрудничество между монархом и элитой. Как показали Честер Даннинг и Норман Смит, это понятие вполне приложимо к России XVII в. [Dunning, Smith, 2006].
Действительно, правление Алексея Михайловича дает яркий пример, когда создание новой армии, рост налогов и централизация проходили в обстановке сотрудничества царя и Боярской думы. А. Г. Маньков писал, что «Боярская дума еще прочно держала в своих руках во второй половине XVII в. важнейшие рычаги феодальной экономики и социальных отношений» [1998. C. 31]. Сопоставление царских именных указов и указов с боярскими приговорами показывает, что едва ли не все крупные законодательные акты начинались словами «царь указал, и бояре приговорили». Именные царские указы относились к более мелким вопросам, и, по большей части, к военной сфере [Седов, 2006. C. 13].
Принято считать, что, в отличие от европейских сословных монархий, в России отношения между сословиями и монархом не были кодифицированы и определялись главным образом традицией [Бушкович, 2008. C. 34; Ключевский, 1937. C. 221]. «Практика осуществления властных функций была такова, что царь действовал в рамках сложившейся традиции», – констатирует П. В. Седов [2006. C. 51]. «Скрепленные традицией отношения между монархом и знатью позволяли достигать соглашения о разделе прибавочного продукта и эксплуатации населения», – уточняет Д. Островский [Ostrowski, 2002. P. 542]. Однако в рамках традиции существовали также и отдельные документы, регулировавшие правовые отношения в структурах власти. Сохранились сведения о том, что Василий Шуйский дал так называемую «крестоцеловальную запись» – это был документ наподобие скандинавских «королевских обещаний» и «уставов вступления» [Козляков, 2007]. Дьяк Григорий Котошихин писал, что «прежние цари, после царя Ивана Васильевича, избирались на царство, и с них брали “письма”: без суда никого не казнить, советоваться о всех делах с боярами и без совета тайно никаких дел не делать» [1859. C. 105]. Помимо этих «писем» существовали законодательные ограничения. Указание на то, что царь должен советоваться с боярами, имеется и в Уложении 1649 г.: вторая статья десятой главы Уложения («О суде») говорит, что «спорныя дела… взносити ис приказов в доклад к государю… и к его государевым бояром и околничим и думным людем. А бояром и околничим и думным людем сидети в полате и… государевы всякия дела делати всем въместе». Комментируя эту статью, П. В. Седов указывает, что она «не разграничивала судебную деятельность царя и Думы, что неизбежно означало неразде-ленность и важнейших управленческих функций, поскольку в средневековой Руси, как известно, судить значило управлять, и наоборот» [2006. C. 13]. Нерасчлененность управленческих функций, необходимость управлять вместе с Думой, неизбежно ограничивала единоличную власть царя.
Исследования А. Г. Манькова и П. В. Седова поднимают важный вопрос о динамике отношений между монархом и боярской элитой. Если для правления Алексея Михайловича были характерны укрепление царской власти и та тенденция к абсолютизму, о которой по-прежнему говорят многие историки, то затем все изменилось. «Подъем законодательной активности Думы с конца 1670-х гг. вступил в определенное противоречие с объективным процессом постепенного перехода от сословно-представительной монархии к абсолютизму», – констатирует А. Г. Маньков [1998. C. 31]. П. В. Седов предпочитает не упоминать об «объективном процессе», а просто констатирует, что «на протяжении XVII в. боярство не “исчезало” и не “растворялось”, а, наоборот, набирало силу» [2006. C. 7].
Итак, в конце XVII в., в начале правления Петра I, мы не наблюдаем никаких признаков установления абсолютизма. Встает вопрос: а был ли Петр Великий абсолютным монархом в конце своего правления? До последних дней абсолютный характер власти Петра I был для российских историков чем-то очевидным, не требующим доказательств. Однако Дональд Островский утверждает, что это не так. Главный аргумент Островского состоит в том, что «Петр начал обширные административные реформы, но он не устанавливал систему, где продвижение определялось заслугами (меритократию), как утверждалось. Возможно, у него были намерения создать работоспособное чиновничество, но продвижение в табели о рангах должна было происходить «по старшинству» (по старшинству времени), а не по заслугам» [Ostrowski, 2002. P. 545].
Однако это неверно. В месте, на которое ссылается Островский [ПСЗ-I, 1830. Т. 6. С. 486], речь идет лишь о том, что чиновники, принадлежащие к одному классу, имеют старшинство между собой соответственно времени вступления в чин. В других же пунктах табели четко выражен приоритет заслуг: «Мы никому никого ранга не даем, пока они нам и отечеству никаких услуг не покажут» (п. 8) [Там же. С. 460], и «кто важные услуги продемонстрирует, те могут за свои труды производиться в более высокий ранг» (п. 14) [Там же. С. 492]. Но это не главное. Существует огромное количество свидетельств о том, что император Петр Великий обладал неограниченной властью и пользовался ей, не считаясь с интересами элиты. Для нас наиболее важны свидетельства отсутствия того «консенсуса между монархами и правящей элитой», о котором говорит Хеншелл. Как известно, Петр заставлял дворян служить в солдатах. В 1703 г. многие дворяне не явились к сроку в стоявший в Пскове корпус Б. П. Шереметева. У «нетчиков» были отобраны поместья и вотчины – причем эти конфискации приобрели массовый характер; за время войны было конфисковано в общей сложности около 3 тысяч поместий [Тихонов, 1974. C. 61]. По свидетельству датского посла Грунда, в 1708 г. «князья и бояре» были до крайности недовольны тем, что Петр «забирал их сыновей в армию рядовыми или посылал в Англию и Голландию служить в матросах» [Бушкович, 2008. C. 287]. О том же писали бывший воспитатель царевича Алексея Нойгебауэр в 1705–1706 гг., французский агент Гроффей в 1707 г. и имперский посол Плейр в 1717 г. [Там же. С. 263, 265, 372].
Начиная службу в армии рядовыми, дворяне уравнивались в положении с крепостными рекрутами. Полвека спустя князь М. М. Щербатов с возмущением писал, что «вместе с холопами… писали на одной степени их господ в солдаты, и сии первые по выслугам… доходя до офицерских чинов, учинялись начальниками господам своим и бивали их палками» [О повреждении…, 1983. C. 27].
Поскольку служба стала постоянной, то расходы дворян значительно возросли. Между тем помещичьи крестьяне, которые прежде платили в казну в 8 раз меньше [Ключевский, 1937. Т. 3. C. 248], чем государственные крестьяне, теперь были обложены чрезвычайными налогами, а потом подушной податью. Страдавшие от тяжелых налогов крестьяне часто не могли платить оброки своим помещикам. «Если добавить к этим трудностям тяжелые контрибуции (чрезвычайные налоги. – С. Н.) и другие невзгоды, то русский дворянин теперь не имеет и двадцатой доли того, чем владел до начала войны», – свидетельствует Ларс Эренмальм [1991. C. 95]. Петр не отнимал дворянские земли, как это сделал Карл XI в Швеции, но подобно Фредерику III Датскому он резко увеличил налоги на помещичьих крестьян, что означало сокращение налоговых привилегий для вотчинно-поместного землевладения. Царь оставил дворянам право на крестьянские оброки, однако за сохранение этих привилегий дворяне должны были нести постоянную военную службу, начиная с самых низших должностей.
Таким образом, Петр I находился в постоянном конфликте со своим дворянством, и его государство было подобно скандинавскому «maktstat». Однако в начале своего правления Петр не был абсолютным монархом. Когда же произошел переход к абсолютизму?
Рассмотрим подробнее ситуацию 1698 г., когда Петр, узнав о бунте стрельцов, вернулся в Россию. Царь был уверен, что мятеж стрельцов был частью боярского заговора, который возглавляли тайные сторонники Милославских. «Я царствую не над людьми, а над собаками и неразумными скотами, – говорил он австрийскому послу Гвариен-ту. – И что еще больше печалит мой ум, я должен теперь прямо признать, что долгое время они не только старались меня погубить, но и против меня (кроме двоих или троих) лелеют дух измены…» [Бушкович, 2008. C. 209]. Дядя Петра Л. К. Нарышкин посоветовал ему не щадить своих врагов. «Царь сказал: “Ей богу, так и будет и очень скоро будет сделано в точности так, как ты советуешь”. Теперь большинство ежечасно ждет с содроганием сердца, когда будет объявлено принятое решение об этом», – так заканчивает Гвариент свое донесение в Вену [Там же].
Чтобы найти вождей заговора, Петр приказал заново расследовать обстоятельства стрелецкого мятежа; он сам участвовал в пытках стрельцов – но не нашел свидетельств против бояр. Двадцать третьего октября Корб стал свидетелем спора царя с боярами, когда «не щадили ни слов, ни рук», т. е. разъяренный царь дошел до рукоприкладства [Корб, 1906. С. 100]. Подробности этого спора мы узнаем в записках Джона Перри, одного из капитанов, нанятых Петром во время поездки на Запад. Оказывается, дело было не в мнимом заговоре бояр: конфликт имел финансовый характер. Одиннадцатого сентября 1698 г. царь подписал указ о роспуске московских стрелецких полков: царь не доверял стрельцам – в его мнении они были «только пакасники, а не воины» [Богословский, 2007. С. 187]. Произошедшая в Европе военная революция требовала создать новую, вооруженную фузеями и обученную линейному строю массовую «регулярную» армию. Но для этого требовались деньги: солдаты обходились дороже стрельцов. Царь задумал повысить вдвое налоги с городов – а взамен предлагал посадским людям ввести городское самоуправление по типу голландского. При этом воеводы (по большей части бояре) лишались не только власти, но и сопряженных с ней официальных и неофициальных доходов. «Но когда в торжественном собрании Господ (т. е. в Боярской думе. – С. Н.) царь сделал им это полезное предложение, – свидетельствует Перри, – то оно вызвало борьбу в среде дворян, так как отсекало значительную отрасль их власти… Убедившись, что борьба ни к чему не приведет, и что под конец царь начал уже сердиться на них, они начали бояться, что несколько голов будет отрублено для примера за ослушание, и принуждены были покориться» [1871. C. 134]. Корб рассказывает, что 1–2 января 1699 г. Петр вызвал бояр в Преображенское, но даже здесь, посреди военного лагеря, они осмелились перечить царю, и в итоге один из спорщиков был высечен [1906. С. 107– 108]. В конечном счете указ о местном самоуправлении был подписан 30 января 1699 г. как царский именной указ, без упоминания о «боярском приговоре» [ПСЗ-I, 1830. Т. 3. С. 598].
Нужно учесть обстановку этой борьбы царя и Боярской думы: в эти месяцы постоянно появлялись слухи о новых стрелецких мятежах в Белгороде, в Азове, в других местах, в Москве каждый день совершались казни стрельцов, и царь иной раз открыто угрожал боярам [Корб, 1906. С. 100, 140, 143]. Датский резидент Г. Грунд писал, что эти казни вселили ужас в бояр, что царь «навел этим страх на своих подданных, которые с тех пор должны были склоняться перед ним и с величайшей покорностью выполнять его приказы» [1992. С. 126]. Во время похорон Лефорта бояре прошли вперед иностранных послов, и царь сказал послам: «Это – собаки, а не бояре мои», а потом обратился к боярам со словами: «Неужели вы радуетесь его смерти?» [Там же. С. 137, 138]. Шестого января во время праздника Водосвятия Петр устроил настоящую демонстрацию военной силы: он вывел к Москве-реке одетые в новую немецкую форму Преображенский и Семеновский полки и с протазаном в руках стоял в рядах своих «янычар», наблюдая, как бояре идут к «иордани». По обычаю, царь должен был участвовать в шествии, и патриарх должен был окропить его святой водой из проруби – теперь все обычаи были забыты [Желябужский, 1997. C. 311].
Январь 1699 г. был решающим периодом противостояния царя и Боярской думы. В итоге Дума был сломлена и практически исчезла со страниц исторических документов. «Приговоры этого учреждения, прежде всем руководившего… делаются малозаметным, редким явлением; на место боярских приговоров в актах становятся именные указы и высочайшие резолюции», – констатирует В. О. Ключевский [1882. С. 447]. «Самое главное, – свидетельствует Гвари-ент, – заключается в том, что царь с каждым днем все больше и больше убеждается в том, что во всей империи не найдется ни одного из его родственников по крови и никого из бояр, которым можно было бы доверить важное дело, поэтому он вынужден возложить тяжкое бремя империи на себя и отстранить от дел бояр (которых он называет неверными собаками), чтобы по-новому и иначе взяться за управление» [Бушкович, 2008. C. 213].
Наиболее яркое описание произошедшего переворота дал прусский посол И. Г. Фок-керодт: «С этой (стрелецкой. – С. Н .) казни… Петр пользовался самой полной самодержавной властью в духовных и светских делах… и подлинно заставил своих дворян почувствовать иго рабства: совсем отменил все родовые отличия, присуждал к самым позорным наказаниям, вешал на общенародных виселицах самих князей царского рода… всех без исключения дворян принуждал к военной службе под страхом тяжкого наказания, не давал значения ни какой другой чести или преимуществам, кроме таких, какие присваивал каждому чин его, приобретенный службой…» [2000. С. 33– 34]. «Он отнял у всех дворян от высшего, до низшего, самую малейшую тень их старых преимуществ, – уточняет Фоккеродт, – и отменил старинный образец, по которому в законах и указах упоминалось о согласии бояр» [Там же. С. 32].
В этом свидетельстве Фоккеродта речь идет о старинной формуле: «Великий государь указал и бояре приговорили», которая обычно сопровождала важнейшие указы. Такие указы изредка появлялись и после 1698 г., но, по-видимому, Ближняя канцелярия вставляла эту формулу по традиции, уже не созывая Думу [Бушкович, 2008. C. 216]. Во всяком случае, прусский посол верно уловил смысл перемен: царь перестал советоваться с боярами. Это особенно проявилось в общении Петра I с иностранными послами: царь стал вести дипломатические переговоры один, не соблюдая официальных церемоний и сохраняя результаты переговоров в тайне от высших сановников [Павленко, 2010. С. 127].
Разрыв царя с Думой сопровождался окончательным разрывом царя с патриархом Адрианом. Еще незадолго до отправления Великого посольства царь называл патриарха Государем и оказывал ему знаки почтения. Но по возвращении Петра, когда начались стрелецкие казни, патриарх осмелился прийти в застенок с иконой и умолять царя смягчить свой гнев. Это противодействие вызвало крайнее раздражение Петра, он запретил без своего разрешения создавать новые монастыри, отменил торжественное шествие патриарха на пасху, а также обычай целования царя с патриархом на Новый год. На праздновании Нового года (которое было перенесено на 1 января) патриарх по обычаю должен был благословить царя, но Адриан сказался больным и Петр остался без благословения. В 1700 г. Адриан умер, и Петр стал управлять церковью – так же как всем государством – с помощью именных указов [Адриан, 1848].
Итак, Петр I отстранил от власти Боярскую думу, взял все управление на себя и стал абсолютным, неограниченным монархом. Это был государственный переворот. Или «революция сверху» – как называют такие абсолютистские перевороты скандинавские историки [A Revolution…, 2000]. Самое удивительное, что этот переворот до последнего времени не был замечен историками. Е. В. Анисимов вскользь отмечает, что «по мере установления самодержавия Боярская дума… утрачивала свое значение» [1989. С. 151]; Н. И. Павленко пишет об «эволюции политической системы страны в сторону абсолютизма» [2010. С. 107]; Г. В. Талина отмечает, что «в середине XVII в. самодержавная Россия вступала в пору развития абсолютизма» [2010. С. 143] – во всех случаях имеется в виду эволюционное развитие, которое продолжало тенденции XVII в. Лишь Пол Бушкович, нашедший в венских архивах донесения Гвариента, утверждает, что «в 1699 г. Петр стал пра- вить Россией совершенно по-новому…» [2008. C. 216]. При этом Бушкович добавляет, что Н. Г. Устрялов в своей публикации этих донесений изъял места, где говорится о конфликте царя с боярами [Там же. С. 208]. Эти вновь открытые американским исследователем документы позволили ему говорить о резких и радикальных переменах – но даже он не называет эти перемены революцией или переворотом. Почему? Бушкович пишет, что он не может ответить на вопрос, являлась ли Дума ограничителем царской власти, поскольку «в России отсутствовала научно-правовая традиция» [Там же. С. 34]. Другими словами, при отсутствии четкой правовой фиксации прерогатив различных властей нельзя сказать, что одна из сторон нарушает эти прерогативы; нельзя сказать, что Петр совершил переворот, потому что в России не существовало конституции. Это не совсем так. Во-первых, в России существовал основной закон – Уложение 1649 г., и в цитированной выше статье Уложения ясно написано, что царь должен править вместе с Думой. А во-вторых, критерии современного «правового общества» неприменимы к реальностям XVII в., когда традиция играла большую роль, нежели писаное право. И согласно этой традиции, царь должен был править вместе с Думой. Таким образом, лишив Думу ее властных полномочий, Петр I произвел государственный переворот.
Как согласуются эти события с теорией военной революции? Как отмечалось выше, теория говорит, что создание новой армии требует больших затрат; в этой обстановке монархи пытаются ввести новые налоги и заставляют аристократию поступиться частью своих доходов. Это приводит к конфликту между аристократией и монархом, который решается с помощью военной силы, т. е. с помощью новой армии. В аналогичной ситуации в Бранденбурге «Великий курфюрст» поначалу пытался добиться введения налогов через ландтаг, но после нескольких компромиссов перестал созывать сословия и начал собирать налоги с помощью своих солдат. В Дании под впечатлением военного поражения низшие сословия заключили союз с королем, отняли власть у аристократического риксрода и передали неограниченные полномочия королю. То же самое произошло и в Швеции. В двух последних случаях королевская гвардия стояла как бы на заднем плане, заставляя аристо- кратию смириться одним лишь своим присутствием. Нечто подобное произошло и в России. В соответствии с теорией, создание новой армии вызвало финансовый кризис, и Петр попытался получить деньги от горожан, вместе с тем лишив аристократию части ее власти и доходов. Сопротивление Боярской думы привело к конфликту, который Петр разрешил с помощью своих преобра-женцев. Ему потребовалось лишь продемонстрировать силу и приказать публично высечь одного из бояр. После этого Боярская дума утратила свои властные полномочия – ее судьба была такой же, как судьба риксрода в Дании и Швеции.
Однако по сравнению с датской и шведской «революциями сверху» российские события имели определенную специфику. Петр сумел обойтись без созыва «рикста-га» – т. е. Земского собора, и не пытался противопоставить Боярской думе низшие сословия. Он разрешил конфликт с помощью военной силы – так, как это, в конце концов, сделал «Великий курфюрст». Таким образом, мы наблюдаем некий «промежуточный вариант»; исторический процесс в России следовал закономерностям «военной революции», но не повторял в точности того, что происходило в других странах.
Список литературы Петр I и происхождение российского абсолютизма
- Аврех А. Я. Русский абсолютизм и его роль в утверждении капитализма в России//История СССР. 1968. № 2. С. 82-104.
- Адриан//Чтения в императорском обществе истории и древностей Российских. 1848. № 8. С. 30-34.
- Анисимов Е. В. Время петровских реформ. Л.: Лениздат, 1989. 495 с.
- Анисимов Е. В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в первой четверти XVIII века. СПб.: Дмитрий Буланин, 1997. 331 с.
- Базилевич К. В., Богоявленский С. К., Чаев Н. С. Царская власть и Боярская дума//Очерки истории СССР. Период феодализма. XVII в. М., 1955. C. 344-360.
- Богословский М. М. Петр I. Материалы к биографии. М.: Центрполиграф, 2007. Т. 4. 544 c.
- Бушкович П. Петр Великий. Борьба за власть. СПб.: Дмитрий Буланин, 2008. 541 c.
- Грунд Г. Доклад о России в 1705-1710 годах/Пер., статья и коммент. Ю. Н. Беспятых. М.; СПб.: Изд-во РАН, 1992. 249 с.
- Желябужский И. А. Дневные записки//Рождение империи. М., 1997. С. 259-358.
- История России XVIII-XIX веков/Под ред. Л. В. Мило ва. М.: Эксмо, 2010. 784 с.
- История России с древнейших времен до конца XVII ве ка/Под ред. Л. В. Милова. М.: Эксмо, 2009. 766 с.
- Ключевский В. О. Боярская дума Древней Руси. М.: Тип. б. Миллера, 1882. 554 с.
- Ключевский В. О. Курс русской истории. М.: Гос. соц. эконом. изд-во, 1937. T. 3. 408 с.; Т. 4. 388 с.
- Корб И. Г. Дневник путешествия в Россию (1698 и 1699 гг.). СПб.: А. С. Суворин, 1906. 322 с.
- Козляков В. Н. Василий Шуйский. М.: Молодая гвардия, 2007. 336 с.
- Котошихин Г. О России в царствование Алексея Михай ловича. СПб.: Изд. Археогр. комиссии, 1859. 168 с.
- Маньков А. Г. Уложение 1649 года -кодекс феодального права России. Л.: Наука, 1980. 269 с.
- Маньков А. Г. Законодательство и право России второй половины XVII в. СПб.: Наука, 1998. 214 с.
- Медушевский А. Н. Утверждение абсолютизма в России. М.: Текст, 1994. 318 с.
- О повреждении нравов в России князя М. Щербатова и Путешествие А. Радищева. М.: Наука, 1983. 176 с.
- Павленко Н. И. Петр Великий. М.: Мир энциклопедий Аванта+ Астрель, 2010. 829 с.
- Павлова-Сильванская М. П. К вопросу об особенностях абсолютизма в России//История СССР. 1968. № 4. С. 71-92.
- Павлов-Сильванский Н. П. Феодализм в древней Руси. М.; Пг.: Прибой, 1924. 160 с.
- Перри Д. Другое и более подробное повествование о России//Чтения в императорском обществе истории и древностей Российских. 1871. № 2. С. 123-151.
- Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. СПб.: Тип. II Отд. собств. Е. И. В. канцелярии, 1830. Т. 3. 690 с.; Т. 6. 815 с.
- Седов П. В. Закат Московского царства. Царский двор конца XVII в. СПб.: Дмитрий Буланин, 2006. 603 c.
- Смирнов П. П. Правительство Б. И. Морозова и восстание в Москве 1648 г. Ташкент: Изд-во Ср.-Азиатск. гос. ун-та, 1929. 86 с.
- Талина Г. В. Выбор пути: русское самодержавие второй половины XVII -первой четверти XVIII в. М.: Русский мир, 2010. 448 с.
- Тихонов Ю. А. Помещичьи крестьяне в России. М.: Нау ка, 1974. 335 с.
- Фоккеродт И.-Г. Россия при Петре Великом//Неистовый реформатор. М., 2000. С. 9-104.
- Хеншелл Н. Миф абсолютизма: перемены и преемственность в развитии западноевропейской монархии раннего Нового времени. СПб.: Алетейя, 2003. 271 с.
- Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства в XVI-XVII вв. М.: Наука, 1978. 417 с.
- Эренмальм Л. Ю. Описание города Петербурга вкупе с несколькими замечаниями//Беспятых Ю. Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях. Л., 1991. С. 91-101.
- A Revolution from above? The Power State of 16th and 17th Century Scandinavia/Ed. by L. Jespersen. Odense: Odense Univ. Press, 2000. 383 p.
- Brewer J. The Sinews of Power: War, Money, and the English State, 1688-1783. N. Y.: Knopf, 1989. 289 p.
- Downing B. The Military Revolution and Political Change. Princeton: Princeton Univ. Press, 1992. 308 p.
- Dunning Ch., Smith N. Moving beyond Absolutism: was early Modern Russia a «Fiscal-Military» State?//Russian History/Histoire Russe. 2006. Vol. 33. No. 1. P. 19-43.
- Ostrowski D. The Façade of Legitimacy: Exchange of Power and Authority in Early Modern Russia//Comparative Studies in Society and History. 2002. Vol. 44. No. 3. P. 534-563.
- Roberts M. Essays in Swedish History. Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1967. 358 p.
- White L. Medieval Technology and Social Change. Oxford: Clarendon Press, 1962. 194 p.