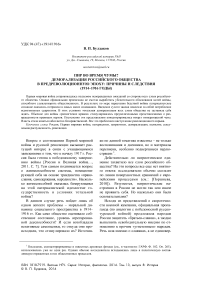Пир во время чумы? Деморализация российского общества в предреволюционную эпоху: причины и следствия (1914-1916 годы)
Автор: Булдаков Владимир Прохорович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 8 т.13, 2014 года.
Бесплатный доступ
Первая мировая война сопровождалась подъемом неоправданных ожиданий со стороны всех слоев российского общества. Однако официальная пропаганда не смогла выработать убедительного обоснования целей войны, способного удовлетворить общественность. В результате по мере нарастания бедствий войны патерналистское сознание оказалось потрясено в самых своих основаниях. Введение сухого закона повлекло за собой потребление всевозможных суррогатов. В этих условиях тотальная деморализация всех слоев общества не заставила себя ждать. Обычное для войны «размягчение нравов» стимулировалось преувеличенными представлениями о развращенности правящих верхов. Постепенно эти представления концентрировались вокруг императорской четы. Власть стала казаться абсолютно безнравственной. Все это приблизило наступление революционного взрыва.
Россия, первая мировая война, патернализм, патриотизм, деморализация, пьянство, сексуальная распущенность, революция
Короткий адрес: https://sciup.org/147219156
IDR: 147219156 | УДК: 94
Текст научной статьи Пир во время чумы? Деморализация российского общества в предреволюционную эпоху: причины и следствия (1914-1916 годы)
Вопрос о соотношении Первой мировой войны и русской революции вызывает растущий интерес в связи с учащающимися заявлениями о том, что к началу 1917 г. Россия была готова к победоносному завершению войны [Россия и Великая война…, 2011. С. 7]. Тем самым поднимается вопрос о жизнеспособности системы, позиционирующей себя на основе триединства «православия, самодержавия, народности». Насколько жизнеспособной оказалась базирующаяся на этой патерналистской идеологеме государственность в условиях тотальной войны?
В данном случае речь пойдет лишь об одном аспекте проблемы – моральной динамике социального пространства в 1914– 1916 гг. Как само общество оценивало собственное состояние, уровень агрегированной дееспособности? И если возобладали негативные самооценки, то откуда они происходили, что стимулировало их? Источни- ки по данной тематике известны – не только воспоминания и дневники, но и материалы переписки, особенно подвергшиеся перлюстрации 1.
Действительно ли патриотическое единение захватило все слои российского общества? На эти вопросы все еще нет внятного ответа: исследователи обычно скользят по линии поверхностных сравнений с европейскими процессами (см.: [Поршнева, 2010]). Разумеется, патриотические настроения в России не могли так или иначе не проявить себя. Но насколько они были основательными?
Исходя из представлений о скоротечности военной кампании, официальная пропаганда (по аналогии с победоносной русско-турецкой войной) предложила народам России защитить «братьев-славян», а заодно выполнить освободительную миссию по отношению к прочим «угнетенным» народам. Речь шла именно о славянах, а не единовер- цах-православных. Идея была ущербной с самого начала: православная Болгария, «обиженная» результатами балканских войн, была ориентирована на Германию и со временем выступила на ее стороне; примирение с католической Польшей выглядело проблематично.
Характерно, что официальная пропаганда отбрасывала либеральные представления о «борьбе права с произволом» (право представляла Антанта, произвол – «тевтоны»). Правительство и общественность с самого начала заговорили на «разных языках». Вдобавок власти сделали упор на расовый (т. е. противный христианству) компонент мирового столкновения. При этом церковная пресса заговорила о том, что война ведется против протестантизма, католицизма, мусульманства, баптизма и прочих ересей. Только победа над ними сулила «мирное царство Божие» (Церковный вестник. 1914. № 52. 25 дек. Стб. 1573). Писали также о застарелом конфликте культур Запада и Востока. В епархиальной прессе постоянно муссировалась тема «ратного подвига» как искупления греха (не вполне ясного рядовому прихожанину) (см.: [Букалова, 2011. С. 345–348]).
Эта особенность официальной пропаганды вынуждала усомниться в справедливости войны за «общее отечество» не только российских лютеран, но и христианских несла-вян (грузин, армян, не говоря уже о малых народах) России. В ряде случаев церковная пропаганда принимала излишне «секуляризованный» характер. «Ваши деньги превратятся в патроны и снаряды», – взывал в апреле 1916 г. один из многочисленных «Приходских листков» (цит. по: [Кандидов, 1936. С. 9]).
Впрочем, сомнительно, чтобы основная масса народа обратила внимание на подобные неувязки. Теоретически основная масса россиян в лице крестьянства могла защищать лишь ценности своего «улучшенного» морально-бытового уклада. Для всякого традиционного общества первостепенное значение имеет фактор непосредственной угрозы извне. А он в официальной пропагандистской кампании практически не был задействован: вместо этого были воздвигнуты туманные абстракции.
Следует заметить, что либерально-интеллигентские патриотические доктрины существовали независимо как от официоза, так и народных представлений о смысле войны. Для национального патриотизма европейского типа Россия не созрела. Со временем интеллигентские представления о войне могли стать антитезой официальной пропаганде. Но они же оставались чуждыми для народа, которого могли возбудить только утопии, созвучные его исторической памяти.
Известно, что риторика победы оказалась более чем уязвимой во всех странах. «Никогда еще патриотизм не был таким безумным, – писали в августе 1914 г. в Россию из нейтральной Швейцарии. – Все, воображающие, что они борются за патриотическую идею, – ошибаются» 2. Из Франции в октябре 1914 г. сообщали, что этот «кричащий патриотизм ужасно действует на нервы и делает жизнь невыносимой» 3. Впрочем, таковы были отзывы отдельных эмигрантов, не затронутых патриотической лихорадкой.
Как бы то ни было, со временем во всех воюющих странах запас патриотизма стал иссякать. В России война, начавшаяся для некоторых под знаком отчаянного самопожертвования, медленно, но неуклонно стала оборачиваться вакханалией непотизма, коррупции, спекуляции. Но что подталкивало этот процесс? Откуда шло разложение: сверху или снизу?
Под выплеском патриотических эмоций скорее всего скрывался обострившийся инстинкт «общинного самосохранения». Судя по многочисленным демонстрациям в городах, он составлял весьма устойчивый элемент народной психики. При этом монархизм носил преимущественно символи-чески-ритуальный характер. Интенсивность базирующегося на нем патриотизма не исключала впадения в противоположную «крайность».
Патриотизм интеллигенции носил своеобразный – по большей части умозрительный – характер. Девятнадцатого сентября 1914 г. философ И. А. Ильин в связи с перспективой быть призванным армию признавался: «Возможность, что придется служить войне самыми низшими и элементарными сторонами тела и души, угнетала». Но узнав об освобождении от призыва, он почувствовал себя «как бы воскресшим» и начал обдумывать «публичную лекцию об “истинном патриотизме”» и сочинять «вступительную лекцию “война как духовное делание”» [1999. С. 80]. Ильин невольно обнажил особенность интеллигентского подхода к войне: народ обязан проливать кровь за неведомые ему ценности. А чтобы не «оторваться» от реалий войны, Ильин стремился к «личному общению с ранеными». Для тогдашних «властителей дум» война оставалась поводом для размышлений о ее «метафизическом» смысле. Бестактности своей позиции они не понимали.
Разумеется, со временем появились более осмысленные суждения. «Я совсем не верю в освободительный смысл войны…, – писал 1 августа 1915 г. М. А. Волошин из Биаррица Е. А. Волошиной в Феодосию. – Это война не национальная, не освободительная… Просто несколько осьминогов промышленности силятся пожрать друг друга, а заманивают благородной ложью» 4. Из Иркутской губернии в Москву зубному врачу Х. Б. Шварцману писал неизвестный корреспондент (вероятно, ссыльный): «Крайне глупо ожидать со стороны кого бы то ни было совершенно бескорыстного патриотизма…». Журналисты, считал он, не случайно ударились в ура-патриотизм: «В наш век купли-продажи, где решительно все подвергнуто спросу и предложению, всякое дело является либо ремеслом, либо коммерцией…» 5.
Поразивший Европу военный психоз некоторым русским эмигрантам казался противоестественным. Из нейтральной Швейцарии 17 августа 1914 г. с изумлением писали, что русские внезапно стали патриотами царя, а немцы и французы – патриотами собственных финансистов 6. Шестого октября 1914 г. некая В. А. Дилевская сообщала из Лондона Л. Н. Дилевской в Москву: «Хорошее воспитание получает современная молодежь, громящая немецкие магазины. Ведь это разврат, переходящий всякие границы… Это невероятный психоз». Трудно сказать, какая страна имелась в виду: то ли Англия, то ли Франция. В письме упоминалась «каторжная жизнь» русских, поступивших добровольцами во французскую армию, где «мародерство идет вовсю».
Но больше всего поражает признание: «Русские откровенно заявляют, что пошли в волонтеры потому, что скучно стало жить, захотелось побезобразить» 7.
Настоящего патриотизма было немного и в Германии (см.: [Verhey, 2006. P. 232, 234–238]). Русские эмигранты скептически отзывались и о британском патриотизме: «Железные дороги, фабрики и большие торговые предприятия заявили своим служащим, что если они не пойдут в армию, то им откажут от места – и пришлось выбрать – армию (британская армия строилась на добровольческих основах. – В. Б. ). Это английский патриотизм… Сколько пьянства. Когда заговорили о закрытии кабаков в 10 часов, поднялся гвалт, кабатчики кричали – мы разоримся и откажем служащим» 8. Своего рода «патриотическое» ханжество поразило все воюющие страны. «Мне кажется, что у нас в обществе начинают теряться понятия об общечеловеческой культуре, и я с ужасом смотрю на то, что будет в Европе после войны» 9, – писал в сентябре 1914 г. С. П. Мельгунов князю П. Н. Кропоткину в Лондон. В России заговорили о патриотической «моде», причем говорили, что «под патриотический шум обделывают свои делишки» даже земские деятели 10.
Уже в сентябре 1914 г. в интеллигентской переписке высказывались суждения о том, что патриотизм, насаждаемый «попами и полицией» и апеллирующий к «исконным историческим началам» и пресловутым «трем китам… не привьется», поскольку правительство не желает сделать никаких уступок «затаенным, заветным желаниям общества» 11. В марте 1915 г. современники отмечали преобладание «скептицизма, который, как и всегда у нас, так скоро сменил первое увлечение и подъем духа» [Врангель, 2001. С. 111].
Естественно, начался поиск «виновных». «Год кончился для нас печально! – писал 22 июля 1915 г. московский историк М. М. Богословский, имея в виду годовщину с начала войны. – Не понимаю тех, кто складывает всю вину на управление. Может быть, оно у нас и худо, но только потому, что вообще мы сами худы. Каждый народ
-
7 Там же. Д. 978. Л. 78.
-
8 Там же. Д. 996. Л. 1582.
-
9 Там же. Д. 977. Л. 96.
-
10 Там же. Л. 55.
-
11 Там же. Л. 63.
достоин своего управления… Мы еще не поняли цены труда в свободном состоянии, как иностранцы, прелести труда самого по себе… Что же удивительного, что и управление у нас такое же, как мы сами!» [Богословский, 2011. С. 60–61].
Рано или поздно сомнения такого рода проникали во все слои общества. Не могли не коснуться они и армии, которая строилась в России на других нравственных и психологических основах, нежели в Европе (см.: [Wirtschafter, 1988]). Патерналистское упование на власть и командиров должно было постоянно подтверждаться. Но все чаще происходило нечто противоположное.
Пресловутый «сухой закон», первоначально введенный лишь на период мобилизации, вызвал массу восторгов. Но уже 16 августа была допущена продажа легких виноградных вин. Общественность насторожилась. «Продажа водки и вообще спиртных напитков должна быть обставлена так же, как продажа ядовитых веществ», – доказывал дамский журнал (Женское дело. 1914. № 17. 1 сент. С. 1). Св. Синод взывал: «Избавимся от рабства порокам – пьянства, сквернословия, буйства, бунтов против власти, грабежей, самоубийств» (цит. по: (Трезвая жизнь. 1914. № 10–11. Октябрь-ноябрь. С. 228)). Последовал окончательный запрет на продажу спиртного, на который вновь восторженно отреагировала пропаганда. «Лишь пронеслось в воздухе слово “война”, война небывалая, война всенародная, как все кругом переродилось: наш вековой недуг – пьянство… сразу отошел в область печальных преданий», – уверял «народный» саратовский журнал (Друг пахаря. 1915. № 1. 15 янв. С. 5). Кинофирма И. Н. Ермольева спешно запустила ленту «Безумие пьянства (Злая отрава)» [Вишневский, 1945. С. 35]. Фронтовые священники проповедовали: «Господь возложил на Россию тяжелый крест – водка; затем наложил еще один крест – война, первый крест снят, будет снят и второй» (Вестник военного и морского духовенства. 1915. № 9. 1 мая. С. 279).
Издатель неославянофильского журнала А. Н. Брянчанинов по поводу «отрезвления народа» писал: «Россия – страна неограниченных возможностей. Притом не только в дурном, но и хорошем…» (Новое звено. 1914. № 40–41. 4 окт. С. 2). Писатель Л. Андреев также был настроен оптимистично.
«Отрезвить пьяную Русь – это как бы сызнова сотворить ее, это вдохнуть в ее огромное и безалаберное тело такую необъятную мощь, такую светлую, животворную и необъятную силу…, – утверждал он. Правда, Л. Андреев тут же добавил, что у «великого Бога земли Русской велик и его антипод – Дьявол земли Русской» [1915. С. 85]. Действительно, призывная кампания обернулась чередой диких погромов: рекруты требовали водки (см.: [Беркевич, 1947. С. 19–21, 37–38]).
Довольно скоро появились признаки того, что «дьявол» перевешивает, причем в среде образованных людей. «В Вильно царит небывалое… оживление: улицы и рестораны полны военными и размалеванными девицами…», – отмечал искусствовед барон Н. Н. Врангель в апреле 1915 г. [2001. С. 118]. «В первые месяцы войны в Калуге сильно было развито пьянство, – свидетельствовал другой современник. – В магазинах вином не торговали, зато его продавали в ресторанах, и там пьянка шла жуткая» [Альперов, 1936. С. 356].
«Сухой закон» с самого начала обнаружил своего рода социальные «прорехи». «Интеллигенция свободно пьет в ресторанах первого разряда, обижая тем простой народ», – утверждали «народолюбивые» публицисты (Трезвая жизнь. 1914. № 12. Дек. С. 474). «Население Петрограда… было обложено данью в пользу ресторанов 1-го разряда: у себя дома нельзя было выпить ни одной рюмки вина, – для этого надо было непременно идти в ресторан, и там – пьянствуй сколько хочешь, – отмечалось в статье с характерным названием «Жалует царь, да не жалует псарь». – Были выработаны чрезвычайно глубокомысленные правила о том, в каких ресторанах водку можно пить стоя, в каких только сидя за столиками и т. д. … Выпить за 2 руб. бутылку мадеры нельзя, а за те же деньги выпить три бутылки дешевого красного вина – можно…» (Новое звено. 1914. № 40–41. 4 окт. С. 10). В декабре 1914 г. пресса отмечала, что на улицах вновь стали появляться пьяные (Трезвая жизнь. 1914. № 12. Дек. С. 476). «Деньги у народа теперь есть, а потому крестьяне покупают виноградное вино и им напиваются, – сообщали 8 сентября 1914 г. из Казани известному дипломату А. А. Нератову. – Конечно, это не в глухих деревнях, а поближе к городам…» 12.
В 1916 г. засомневались даже публицисты, убежденные в искоренении пьянства. «Как по мановению волшебного жезла Россия отрезвела», – писал воронежский автор, признавая, однако, что нужна организация разумных развлечений, поскольку «нарушено равновесие в быте деревни». По его мнению, деревня уже «изобретает новые дурманящие напитки», но «пока эти искания еще не вылились в определенную форму» [Фомин, 1916]. На деле процесс поиска «нового дурмана» зашел весьма далеко.
Известный правый деятель священник И. Восторгов жаловался епископу Серафиму в Челябинск на утрату способности чему-либо удивляться. «Все иррационально, т. е. совсем не поддается учету здравого смысла…, – писал он. – Мы в царстве пьяных, невменяемых людей… Над всем… – шкурный, карьерный интерес…» 13.
Правительство внесло свою лепту в деморализацию деревни: размер вспомоществования так называемым солдаткам подчас позволял им вообще забросить хозяйство. При этом пособие получали даже городские «жены» крестьян-отходников. Возникали абсурдные ситуации. «Законные жены в деревне не получают пособия, а городские содержанки имеют паек, – писал 14 сентября 1914 г. некий А. Приселков из Петрограда архиепископу Назарию в Одессу. – Эти развратные дамы бросают работу, довольствуются пайком и другим заработком» 14. Тема супружеской неверности становилась болезненной.
Некоторым казалось, что боевой дух армии высок, дурные настроения характерны только для тыла. Но по свидетельству одной медсестры на Кавказе, заведовать хозяйственной частью пристроились какие-то махинаторы, которые споили ее мужа-офицера, «добывая для него ящиками запрещенные на фронте напитки… и грабили все, что только попадалось под руку» [Семина, 1963. С. 20–21]. Из прифронтовой полосы Кавказского фронта сообщали то же самое: «Как шакалы на труп, собрались со всех концов края хищники войны, грабящие и солдат, и мирное население, и даже друг друга… За горами люди умирают, а за их спинами происходят страшные оргии». Автору письма казалось, что здесь можно «видеть все мер- зости и весь героизм, на который способны люди» 15.
Когда-то известный публицист А. С. Суворин приводил слова немецкого инженера о России: «У вас все протекция, взятки, подкуп…» [2012. С. 250]. Это вновь подтвердилось, причем в наименее неподходящий для империи момент. Так, «просвещенные врачи» за известную мзду охотно освобождали от армии; говорили, что в Москве этим занимается целая «шайка врачей» 16. Становилось известно, что в госпиталях «за взятки в 1 500 р[ублей] освобождают от армии здоровых» 17. Коррупция была многообразной: особые «толкачи» проводили товары по железным дорогам; полиция закрывала глаза на торговлю спиртом с нелегальных заводов [Друцкой-Соколинский, 2010. С. 92, 102]. «Всюду взятки, лень, хамство, произвол» 18, – жаловались современники.
Периодически власть во избежание пьяных погромов принималась избавляться от запасов спиртного. Двадцать второго февраля 1917 г. из Вятки сообщали: «13 и 14 февраля мы уничтожили запасы пива в присутствии полиции… Пиво… сливали в речку Хлыновку… Городовые и солдаты с ружьями не пропустили народ. [Но] возчики пили из бочек, несмотря на все строгости полиции. Даже у городовых и солдат были приготовлены за пазухой чашки или стаканчики, и в удобный момент они пользовались случаем… Рабочие, которые переворачивали бочки, тоже все были пьяны» [Письма вятского обывателя, 2009. С. 202–203].
Вятские обыватели о революции отнюдь не задумывались. Между тем было очевидно, что власть, отнимающая у подданных последнюю возможность релаксации, рискует очень многим.
Оказалось, что кое-кто воспринял войну как возможность «оттянуться». В то время как официальная пресса восхваляла общественность за заботу о раненых «солдатиках», обнаруживалось нечто иное. Так, сообщалось, что в дворянском поезде Красного креста «санитары кутят: по 25 руб. прокутили в Орле» 19. Некая «Надя» писала 19 сентября 1914 г. из Винницы «Его превосходи- тельству Б. А. Брусилову» в Глебово Московской губернии: «В тылу ужасно много мерзостей – интендантство и дамы страшно развратничают» 20.
«Война ознаменовалась великим делом – уничтожением пьянства, – писал по этому поводу Н. А. Бердяев в октябре 1915 г. – Но у русского есть темное вино, которого нельзя лишить его никакими внешними мерами и реформами» [1990. С. 58]. Тяжелый груз людского подсознания нельзя было одолеть простыми запретами. Возрождение пьянства было лишь одним из симптомов тотального «выгорания» духовного пространства.
В традиционном обществе перверсии добра и зла – поистине невообразимы. Обычно они зависят от особенностей социетального дисбаланса. Совершенно не случайно в 1916 г. начали говорить, что «сухой закон придумал пьяница Распутин», императрица спаивает царя, а вместо власти – «выродившаяся среда» (см.: [Булдаков, 2010. С. 110, 115, 117–118]). Разумеется, многим не хотелось в это верить. «Слышал от княгини… Щербатовой, что власть Распутина огромна: смены министров, митрополита произошли по его настоянию, – записывал в дневник историк А. Орешников. – Неужели все это правда? Финал может быть очень печальный» [Алексей Васильевич Орешников, 2010. С. 51].
Тем временем «распутиниада» нашла свое отражение в художественной литературе. Историк М. М. Богословский отзывался об этом так: «Прочел книжку Пругавина о Распутине, выведенном под фамилией Путинцева. В книжке описывается, как великосветские дамы ездят к Распутину и веруют в него… Не остается сомнения, что это не новое, а давнее сектантское движение, уродливое выражение сильного религиозного чувства, вышедшего за церковную ограду и блуждающего на распутии » [2011. С. 139]. Действительно, и семантика, и семиотика предреволюционного времени давали богатую пищу для размышлений.
Перед «блуждающим» массовым сознанием «патриотическая» пропаганда демонстрировала растущее бессилие. В начале войны в назидание отечественной публике бульварная пресса сообщала, что в Париже, где недавно был «бал драгоценных камней», модницы «сменили декольте на пелерину сестры милосердия» (Синий журнал. 1914.
№ 36. 2 окт. С. 10). Увы, феминизированный «патриотизм» продержался в России недолго. Жертвенный образ сестры милосердия, включая августейших особ, не привился. Порой писали, что «многие сестры милосердия не оправдывают возлагаемых на них надежд… от них дышит развратом и нашим козлиным офицерством» 21. Известную венерическую болезнь стали именовать «сест-ритом» [Степун, 1994. С. 303].
В силу предвоенной вульгаризации общественной жизни люди могли лишь имитировать патриотизм. «Тот же сдвиг от аристократизма (духа) к хамству произошел и в народе – мужик тоже охамился…, – уверял известный журналист И. Колышко. – Мужик катился в пропасть, обливаясь кровью, пока интеллигенция обливалась словами и слезами». Человеку, который сам поставлял материал для деградации общества (в чем со временем столь же «искренне» каялся), можно поверить [2009. С. 178].
О моральной деградации тыла фронтовики заговорили после неудач лета 1915 г. Некий житель Витебска в декабре 1915 г. писал: «Все с ума посходили в вихре удовольствий, франтовства, безумных трат благодаря неожиданной волне шалых денег. Забыто увлечение лазаретами, койками и пр. “Сестры”, являвшие подвиги в прошлом году, занялись теперь флиртом… Очень у них похоже на “пир во время чумы”» (цит. по: [Колоницкий, 2014. С. 118]). К этому времени война превратилась в обыденность; общественное внимание переключилось на сопровождающий ее аморализм. Последовала перверсия «вдохновляющих» образов.
В патерналистской системе военные неудачи порождают озлобленность против «не оправдавшего надежд» начальства; соответственно этому возникает реакция на недостатки его бытового поведения. Теперь младшие офицеры стали подозрительно коситься на старших, «окопники» возненавидели штабных, военные – штатских. Со временем армия возненавидела тыл в целом. «Слышали и о Распутине, но то было в “гнилом тылу”», – вспоминали некоторые генералы [Петров, 1965. С. 29].
«Погоней за удовольствиями» оказались захвачены не только столицы. Жизнь основательно вздорожала, но роскошь бросалась в глаза. Мемуаристы писали о модницах, руки которых «чуть ли не до локтей были в золотых браслетах». Обращали на себя внимание также «огромные кольца серег, золотые цепочки в три-четыре поворота вокруг шеи, перстни с большими камнями всех цветов – все это сверкало на солнце и встречалось на всех центральных улицах, на бульваре, в парке, не говоря уже о театрах» [Миклашевская, 2007. С. 79–80]. А столицу сравнивали с Вавилоном, где «скопилась… масса людей, у которых в руках лишние деньги, едущих сюда спускать их и тут же наживаться по обстоятельствам военного времени» (День. 1915. 13 окт.). Справедливости ради следует сказать, что на деле основная масса мигрантов бедствовала. Но замечали не это.
Положение с увеселениями стало настолько неуместным, что возмутились министры. А. В. Кривошеин предложил сократить часы представлений в театрах, а затем «закрыть увеселения и рестораны» [Совет министров…, 1999. С. 227]. Вряд ли это могло спасти положение. В начале 1917 г. в Одессе «шла опера, царило веселье, маскарады и балы, шла крупная игра, и, если бы не запущенный вид города, трудно было бы догадаться о близости театра военных действий» 22. Некая Н. Оржевская в конце ноября 1916 г. писала из Житомира в Петроград: «Меня ужасает наша внутренняя разруха… Наряду с недостатком самого необходимого, швыряние деньгами, материалами и силами без всякого расчета» 23. Позднее «вхожий в кабинеты» журналист-авантюрист И. Колышко («Баян») так описывал атмосферу в верхах: «В особняке Кшесинской, в хоромах Магнуса, в укромном кабинете старика Суворина, в берлоге Распутина, в пышных залах у “Митьки” Рубинштейна, – в годы эти творилась не то мистерия, не то фарс императорской России, и было вавилонское смятение сословий, рангов, культур и дарований. Была сплошная авантюра. Не то отчаянием, не то торжеством звучала лебединая песнь режима» [2009. С. 296].
В кризисных патерналистских системах общественная деморализация с естественной легкостью приобретает антидинастиче-скую направленность. Общественность, обнаружив немощь власти перед лицом внешнего врага, устремляется на поиск «врагов», окружающих саму власть.
Порочность камарильи открывает наилучшую возможность к дискредитации власти в целом. По словам одного из губернаторов, «ненависть к личности, самому имени Распутина была в провинции единодушна и безгранична» настолько, что она стала переноситься на местную администрацию [Друц-кой-Соколинский, 2010. С. 186]. Конечно, дело было не в самом Распутине, а в востребованной десакрализации образа существующей власти.
Предвоенная Россия была отмечена заметным размягчением сексуальной морали. И это коснулось не только аристократии и образованных классов. «Благодаря Вербицкой женщина предстала развратной», – отмечал публицист, поспешно добавив, что война показала также «величие души русской женщины» (Женское дело. 1914. № 22. 15 нояб. С. 25–26). Увы, ситуация была не столь проста, и знаменитый роман А. Вербицкой «Ключи счастья» сыграл в этом далеко не главную роль. Война породила потребность в релаксации, в том числе и сексуальной.
Один офицер 23 ноября 1915 г. писал из Киева Ф. Г. Ефремову, работнику окружного суда в Воронеже: «Сослуживцы, среди которых имеются ребята, не любящие пропускать мимо баб, ввели меня в такие интимные кружки, нравы которых приводят даже меня, сорокалетнего старика, в немалое смущение… Меня познакомили с кружком гимназисток, которые занимаются весьма почтенным делом – миньеткой. Воистину и “невинность соблюдают и капиталец приобретают”. Ведь они при физической девственности, говорят, достигли большого совершенства… Все они получили весьма солидное образование в известной области. В этом обществе я чувствую себя слишком незрелым, посему счел за лучшее благородно ретироваться, вызвав весьма иронические улыбки некоторых почтенных коллег и не менее почтенных девиц. В общем, разврат в Киеве перешагнул всякие геркулесовы столбы…» 24.
Война основательно пошатнула традиционную – и без того достаточно пластичную – мораль. Любопытно, однако, что этот заурядный феномен получил на сей раз «ис- торическое» обоснование. «Со времен Петра и Екатерины русский разврат стал специфичностью, вроде русской закуски… Наша развратная аристократия ждала лишь случая, чтобы обнажиться…, – уверял И. Ко-лышко. – Не Распутин ее, а она его развратила… А любовные похождения отца Вос-торгова! А скандальная хроника иных наших монастырей!..» [2009. С. 179]. Разумеется, журналист по привычке «сгущал краски». На деле одна часть общества «пользовалась» случаем, чтобы «раскрепостится», а другая «негодующе» указывала на нее перстом. А в целом представления о «разврате» получили социально стратифицированное выражение: наиболее активно грешили «самые» верхи.
В декабре 1916 г. искренние монархисты признавали свое бессилие перед народной молвой. «Распутинщина… как гангрена, разъедала общественное мнение… Весь внутренний развал власти приписывался Распутину и Государыне, – писал один из наиболее преданных престолу губернаторов. – Общество негодовало, кричало и злословило. Мятлев под аккомпанемент рояля и без аккомпанемента пел и говорил свои грязноватые стишки, далее неслись двусмысленные словечки, сплетни и слухи. Растлевающий разврат цвел махровым цветком» [Друцкой-Соколинский, 2010. С. 192].
В «разоблачении» правящего режима общественность перешагнула привычные запреты. В Ростове-на-Дону в 1916 г. она занялась дискредитацией градоначальника генерал-майора М. С. Комиссарова, заподозренного в том, что он – внебрачный сын Александра III. Говорили, что он завел дружбу с «сомнительными людьми» из числа «комиссионеров и аферистов», что он «напивался до бесчувствия… позволял себе мочиться среди улицы, невзирая на присутствие городовых и посторонней публики…». Утверждали также, что одному из своих служащих он предлагал полюбоваться пришедшими к нему девицами «и выбрать себе одну, так как они отлично умеют делать “минет”». За М. С. Комисаровым числились контрреволюционные заслуги: срыв продовольственных погромов, инициированных солдатками, и нескольких забастовок. Возможно, его подозревали в организации еврейских погромов в период службы в МВД [Батюшин, 2007. С. 276–277]. Как бы то ни было, под давлением общественности
М. С. Комиссарова отправили в отставку. Но при этом, наряду с пенсией в 3 000 руб., министр внутренних дел А. Д. Протопопов просил вознаградить его за «отлично-усердную и полезную служебную деятельность» дополнительными выплатами «общей суммой до 10 000 руб. в год» 25. Трудно сказать, насколько обвинения против М. С. Комиссарова были справедливыми. Несомненно, однако, что общественность перестала стесняться в выборе средств для дискредитации нелюбимых администраторов. Очередь была за высшей властью.
Тема тотальной извращенности верхов становилась поистине всеобъемлющей. Корреспондент, назвавшийся «Женя» (возможно, это был известный философ Евгений Трубецкой), писал 25 ноября 1916 г. С . А. Пет-рово-Соловово в Москву: «Петроград дал много жутких впечатлений. Особенно жутки разговоры с бывшими обер-прокурорами… Волжин… утверждает, что до 50 % наших епископов грешат противоестественными пороками (Извольский говорит, что это преувеличение, но не отрицает, что зло распространено)…». Автор письма полагал, что «в Церкви начался тот ад, который одурманил Самого (Николая II. – В. Б. ) и тем самым отравил и государство» 26. Так думали многие. Один офицер в декабре 1916 г. писал из действующей армии полковнику А. И. Ергольскому в Петроград: «Одно время я до того ударился в пессимизм, что видел у нас чуть не “греческое” настроение позади, с пикантной эротической окраской» 27.
Понятно, что до низов слухи о нетрадиционной ориентации отцов церкви не доходили, но Синод оказался в эпицентре скандалов, связанных с Г . Распутиным. Как результат, некоторые епархиальные архиереи стали уклоняться от контактов с высоким начальством [Никон, 2004. С. 401–402]. Сказывалось и другое. В ноябре 1916 г. один из офицеров, наблюдавший как императрица прикладывается в церкви к руке Распутина, подошел к священнику со словами: «Батюшка! Что же это такое? У меня было две святыни: Бог и царь. Последней теперь не стало… Пойду пьянствовать!» [Шавельский, 1996. С. 280].
Частью «общественной порнографии» стали рассказы о половых достоинствах и особом «таланте» Г. Распутина. В частной переписке встречались суждения о том, что «старец» управляет Россией «за величину “до локтя”» 28. Простой народ недоумевал: «Как царь такое похабство у себя в доме терпит?» (см.: [Булдаков, 2010. С. 103–104, 110–111]). Туманное подозрение, что мужик может «иметь» все царство, довершило дело. «Распутин столь же закономерен, как и Ленин», – уверял И. Колышко [2009. С. 178]. Разумеется, Распутин и Ленин – явления разного социально-исторического порядка: первый стал воплощением разложения и распада империи, второй нес в себе надежду на преодоление царящего «разврата» с помощью утопии.
На убийство Распутина поэт В. П. Мят-лев сочинил стихи о том, как сыщики отыскали его труп по «таланту», торчавшему из проруби «как пень» 29. Представление о гигантском символе российского непотребства оказалось патологически навязчивым. Согласно одному свидетельству, убийцы Распутина первым делом заглянули ему в штаны и остались разочарованными [Михайловский, 1993. С. 454–455]. Поразительно, но после Февральской революции убийц Распутина едва не поставили в единый ряд борцов с «тиранами», начиная с декабристов (см.: [Струве, 1917]). А пока публика ликовала. «Я был на концерте Зилоти в Мариинском театре, – записывал в дневнике искусствовед Н. Пунин. – Имя Распутина не сходило с губ. После антракта парой смельчаков был потребован гимн; толпа поддержала тотчас же, театр гремел, настаивая на гимне. Гимн сыгран» [2000. С. 105]. В провинции на «радостное» известие реагировали не менее показательно: «Утоплен Распутин! Пришел гришкиным фаворитам конец» [Жукова, 1990. С. 98].
Некоторые убийцы Распутина были наказаны – но отнюдь не в обычном правовом порядке. Люди, преданные режиму, были поражены. По их мнению, «это означало оп- равдание политического убийства» [Друц-кой-Соколинский, 2010. С. 204]. Вопреки надеждам на прекращение разложения власти, после убийства «старца» его поклонники не угомонились. Говорили, что поклонницы Распутина берут в склянки воду с того места, где его труп был брошен [Алексей Васильевич Орешников, 2010. С. 98]. Вряд ли моральная деградация одних и бессилие перед этим процессом других могли быть приостановлены легальным путем.
Феномен «пира во время чумы» известен с незапамятных времен: люди спешат поглотить остаточные ресурсы неожиданно «укоротившейся» жизни. Это выливается в стремление преодолеть прежние табу. Нервное состояние рано или поздно перерастает в социальное безразличие. И вот тогда на опустевшей поверхности массового сознания вырастают новые, точнее – старые, как мир, доктринально-утопические соблазны.
Патерналистская система может предоставить гарантии относительно сносного существования только в «застойных» условиях. Всякое неожиданное потрясение для нее опасно, поскольку за эмоциональным перевозбуждением следует «моральное выгорание». В силу этого мировой катаклизм оказался губительным для России.
Ужасы мировой войны не могли не породить повсеместных мечтаний о справедливом мировом порядке. В сущности, «последняя» война затевалась ради «вечного» мира. Но утопическая идея мировой социальной революции могла основательно смутить умы только там, где старая власть предстала абсолютно аморальной.
FEAST IN TIME OF PLAGUE?
DEMORALIZATION OF RUSSIAN SOCIETY IN PRE-REVOLUTIONARY EPOCH:
REASONS AND CONSEQUENCES (1914–1916)
Список литературы Пир во время чумы? Деморализация российского общества в предреволюционную эпоху: причины и следствия (1914-1916 годы)
- Алексей Васильевич Орешников. Дневник. 1915-1933. М.: Наука, 2010. Кн. 1. 659 с.
- Альперов Д. С. На арене старого цирка. Записки клоуна. М.: Госполитиздат, 1936. 402 с.
- Андреев Л. Н. В сей грозный час. Статьи. Пг.: «Прометей» Н. Н. Михайлова, 1915. 110 с.
- Батюшин Н. С. У истоков русской контрразведки. Сб. док. и материалов. М.: ИКС-Хистори: Кучково поле, 2007. 496 с.
- Бердяев Н. Судьба России. М.: Сов. писатель, 1990. 346 с.
- Беркевич А. Б. Крестьянство и всеобщая мобилизация в июле 1914 г.//Исторические записки. 1947. Т. 23. С. 18-40.
- Богословский М. М. Дневники (1913-1919): из собрания Государственного исторического музея. М.: Время, 2011. 800 с.
- Букалова С. В. Православная печать о причинах Первой мировой войны (по материалам «Орловских епархиальных ведомостей»)//Первая мировая война: взгляд спустя столетие. М., 2011. С. 344-348.
- Булдаков В. П. Красная смута: природа и последствия революционного насилия. М.: РОССПЭН, 2010. 967 с.
- Вестник военного и морского духовенства. 1915. № 9. 1 мая.
- Вишневский В. Художественные фильмы дореволюционной России (Фильмографическое описание). М.: Госкиноиздат, 1945. 191 с.
- Врангель Н. Н. Дни скорби. Дневник 1914-1915 гг. СПб.: Журнал «Нева», 2001. 320 с.
- День. 1915. 13 окт.
- Друг пахаря. Двухнедельный журнал по сельскому хозяйству и землеустройству. Саратов. 1915. № 1. 15 янв.
- Друцкой-Соколинский В. А. На службе Отечеству. Записки русского губернатора. 1914-1918. М.: Русский путь, 2010. 318 с.
- Женское дело. 1914. № 17. 1 сент.; № 22. 15 нояб.
- Жукова Е. Д. На полках старинного шкафа. Семейная хроника. М.: Политиздат, 1990. 317 с.
- Ильин И. А. Собр. соч.: Дневник. Письма. Документы (1903-1938). М.: Рус. кн., 1999. 605 с.
- Кандидов Б. П. Империалистическая война 1914-18 гг. и религия (Пояснительный текст к серии диапозитивов на стекле). М., 1936.
- Колоницкий Б. И. Образ сестры милосердия в российской культуре эпохи Первой мировой войны//Большая война России: социальный порядок, публичная коммуникация и насилие на рубеже царской и советской эпох. М., 2014. С. 100-126.
- Колышко И. И. Всемирный распад. Воспоминания. СПб.: Нестор-История, 2009. 464 с.
- Миклашевская Л. П. Повторение пройденного. Из воспоминаний//Людмила Миклашевская, Нина Катерли. Чему свидетели мы были. Женские судьбы. ХХ век. СПб.: Журнал «Звезда», 2007. 670 с.
- Михайловский Г. Н. Записки. Из истории российского внешнеполитического ведомства. 1914-1920. М.: Международные отношения, 1993. Кн. 1. 520 с.
- Никон , арх. Антоний и его время. 1863-1936. Н. Новгород: Братство во имя св. Александра Невского. 2004. Кн. 2. 741 с.
- Новое звено. 1914. № 40-41. 4 окт.
- Первая мировая война: взгляд спустя столетие. М.: Изд-во МНЭПУ, 2011. 559 с.
- Петров П. П. Роковые годы. Калифорния, 1965. 274 с.
- Поршнева О. С. «Настроение 1914 года» в России как феномен истории и историографии//Российская история. 2010. № 2. С. 186-197.
- Письма вятского обывателя/Авт.-сост. Р. Я. Лаптева. Вятка (Киров): О-Краткое, 2009. 335 с.
- Пунин Н. Мир светел любовью. Дневники. Письма. М.: Артист. Режиссер. Театр, 2000. 528 с.
- Россия и Великая война. Опыт и перспективы осмысления роли Первой мировой войны в России и за рубежом. Материалы конференции. Москва,8 декабря 2010 г. М.: Изд во МГУ, 2011. 205 с.
- Семина Х. Д. Трагедия русской армии Первой Великой Войны 1914-1918 гг. Записки сестры милосердия Кавказского фронта. Нью Мексико: Rausen Bros, 1963. Кн. 1. 303 с.
- Синий журнал. 1914. № 36. 2 окт.
- Совет министров Российской империи в годы Первой мировой войны. Бумаги А. Н. Яхонтова (записи заседаний и переписка). СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. 560 с.
- Степун Ф. А. Бывшее и несбывшееся. СПб.: Алетейя, Изд. группа «Прогресс»-«Литера», 1994. 659 с.
- Струве А. Ф. Русское революционное движение//Великая русская революция в очерках и картинах. М., 1917. Вып. 1. С. 6-9.
- Суворин А. С. Россия превыше всего. М.: Институт русской цивилизации, 2012. 912 с.
- Трезвая жизнь. 1914. № 10-11. Октябрь-ноябрь; № 12. Дек.
- Фомин Г. Народные развлечения//В дни войны. Вестник воронежских организаций военного времени. 1916. № 2. 10 июля. С. 30-31.
- Церковный вестник. 1914. № 52. 25 дек.
- Шавельский Г. И. Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота. М.: Изд-во Крутицкого подворья, 1996. Т. 2. 413 с.
- Verhey J. The Spirit of 1914. Militarism, Myth and Mobiliza tion in Germany. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2006. 268 р.
- Wirtschafter R. The Ideal of Paternalism in the Prereform Army//Imperial Russia, 1700-1917: State, Society, Opposition. Essays in Honor of Marc Raeff. DeKalb, 1988. Р. 95-114.