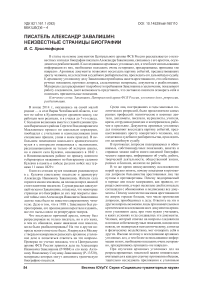Писатель Александр Завалишин: неизвестные страницы биографии
Автор: Христофоров Василий Степанович
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 1 т.16, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе документов Центрального архива ФСБ России рассказывается о неизвестных эпизодах биографии писателя Александра Завалишина, связанных с его арестом, осуждением и реабилитацией. К исследованию архивных уголовных дел, а тем более использованию информации из них, необходимо подходить очень осторожно, придерживаясь принципа «не навреди». Архивные документы позволяют воссоздать картину событий, предшествовавших аресту человека, ход следствия и судебного разбирательства, проследить его дальнейшую судьбу. К архивному уголовному делу Завалишина приобщены анкета арестованного, его собственноручные показания, протокол допроса, следственные материалы, документы о реабилитации. Материалы дела раскрывают подробности пребывания Завалишина в заключении, показывают работу следователя, дают возможность представить, что заставило писателя оговорить себя и подписать признательные показания.
Завалишин, центральный архив фсб России, уголовное дело, репрессии, реабилитация
Короткий адрес: https://sciup.org/147151080
IDR: 147151080 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.14529/ssh160110
Текст научной статьи Писатель Александр Завалишин: неизвестные страницы биографии
В конце 2014 г., оказавшись на своей малой родине — в селе Варна Челябинской области, я не мог не зайти в Кулевченскую среднюю школу, где работали мои родители, и я учился до 7-го класса. С большим волнением вместе с главой администрации Варненского района Сергеем Владимировичем Маклаковым прошел по школьным коридорам, пообщался с учителями и одноклассниками (они специально пришли, узнав о моем приезде). В небольшом помещении школьного краеведческого музея я с интересом ознакомился с экспонатами, рассказывающими не только об истории школы, но и самого села Кулевчи, основанного в 1842 г. в Новониколаевском районе по приказу военного губернатора и названного по болгарскому селению Кулевчи в память о победе русских войск над турками 11 июня 1829 г.
Один из стендов музея посвящен родившемуся в с. Кулевчи советскому писателю и драматургу Александру Ивановичу Завалишину. Жители села гордятся своим земляком, на площади перед школой стоит памятник писателю. Слушая рассказ заведующей музеем о Завалишине, я подумал, что некоторые страницы его биографии до сих пор покрыты завесой тайны: имя Александра Ивановича Завалишина долгие годы было не известно современному читателю. Дело в том, что в 1938 г. Завалишин был репрессирован, его произведения перестали издавать, все его пьесы сняли из репертуаров театров.
Что послужило причиной ареста, почему был репрессирован не только писатель, но и его жена, в чем их обвиняли, какое наказание они понесли, когда были реабилитированы? На эти и другие вопросы ясного ответа не было. Я вернулся в Москву с твердым намерением разыскать архивное уголовное дело и попытаться ответить на эти вопросы. Проверка по учетам показала, что в Центральном архиве ФСБ России хранятся дела на Александра Ивановича Завалишина (Р-9884) и его жену Антонину Николаевну Сосунову-Завалишину (Р-13520), материалы которых могут дополнить трагическую биографию писателя.
Среди лиц, пострадавших в годы массовых политических репрессий, были представители самых разных профессий: политические и военные деятели, дипломаты, писатели, журналисты, учителя, врачи, сотрудники разведки и контрразведки, рабочие и крестьяне. Документы архивных уголовных дел позволяют воссоздать картину событий, предшествовавших аресту конкретного человека, ход следствия и судебного разбирательства, проследить его дальнейшую судьбу.
В протоколах допросов подозреваемых и обвиняемых, собственноручных показаниях, анкетах и справках можно найти много сведений биографического характера, информацию об учебе, работе, творческой деятельности, общественной жизни, родных и близких, коллегах по работе.
В то же время неискушенному исследователю порой трудно понять, почему показания в протоколах допросов большинства арестованных лиц так путаны и противоречивы. Почему подозреваемый в первые дни после задержания, как правило, отрицал свою вину, а через несколько дней или недель соглашался с обвинениями и подписывал все документы. Почему количество вызовов арестованного на допрос гораздо больше, чем число протоколов допросов, приобщенных к делу. Ответить на эти и другие вопросы возможно лишь при внимательном и критическом исследовании всех документов архивного уголовного дела, при этом нужно учитывать, в каких условиях и где создавались эти документы. Человек, который отвечал на вопросы следователя или писал собственноручные показания, находился в неволе, он подвергался психологическому, а иногда и физическому воздействию, мог оговорить себя и других. Именно поэтому к исследованию архивных уголовных дел, а тем более использованию информации из них, необходимо подходить очень осторожно, придерживаясь принципа «не навреди».
При изучении архивных уголовных дел на репрессированных писателей важно внимательно вчитываться в каждую строчку протоколов обысков, тщательно исследовать приложения к уголовным делам, служебную переписку. Дело в том, что, когда проводился арест писателя, одновременно шел обыск по месту жительства, изымались все рукописи, дневники, переписка, любые документы, поскольку в них, по мнению следователей, могли содержаться доказательства преступной деятельности. Обнаружить в архивном уголовном деле писателей рукописи, дневники, письма, изъятые при аресте, считается большой удачей для архивистов, ведь эти документы представляют собой уникальный исторический источник и важную составляющую отечественного литературного наследия.
Судьба рукописей, изъятых у писателей, ученых, исследователей и журналистов, различна. Решение об уничтожении материалов либо приобщении их в дело принималось сотрудниками органов госбезопасности. Если в тексте содержались «антисоветские высказывания», «призывы к борьбе с существующим строем», рукописи приобщались к материалам уголовных дел. Так произошло, например, с делом ученого А. Л. Чижевского, в основу обвинения которого легли его записи, дневники, книги, названные следствием антинаучными и антисоветскими; с делом прозаика и литературоведа А. В. Белинкова, обвиненного в «изготовлении и хранении рукописей антисоветско-террористического содержания».
В ряде случаев рукописи арестованных направлялись в архив органов безопасности, где они хранились до того момента, когда стало возможным вернуть изъятое авторам, их родным, музеям или госархивам. Так, 21 января 1965 г. в Институт мировой литературы были переданы личные документы и переписка М. Е. Кольцова1.
Хуже было, если, по мнению сотрудников госбезопасности, рукописи не представляли «оперативной и исторической ценности»: их просто уничтожали, составляя при этом соответствующий акт.
В конце 1980 — начале 1990-х гг. документы репрессированных писателей и поэтов активно передавались в Государственный архив литературы и искусства (ныне Российский государственный архив литературы и искусства — РГАЛИ). Это рукописи стихотворений Ю. О. Домбровского, О. Э. Мандельштама, Н. И. Кочкурова (Артема Веселого), Е. Н. Забелина; машинописный экземпляр одной из глав романа А. П. Платонова «Чевенгур» с авторскими пометками; поэмы «Погорельщина», «Песнь о Великой матери» и другие — Н. А. Клюева; повесть «Невольный переулок» прозаика С. Д. Кржижановского; личная переписка и черновые записи поэта Н. С. Гумилева; поэма-памфлет «Путешествие К. Маркса в Россию» литературоведа И. В. Ильинского; тетради со стихами, дневниковыми записями и литературоведческими работами поэтессы Н. Д. Ануфриевой и др.
Возвращались рукописи и родственникам репрессированных. Например, внучке профессора-искусствоведа А. И. Некрасова были переданы его неопубликованные труды по истории древнерусской литературы и о русском искусстве; сыну известного экономиста А. В. Чаянова — рукопись «Парки и аграрная реформа»; вдове философа А. Ф. Лосева — его неопубликованные труды: перевод книги Дионисия Ареопагита «О церковной иерархии», «Вагнер, Скрябин и гибель европейской культуры», дневники 1914—1919 гг.; дочери биофизика А. Л. Чижевского — пять дневников, рукописи «Россия и просвещение» и «Критические этюды», книга «Физические факторы исторического процесса», листы из книги «Борьба за науку»; вдовам поэтов С. Н. Маркова и Л. Н. Мартынова — их автографы и неопубликованные произведения; внуку М. А. Шолохова — письма писателя. В 2002 г. музею в станице Вешенская Ростовской области были переданы неизвестные автографы М. А. Шолохова. В 2008 г. внучке писателя Д. В. Фибиха — его фронтовые дневники. В 2013 г. широкий резонанс получила передача Центральным архивом ФСБ России в РГАЛИ рукописи романа В. С. Гроссмана «Жизнь и судьба».
Однако судьба некоторых рукописей, дневников, переписки репрессированных литераторов до настоящего времени остается неизвестной. Так произошло, например, с рукописями Исаака Эммануиловича Бабеля, изъятыми у него при аресте [5].
Однотомное архивное уголовное дело № Р-9884 на Александра Ивановича Завалишина велось в 9-м отделении 4-го отдела2 Главного управления государственной безопасности НКВД СССР с 28 января по 31 марта 1938 г. В анкете арестованного и протоколе допроса содержатся биографические данные, сведения о происхождении, составе семьи, трудовой, политической, творческой деятельности.
Александр Иванович Завалишин родился 30 июня 1891 г. в поселке Кулевчинском Николаевской станицы бывшего Оренбургского Казачьего войска (ныне с. Кулевчи Варненского района Челябинской области), в бедной казачьей семье. В 1904—1905 гг. его отец — Иван Анисимович — участвовал в русско-японской войне. На войне он был ранен и служить уже не мог. Волостное правление поручило Ивану Анисимовичу возить почту односельчанам.
В детстве Александр Иванович присматривал за утками у местного лавочника, потом батрачил. Он учился в казачьей школе и окончил ее с похвальным листом. Благодаря хорошему почерку, станичный писарь взял Завалишина в переписчики. Позже он работал переписчиком в Белорецком волостном правлении, в Башкирском сельском правлении и в Верхнеуральске — в казачьем управлении и других учреждениях. В 1910 г. Завалишин поступил на военную службу в войсковое хозяйственное управление в Оренбурге. Прослужив более года, он был уволен сначала на один год из-за зрения, потом и на второй год и, в конце концов, ушел со службы совсем. В это время Александр Иванович работал в переселенческом управлении в земстве, писцом, машинистом и статистиком в губернском правлении. До 1914 г. учился в кружках по самообразованию и на частных веч ерних курсах. Уже в это время у
Завалишина проявился интерес к писательству. Молодые литераторы в 1911 г. в Оренбурге опубликовали сборник «Серый труд», который через месяц был конфискован из-за «крамольного» содержания. В этом сборнике был напечатан рассказ Завалишина «Душегуб и ведьма» — небольшая бытовая зарисовка. В 1913 г. кружок молодых литераторов выпустил новый сборник «Севы», в нем был напечатан рассказ Завалишина «Жизнь, ты нужна».
В 1915—1917 гг. Завалишин учился в Москве, в народном университете им. Шанявского.
В Февральской революции 1917 г. он принял самое активное участие. Был выдвинут от рабочих и служащих членом конфликтной комиссии при Главном комитете Всероссийского земсоюза. В августе 1917 г. Александр Иванович уехал в Оренбург, где казаками был избран в войсковые секретари Оренбургского войскового правительства, но уже в декабре 1917 г. на казачьем войсковом круге сложил с себя полномочия.
17 января 1918 г. Завалишин был избран членом президиума Оренбургского Совета казачьих депутатов, а в апреле 1918 г. назначен редактором «Троицких известий» уездного Совета депутатов. После захвата Троицка белочехами и дутовцами Завалишин выехал в Томск, а оттуда — к партизанам в Нарымский край. После освобождения Томска от Колчака до апреля 1920 г. работал заведующим отделом народного образования. Летом 1920 г. в Кулевчах Завалишин стал членом РКП(б). В октябре 1920 г. он был избран в сельсовет, затем делегатом на волостной съезд, проходивший в поселке Кате-нинском, позже — на губернский съезд в Челябинск. В 1921 г. на губернском съезде Александр Иванович был избран членом губисполкома и делегатом на VIII Всероссийский съезд Советов. Творческую работу Александр Иванович не прекращал и в годы Гражданской войны. До 1922 г. он работал ответственным секретарем в редакции газеты «Советская правда» («Челябинский рабочий»). В это время на сцене Народного дома Челябинска была поставлена его пьеса «Бывшие». В августе 1922 г. он стал сотрудничать с редакцией крестьянской газеты «Беднота». Очерки и рассказы, которые публиковались в этой газете, в дальнейшем вошли в сборники рассказов «Не те времена» и «Скуки ради», напечатанные в 1925 г.
В июле 1930 г. Завалишин три месяца находился в творческой командировке на строительстве Магнитогорского металлургического комбината. Видел, как возводилась плотина на реке Урал. Впечатления от поездки стали основой знаменитой пьесы «Стройфронт», которая в мае 1931 г. ставилась на сцене Московского театра Революции (Московский академический театр им. Вл. Маяковского).
В 1934 г. Александр Иванович вступил в Союз советских писателей.
Творческая деятельность писателя прервалась в январе 1938 г., когда Завалишин был арестован органами НКВД СССР. Предварительное следствие по такому сложному уголовному делу, как обвинение А. И. Завалишина в покушении на террористический акт (ст. 58-8 УК РСФСР) длилось менее 2 месяцев.
Основанием для ареста писателя послужила справка, составленная 30 декабря 1937 г. в 9-м отделении 4-го отдела ГУГБ НКВД СССР. В справке говорилось: «Показаниями осужденного террориста Карпова М.1 и арестованного Д. Д. Егорашвили2 установлено, что Завалишин А. И. является активным участником террористической группы литераторов, которой руководил Канатчиков3 (осужден). На сборищах группы, происходивших систематически в период 1932—1936 гг. на квартирах Карпова, Завалишина, Батрака 4 и др., были выработаны программно-тактические установки борьбы против ВКП(б) и советского правительства, причем уже в начале 1935 г. группа стала на путь применения террора в отношении руководителей ВКП(б). <…> На сборищах группы был выработан конкретный план совершения террористического акта против руководителей ВКП(б) на одном из съездов писателей и были намечены физические исполнители террористического покушения»5. 28 января 1938 г., т. е. спустя почти месяц после написания справки, на документе появилась резолюция наркома внутренних дел Н. И. Ежова: «Арестовать».
Ордер на арест и обыск был подписан 31 января 1938 г. первым заместителем наркома внутренних дел СССР М. П. Фриновским6. Согласно сохранив- шимся документам после обыска на Лубянку были доставлены «1) кандидатская карточка ВКП(б), <…> 2) паспорт, <…> 3) дневник, принадлежащий Завалишину, 4) шесть книжек автора Завалишина, 5) одна книжка Бухарина, 6) разная переписка с адресами и телефонными записями»1.
-
1 февраля Завалишин заполнил анкету арестованного во Внутренней тюрьме НКВД. 2 февраля он был вызван на допрос, протокола которого в деле нет. Единственный протокол, приобщенный к делу, датируется 31 марта. После этого, 1 апреля, Завалишин был переведен в Бутырскую тюрьму.
Правда, перед протоколом от 31 марта подшиты недатированные собственноручные показания писателя, где он говорит: «Я арестован за свою антисоветскую деятельность. Передо мной встал вопрос, как быть дальше. Лгать и запираться? Не выйдет, и надоело жить двойной жизнью. Поэтому я решил рассказать откровенно о своей и других антисоветской деятельности. Моя литературная деятельность была тесно связана с деревней. Получилось же так, что старая деревня и ее мелкобуржуазная, а попросту говоря, кулацкая идеология довлела надо мной, как и на многих других, крестьянствующих литераторах. Новую же деревню, колхозную, мы не принимали. <…> Антисоветская деятельность нашей группы заключалась в том, что мы влияли на окружающих нас неустойчивых элементов в антисоветском духе и, по существу, пропагандировали в своих произведениях наши антисоветские взгляды. В общем, наша группа докатилась до того, что каждый из нас (себя я не в праве сколь-либо выдвинуть из этого числа) являлся подготовленным человеком для контрреволюционной деятельности. <…> Вполне понятно, собираясь по 2, по 3, мы высказывали резкую враждебность к ЦК и Сталину, надеялись на какие-то силы, которые изменят существующее положение»2.
Находясь под сильным психологическим давлением, Завалишин оговорил себя, о чем свидетельствует протокол его допроса: «Я признаю себя виновным в том, что являлся участником антисоветской группы литераторов, организованной троцкистами Канатчиковым и Карповым. Группа эта сложилась при следующих обстоятельствах. Я был членом общества пролетарско-колхозных писателей (РОКП)3 и примыкал к группе Батрака. Несмотря на ликвидацию РОКП в 1932 г., наша группа <…> сохранилась. <…> Мы считали себя крестьянскими писателями и являлись выразителями в литературе этих крестьянских настроений. Ликвидация РОКП вызывала в нас опасение, что нас, крестьянских писателей, в Союзе советских писателей будут затирать. <…> Мы считали, что деревня, и только она, является выразителем истинно русского духа, и держались точки зрения, что город и при советской власти, как и всегда, стремится заглушить, эксплуатировать деревню. <…> С точки зрения сохранения и упрочения советской власти в условиях Гражданской войны, думали мы, — политика была правильной, но, когда все это было уже далеко позади, то отношение советской власти к крестьянству, самому большому классу страны, мы находили несправедливым. К концу 1934 г. наша группа окончательно перешла на антисоветские позиции. Наши взгляды сводились к следующему: 1) участники группы стояли на той точке зрения, что партия переродилась, что в партии нет демократии; 2) участники группы пришли к выводу о порочности и несостоятельности колхозного строя; 3) о порочности всей системы промышленности, построенной на неверных, непрочных основах; 4) в силу этого невозможен расцвет страны и тем самым невозможно и построение социализма в нашей стране; 5) мы делали вывод о том, что неизбежен возврат к капиталистическим формам хозяйства. <…> Исходя из этого, мы считали необходимым насильственное устранение террористическими методами руководства партии, в первую очередь Сталина и замену нынешнего руководства троцкистами и правыми, могущими повести страну к возврату на капиталистический путь развития. <…> Нам казалось — вся тяжесть положения в стране зависит от политики ЦК и лично Сталина. В наших беседах личность Сталина привлекала особое внимание. Мы были проникнуты злобой, желчью и ненавистью по отношению к нему. <…> Ненависть к Сталину высказывал неоднократно я и все остальные участники нашей организации»4.
Необходимо отметить, что работа следователя по делу Завалишина и других писателей, которые были арестованы одновременно с ним, представляла собой настоящий конвейер. Перечисленные позиции «антисоветской группы», в которую они все якобы вошли, практически дословно обозначены в протоколе допроса Д. Д. Егорашвили от 21 декабря 1937 г., приобщенном к делу Завалишина. Еще тогда был сформулирован и вывод о «насильственном устранении террористическими методами руководства партии, в первую очередь, Сталина»5.
31 марта 1938 г. было утверждено постановление об окончании следствия по делу Завалишина, и писатель направил заявление на имя наркома внутренних дел СССР Н. И. Ежова: «Следствие по моему делу закончено. Прежде чем решать мою судьбу, прошу учесть, что на всем протяжении следствия, начиная с первого же допроса (это может полностью подтвердить мой следователь) я заявил, а в дальнейшем в своих показаниях при допросах ничего не скрыл о своей контрреволюционной деятельности, а также о террористической группе Карпова, Батрака и других, участником которой я состоял. Прошу также учесть, что кроме разговоров о терроре, которые я вел, конкретной террористической деятельностью я не занимался и никаких планов осуществления террора я не разрабатывал. Но должен понести наказание, так как террористические разговоры являются не украшением советского гражданина, а тягчайшим преступлением. Я — литератор, и поэтому прошу предоставить мне возможность созданием большой вещи (в любых условиях) искупить содеянное. <…> Меня не страшит смерть, тюрьма. Страшит лишь одно: уйти из жизни именно тогда, когда в стране развертывается такое великое социалистическое строительство, когда я впервые правильно расцениваю советскую действительность — не искупив своих преступлений»1.
Заявление было оставлено без ответа.
21 апреля состоялось закрытое судебное заседание выездной сессии Военной коллегии Верховного суда СССР (без вызова свидетелей, без участия адвоката и прокурора), на котором Завалишин не признал себя виновным и отказался от данных на предварительном следствии показаний, заявив, что находился в тот момент в «тяжелом моральном состоянии». А в последнем слове добавил, что напрасно себя оговорил, поскольку был потрясен своим арестом2. По обвинению в преступлениях, предусмотренных ст. 58-8 (террористический акт) и 58-11 (участие в контрреволюционной организации) УК РСФСР, Военной коллегией Верховного суда СССР Завалишин был приговорен к расстрелу с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества3.
Приговор был приведен в исполнение в тот же день на «расстрельном полигоне» НКВД близ совхоза «Коммунарка» Московской области [1]. А 13 мая был составлен акт о передаче вещей Завалишиных на хранение в домоуправление. Была изъято все, включая детские вещи. 1 июня имущество передали в Госфонд. Родным было сообщено, что Завалишин осужден на 10 лет.
Жена писателя А. Н. Сосунова-Завалишина как член семьи изменника Родины была арестована через неделю после гибели мужа — 28 апреля 1938 г. К ее делу подшит также единственный протокол допроса — от 9 мая. В нем Сосунова-Завалишина отрицала все обвинения следователя: «Соучастницей в антисоветской деятельности моего мужа Завалишина А. И. я не являюсь, виновной себя в этом я не признаю, о его преступной деятельности мне ничего не известно»4. Следствие по делу было закончено 22 мая. 26 июня Особое совещание при народном комиссаре внутренних дел СССР постановило «Сосунову-Завалишину Антонину Николаевну как члена семьи изменника Родины заключить в исправтрудлагерь сроком на восемь лет»5.
Вопрос о реабилитации был поднят женой писателя после того, как 16 сентября 1954 г. с нее самой была снята судимость: 4 января 1955 г. она направила заявление на имя главного военного прокурора: «Я прожила с Завалишиным Ал. Ив. 13 лет. До сего времени я не могу себе представить, чтобы он мог стать изменником Родины. Это был честный преданный партии и советскому государству человек. Уходя, он мне сказал: «Верь мне, как мужу и коммунисту, я ни в чем не виноват. Меня проверят, и мы опять будем вместе». Прошло 16 лет, и он не только не вернулся, а мне даже дали справку, что местонахождение его неизвестно. <…> Я надеюсь, что вы пересмотрите дело моего мужа Завалишина Ал. Ив. и реабилитируете его, т. к. это черное пятно незаслуженно лежит на мне и детях в течение 16 лет»6.
15 сентября 1956 г. Военная коллегия Верховного суда определила «Приговор <…> от 21 апреля 1938 г. в отношении Завалишина Александра Ивановича по вновь открывшимся обстоятельствам отменить и дело о нем за отсутствием состава преступления прекратить»2.
22 декабря 1957 г. Московское городское финансовое управление выплатило Антонине Николаевне стоимость конфискованного в 1938 г. имущества.
Работы Завалишина стали вновь издаваться после реабилитации. Жена писателя Антонина Николаевна Сосунова-Завалишина с трудом собирала произведения Александра Ивановича уже после его реабилитации. В 1959 г. вышел из печати сборник
Список литературы Писатель Александр Завалишин: неизвестные страницы биографии
- Дудина, З. Завалишин Александр Иванович /З. Дудина//Культура и искусство. -2013. -URL: cultandart. ru/society/73288-zavalishin_aleksandr_ivanovich
- ЦА ФСБ. Д. Р-1269.
- ЦА ФСБ. Д. Р-9884.
- ЦА ФСБ. Д. Р-13520.
- Христофоров В. С. Документы архивов органов безопасности об Исааке Бабеле/В. С. Христофоров//Российская история. -2015. -№ 1.