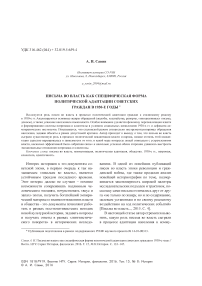Письма во власть как специфическая форма политической адаптации советских граждан в 1930-е годы
Автор: Савин Андрей Иванович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 8 т.15, 2016 года.
Бесплатный доступ
Исследуется роль писем во власть в процессе политической адаптации граждан к сталинскому режиму в 1930-е гг. Анализируются основные жанры обращений (жалобы, ходатайства, рапорты, «инициативные» письма, доносы), а также усвоение населением языка власти. Особое внимание уделяется феномену персонализации власти и формированию системы патронажа и клиентелы в условиях социальных катаклизмов 1930-х гг. и дефицита демократических институтов. Показывается, что сталинский режим сознательно инструментализировал обращения населения, задавая объекты и рамки допустимой критики. Автор приходит к выводу о том, что письма во власть сыграли существенную роль в процессе политической коадаптации власти и народа, однако степень этой коадаптации серьезно варьировалась в зависимости от того, в какой мере интересы людей совпадали с устремлениями власти, насколько эффективной была «обратная связь» и насколько успешно обеим сторонам удавалось выстроить эмоциональные отношения патронажа и клиентелы.
Письма во власть, коммуникация, политическая адаптация, общество, 1930-е гг., патронаж, клиентела, идентичность
Короткий адрес: https://sciup.org/147219645
IDR: 147219645 | УДК: 316.462
Текст научной статьи Письма во власть как специфическая форма политической адаптации советских граждан в 1930-е годы
Интерес историков к эго-документам советской эпохи, в первую очередь к так называемым «письмам во власть», является устойчивым трендом последнего времени. Этот интерес далеко не случаен – помимо возможности сопереживать подлинным человеческим эмоциям, почувствовать «вкус и запах» эпохи, получить богатейший эмпирический материал о взаимоотношениях власти и общества – эго-документы позволяют работать в рамках постпозитивистских методик новой культурной истории, задавать вопросы и получать ответы в рамках «лингвистического поворота» в исторических исследо- ваниях. В одной из новейших публикаций писем во власть эпохи революции и гражданской войны, где также проделан анализ новейшей историографии по теме, подчеркивается закономерность широкой палитры исследовательских подходов и трактовок, поскольку сами письма отличались друг от друга «не только по жанру, но и по содержанию, целевым установкам и по своему реальному воздействию на ход политических событий» [Письма во власть..., 2015. С. 4].
В настоящей статье автор стремится выяснить, какую роль письма во власть сыграли в процессе адаптации населения к комму- нистической власти в 1930-е гг. Для этого предпринимается попытка проанализировать основные типы обращений (жалобы, ходатайства, рапорты, «инициативные» письма, доносы), а также выявить специфические особенности социальной практики коммуникации общества и власти в это время. В качестве рабочей гипотезы автор руководствовался предположением о том, что письма во власть являлись неотъемлемым элементом выстраивания системы патронажа и клиен-телы в условиях социальных катаклизмов 1930-х гг. и дефицита демократических институтов. Кроме того, диалог общества и государства сыграл важную роль в усвоении населением советского «новояза», что в свою очередь позволяло ему идентифицировать себя с коммунистическим режимом. Источниковой базой для написания статьи послужили письма во власть, выявленные автором в архивах Сибири и Москвы, а также целый ряд тематических сборников документов и материалов.
Две базовые характеристики писем во власть периода 1930-х гг. ярко выявились уже в годы революционного хаоса и гражданской войны. Речь идет о персонифицированном восприятии государства и остром недоверии к его бюрократическим институтам. Эти две неразрывно связанные между собой характеристики были отнюдь не новыми для российского социума, однако теперь они приобрели новое качество. Если учесть, что население, в первую очередь крестьянство, традиционно и небезосновательно питало недоверие к агентам власти местного уровня, то нет ничего удивительного в том, что «простые люди» 1 предпочитали «искать правду» на самом верху советской партийно-государственной пирамиды, обращаясь напрямую к «вождям». Анализируя письма во власть, А. А. Тихомиров пришел к выводу о том, что требование убрать ставленников советской власти в регионах – «пришлых чужаков», «назначенцев» или «кочевников» – было постоянной темой обращений крестьянского населения еще в начале 1920-х гг. [2013. С. 107]. А. Я. Лившин и И. Б. Орлов также пишут о недоверии местных жителей к пришлым руководителям и их стремлении противодействовать «номенклатурной экспансии» [2002. С. 73–75].
В 1930-е гг. формирование структур патронажа и клиентелы посредством писем во власть приобрело высокую динамику Это можно объяснить двояко. С одной стороны, коллективизация и раскулачивание привели к дискриминации сотен тысяч человек, которым фактически не оставалось ничего другого, как добиваться справедливости, а нередко и спасения собственной жизни и жизни близких с помощью обращений наверх через головы местного руководства. Какого размаха достигало это персонифицированное обращение, позволяет оценить статистика, которую вел секретариат М. И. Калинина: если в 1925 г. Калинин получил около 50 тыС. писем-ходатайств, то в 1928 г. эта цифра составила уже более 100 тыС. В годы сплошной коллективизации и раскулачивания число личных обращений к «всесоюзному старосте» выросло в разы: в 1933 г. секретариат председателя ЦИК СССР получил 228 тыс. писем [Нерар, 2011. С. 48, 169]. С другой стороны, что очень важно, сталинский режим сознательно инструментализировал стойкую патерналистскую традицию, уходящую корнями в глубь российской истории, эффективно использовав для этого феномен «перегиба».
«Перегибы» были свойственны всем без исключения массовым кампаниям 1930-х гг., начиная от коллективизации и заканчивая Большим террором: власть сознательно поощряла наиболее ретивых работников, закрывая глаза на их противоправные действия, эксцессы и насилие. С помощью «перегибов» режим, с одной стороны, целенаправленно добивался выполнения задач очередной кампании, будь то хлебозаготовки, ликвидация церквей или уничтожение «бывших», с другой стороны, «перегиб» позволял власти тестировать границы возможного, не рискуя своей собственной легитимностью. Вслед за окончанием кампании следовало наказание «перегибщиков» (как правило, относительно мягкое) при разыгрывании карты «эксцессов на местах» и восстановления центральной властью «социалистической законности». В этой схеме обращениям населения в центральные партийно-государственные органы и непосредственно к руководителям государства отводилась важная функциональная роль в целях организации наказания «перегибщиков» и восстановления нарушенного доверия между обществом и властью. Важным моментом этой схемы было установление границ критики – она должна была ограничиваться «перегибом» и фигурой «перегибщика», ни в коем случае не подвергая сомнению ценности и нормы сталинского социализма.
Крестьянское население «прочитало» этот своеобразный сигнал власти, который в случае с коллективизацией четко прозвучал в статье И. В. Сталина «Головокружение от успехов. К вопросам колхозного движения», опубликованной в газете «Правда» 2 марта 1930 г. Как известно, в статье были осуждены «левацкие загибы», в результате чего на скамье подсудимых оказался целый ряд местных партийных и советских работников, не учитывавших «принцип добровольности» и «местные условия». Последовавшее за статьей отступление на «фронте коллективизации» вызвало целый вал писем раскулаченных, лиц, лишенных избирательных прав, а также крестьян, вышедших из колхозов. Показательно, что в своих письмах крестьяне нередко писали о том, что местные власти утаивали от них номер газеты «Правда» со статьей Сталина или даже отрицали существование таковой.
Главным объектом критики этих писем, как и ожидала власть, стали «перегибы» и «перегибщики» из числа местных агентов власти. Так, в своем письме к И. В. Сталину крестьянин дер. Шарагуль Тулунского района Иркутского округа г. К. Белкин сообщал в 1930 г.: «[…] у нас в Шарагуле раскулачено: из 400 дворов 80 дворов раскулачили […] все они почти борцы за Советы, за исключением человек или, как мы их называем, кулаков семей до 10 […] Вот что делают местные власти – незаконное, мне кажись, раскулачивание трудящихся масс крестьян деревни» 2. Крестьянин дер. Чернавка Славгородского округа Сибирского края В. Т. Дзюбло писал вождю о том, что после прочтения статьи «Головокружение от успехов» он убедился, «что Советская власть все же крепка и сильна, она умеет расправляться с разными негодяями и вредителями Советской власти, которые было как собаки с цепи сорвались и старались сделать не в пользу Советской власти, а сделать полный разврат» 3. Аналогичные выдержки из писем, демонстрирующие несомненное усвоение и трансляцию крестьянами сигнала сверху, прозвучавшего 2 марта 1930 г., можно приводить все снова и снова.
Необходимо также отметить крайнюю эмоциональность писем во власть раскулаченных и «лишенцев». Само собой разумеется, эмоции отражали в первую очередь тяжелейшие экстремальные условия и неподдельный трагизм ситуации, в которых оказались авторы писем. Так, шестнадцатилетняя девушка Зинаида Евграфова, жительница С. Братска, в марте 1930 г. умоляла редакцию одной из сибирских газет помочь отменить высылку ее семьи во главе с отцом, сошедшим с ума после лишения его избирательных прав и описи имущества как неисправного плательщика индивидуального налога. «Просьба моя к редакции заключается в следующем: мне 16 лет, я никак не могу прокормить родителей, имущества нет и если нас сошлют, то мы погибнем, чем же я то виновата, что должна страдать [?] Я прошу сжалиться хотя [бы] надо мной и разрешить увезти моих родителей в г. Усолье, Иркутского округа, где я могла бы, при посредстве родственников, определить их и сама поступить куда-либо на работу. Уйти и бросить их у меня не хватает сил, т.к. они совершенно беспомощны […] Ввиду того, что могут перехватить это письмо, прошу, пожалуйста, с получением сего сообщить мне открыткой», – писала девушка 4. Однако эмоциональность, как справедливо отмечается в историографии, являлась также выражением личностных отношений между просителем и патроном. Как утверждает А. А. Тихомиров, обращения во власть советских граждан отражали «стремление придать миру большой и жестокой политики человеческое измерение: “поговорить по душам” или “излить душу”, то есть поделиться самыми сокровенными эмоциональными переживаниями»
[2013]. Без высокого накала эмоций эффективная персонификация государства была бы просто невозможной. Впрочем, репрессированные элиты в смысле стремления к патернализму и эмоциональности писем-ходатайств ничем не отличались от обыкновенных граждан [«Дорогой наш товарищ Сталин!»..., 2001].
Неотъемлемым элементом писем-жалоб и писем-ходатайств является также подробное описание адресатами либо своего «бедняцко-середняцкого» хозяйства, либо своего трудового социального происхождения и актуального социального положения. Последнее было особенно свойственно письмам «лишенцев», нередко представляющих собой развернутую биографию ходатая. По сути, эти описания оказывались попытками не только дезавуировать обвинения, но и продемонстрировать свою «советскую» идентичность.
Закономерно встает вопрос о том, насколько эффективной была обратная связь между властью и «жалобщиками», т. е. в какой мере власть реагировала на ходатайства снизу, а также в какой степени центральные органы партии и государства могли добиться выполнения принятых ими решений в сфере дисциплинирования местных «начальников» и восстановления «социалистической законности». Попробуем ответить на этот вопрос с помощью анализа писем верующих – еще одной категории населения, перед которой проблема политической адаптации стояла в 1930-е гг. чрезвычайно остро. Такое положение верующих в свою очередь предопределило массовость их обращений во власть, с помощью которых они стремились воздействовать на сталинский режим в соответствии с представлениями и потребностями религиозных организаций. В 1930-е гг. основным содержанием писем верующих выступали жалобы на местные «перегибы», сводившиеся главным образом к чрезмерному налогообложению священнослужителей и культовых зданий, а также к закрытию или неправомерному использованию церквей и молитвенных зданий.
Следует отметить, что в этом диалоге между конфессиями и властью сложилась достаточно специфическая ситуация, которая время от времени действительно позво- ляла верующим отстаивать свои интересы. Дело в том, что с 1922 по 1991 г. в структуре советского государства действовал ряд специальных органов, отвечавших за выработку и реализацию религиозной политики советского государства. В 1930-е гг. это были Постоянная центральная комиссия по вопросам культов при ВЦИК (1929–1934) и Постоянная центральная комиссии по вопросам культов при ЦИК СССР (1934–1938). На эти комиссии непосредственно возлагались обязанности общего руководства и наблюдения за правильным проведением в жизнь политики партии и правительства в области применения законов о культах на всей территории РСФСР и соответственно СССР, а также рассмотрение жалоб верующих. Несмотря на всю очевидную антиклерикальную направленность политики партии и государства, обе комиссии достаточно часто осуждали царивший на периферии произвол и административные методы местных властей, призывая их к соблюдению советского законодательства о культах. Таким образом, вольно или невольно, комиссии превращались в настоящих адвокатов религиозных общин, поскольку их задачей становилось одергивание «перегибщиков» на местах и реагирование на ходатайства верующих. Однако, как показывала практика, зачастую авторитета центральных органов было явно недостаточно, чтобы добиться претворения своих решений в жизнь. Местные власти, не говоря уже об органах ОГПУ – НКВД, могли зачастую позволить себе проигнорировать то или иное решение, принятое центром в защиту прав верующих [Савин, 2008].
Одной из главных форм политической адаптации населения стало в 1930-е гг. усвоение языка власти. Стивен Коткин в свое время назвал это умением «говорить по-большевистски» [2001. С. 250–328]. Подавляющее большинство писем, написанных в «большевистском» стиле, представляли собой, в отличие от писем-жалоб и писем-ходатайств, обращения во власть не отдельных индивидуумов, а «организованного» населения – коллективов трудящихся фабрик и заводов, общих собраний колхозников и рабочих совхозов и т. п. В этих письмах власть наконец-то услышала желаемое: их авторы, подражая публицистической лексике совет- ских газет и речам партийно-советской элиты, клялись в верности коммунистической партии и советскому государству, заявляли о своей любви и преданности вождям лично, требовали жестокого наказания для «врагов народа» и т. д. Стилистически этот специфический тип писем во власть был построен на использовании печатного слова советского «новояза» – идеологических клише, бытовавших в советских газетах и прочно вошедших в официозный речевой обиход трудящихся. При этом чем ниже был образовательный ценз авторов писем, тем охотнее и чаще они прибегали к клишированной речи, которая помогала им точнее выразить желаемое, поскольку такая речь избавляла их от необходимости формулировать мысль самим, а главное гарантировала, что все написанное абсолютно политически благонадежно и не содержит какой-либо «крамолы». Следует также отметить доминирование в этих письмах безличных или неопределенноличных предложений и практически полное отсутствие личного местоимения «я», они лишены индивидуальности, масса заменяет в них человека.
Советская повседневность 1930-х гг. предоставляла огромное количество поводов для написания такого рода коллективных писем. Все они, как правило, строились по одному образцу, в результате их текст был обычно организован как текст постановления: в первой части выражалось отношение коллектива писавших к тому или иному вопросу или событию, вторая же представляла собой победный рапорт о достигнутых успехах, здесь же оглашались пространные трудовые обязательства. Так, делегаты 8-го районного съезда Советов Ордынского района Западносибирского края в своем письме на смерть С. И. Кирова клялись в начале января 1935 г. мобилизовать все силы колхозов и единоличников «на своевременную и отлично качественную подготовку к севу», обещали «по-большевистски» отремонтировать трактора и сельскохозяйственный инвентарь, очистить и засыпать семена, подготовить кадры для предстоящего весеннего сева, задержать снег на колхозных полях, усилить уход за скотом, создать условия для развития животноводства в районе, приобрести билеты лотереи Осоавиахима и т. д. Завер- шалось это коллективное письмо во власть обязательством «всеми силами и средствами способствовать укреплению обороноспособности» и призывом к трудящимся района «еще больше сплотиться вокруг Ленинского ЦК и любимого вождя тов. Сталина, вокруг краевого комитета ВКП(б)» 5. Это обращение представляет собой совершенно типичный образец коллективного письма-рапорта, продукт массового производства, написанного по шаблону или «под копирку». Так, призыв сплотиться вокруг И. В. Сталина и ЦК был позаимствован из статьи под заголовком «Охранять жизнь вождей как знамя на поле битвы», опубликованной в газете «Правда» 2 декабря 1934 г. за подписями Героев Советского Союза, летчиков А. В. Ляпидевского, Н. П. Каманина, М. Т. Слепнева, М. В. Водопьянова и И. В. Доронина. После этой публикации призыв неоднократно воспроизводился в различных резолюциях и письмах коллективов трудящихся в связи с убийством С. М. Кирова. В результате индивидуальность письмам такого рода придавали только стоявшие под ними фамилии, а также ошибки и дефекты стиля.
Насколько благосклонно власть относилась к письмам-рапортам, написанным «по-большевистски», особенно если сообщение о трудовых успехах имело под собой реальную основу, а авторы сумели грамотно польстить вышестоящему руководству, свидетельствует история обращения колхозников-садоводов артели им. Молотова Шипу-новского района Западносибирского края к «орденоносным руководителям Сибирского края» – секретарю Западносибирского крайкома ВКП(б) Р. И. Эйхе и председателю Запсибкрайисполкома Ф. П. Грядинскому. В сентябре 1936 г. колхозники сопроводили свой подарок – посылку сибирских яблок – письмом, в котором всячески превозносили достоинства колхозного строя. Весь текст письма был построен вокруг обыгрывания крылатой сталинской фразы о том, что «жить стало лучше, жить стало веселей». В частности, в письме говорилось: «Народные былины о “коньке-горбунке”, о “ковре-самолете”, о “семимильных сапогах”, о “скатерти-самобранке” воплотились в наше время в сталинских тракторах, в могучей советской авиации, в сотнях тысячах автомобилей, в колхозной зажиточности […] Сибирь каторжная, Сибирь кандальная под Вашим руководством, по указаниям великого Сталина, превращена в цветущий край социализма» 6.
Завершалось письмо традиционным сообщением о достигнутых успехах, наиболее крупным своим достижением колхозники считали плодоносящий фруктовый сад площадью 10 га и питомник площадью 2,5 га, полученный от сада доход в 1936 г. в размере около 23 тыс. руб., а также то, что их примеру последовали 16 колхозов района, что доказывало «полную реальность задачи широкого развития фруктового садоводства в колхозах Западной Сибири» 7. Финальное обещание, «покрыть Сибирь цветущими плодовыми садами», идеально соответствовало распространенному в 1930-е гг. дискурсу «города-сада». Ключевую роль здесь сыграло слово «сад», вряд ли реакция Эйхе была бы такой же благожелательной, если бы в письме речь шла о картофеле или овсе. Секретарь Запсибкрайкома ВКП(б) потребовал 2 октября 1936 г. от подчиненных не только отправить ответ колхозникам, но и «наградить этого садовода грамотой и ценным подарком и это дело крепко популяризировать в газете» 8. Данное обращение-рапорт стало важным фактором карьеры «садовода», чья подпись первой стояла под текстом – председателя колхоза Ф. М. Гринько. После письма она резко пошла в гору – он был избран делегатом XVIII съезда ВКП(б), стал депутатом Верховного Совета СССР 1–4-го созывов, был награжден пятью орденами, в том числе тремя орденами Ленина, и возглавлял образцово-показательный колхоз им. Молотова («Родина») Шипуновского района Алтайского края еще целых тридцать лет – до 1966 г.
Умение общаться с властью «по-большевистски» демонстрировали в 1930-е гг. не только коллективы, но и отдельные личности. Шейла Фитцпатрик в свое время охарактеризовала ролевую позицию авторов таких писем как «гражданскую». В отличие от писем-жалоб, индивидуальные письма такого рода отличало, как считает Фитцпатрик, стремление высказаться по поводу «государственных соображений» или сообщить о проблемах и дефицитах системы [Fitzpatrick, 1996]. Как правило, речь шла о некой инициативе снизу, выдававшей явное желание авторов писем сработать в опережающем рвении «навстречу вождю». Ярким образчиком такого рода писем являются тысячи обращений граждан конца 1930-х гг., содержавших предложения об учреждении новых советских орденов, в первую очередь – ордена Сталина, а также о награждении Сталина за заслуги перед революционным движением [Письма во власть..., 2002. С. 211]. Так, комсомолец Куликов предлагал в октябре 1938 г. «выпустить» орден Сталина и ввести «ежегодное празднование дня рождения тов. Сталина, и добиться через Коминтерн, чтобы день рождения т. Сталина был праздником всех трудящихся Мира» 9. Авторов писем всерьез беспокоило, почему Сталин не имеет высшей награды СССР – ордена Ленина и почему ему не было присвоено звание Героя Советского Союза, которое он заслужил куда как больше, чем «сталинские соколы», которые имели «великолепные машины и хорошую советскую выучку», а Сталин совершил все свои подвиги, «не имея совершенно никакой военной подготовки» 10. Автор еще одного письма предлагал наградить Сталина совершенно особым орденом Ленина, «осыпанным бриллиантами, чтобы на груди “второго солнца” был такой же луч блестящий» 11.
Комплекс писем, связанный с принятием Конституции СССР 1936 г. и первыми выборами в Верховный Совет СССР, также содержит в основном индивидуальные обращения граждан, демонстрировавших свою общественную активность и лояльность перед лицом власти. Впрочем, степень индивидуальности этих предложений не стоит переоценивать, поскольку, согласно официальным данным, в стране состоялось 623 тыс. собраний, на которых обсуждался текст конституции, на них присутствовало около 42,4 млн чел. Всего же было внесено около 170 тыс. предложений, замечаний и дополнений к тексту конституции [Общество и власть..., 1998. С. 124]. Я. Б. Дорожкина, анализируя инициативы, высказанные в ходе «всенародного» обсуждения «сталинской конституции», пришла к выводу о том, что по ключевому вопросу – всеобщности избирательного права и равенства всех категорий населения – подавляющее число авторов поправок предлагали сохранить разнообразные ограничения или установить новые 12. В историографии также отмечается, что «поступало немало предложений вообще отменить возможность ведения как личного подсобного, так и мелкого частного хозяйства», «непонимание» также встречало даже формальное провозглашение в конституции свободы вероисповедания [Там же. С. 140, 143]. Характерно то, что основной критический заряд, содержавшийся в «предложениях трудящихся», в полном соответствии с парадигмой персонификации власти, был выпущен в сторону местной советской номенклатуры, в результате чего в течение обсуждения проекта конституции своих мандатов лишились более 15 тыс. депутатов местных Советов в 21 крае и области СССР [Там же. С. 126– 128].
Еще одним способом коммуникации между «правоверным» советским населением и властью стали письма-доносы. Этот тип писем во власть не следует путать с доносами осведомителей, секретных сотрудников и агентов органов государственной безопасности. Автор исследования, специально посвященного природе доносительства в сталинском СССР, Ф.-К. Нерар, отмечает, что в архивах «не существует или почти не существует писем-доносов, какими они представлены в фильмах или художественных произведениях. Нет или почти нет анонимных коротких записок. Обычно можно найти обширные, аргументированные и подписанные заявления. Характерные для доносов обвинения часто включены в длинные письма-жалобы» [2011. С. 11]. И все же типаж письма-доноса существовал и был достаточно широко распространен. Авторами доносов, как правило, выступали члены коммунистической партии и комсомола, которые создавали свои тексты в рамках традиции критики и самокритики, активно практиковавшейся большевиками. Главными темами доносов («сигналов») являлись либо сокрытие от партии социального происхождения, либо «криминальные» контакты (в том числе родственные) с лицами из числа «бывших», «кулаков», оппозиционеров и прочих «врагов народа», связи с заграницей или контакты с иностранцами, а также антипартийные высказывания, проступки и антисоветское поведение в прошлом или настоящем.
Донос, написанный 23 апреля 1936 г. слушателем Краевых курсов советского строительства в Новосибирске, членом ВКП(б) Ф. Федотовым, на другого слушателя курсов, Сопова, можно характеризовать как классический. Ядро доноса составляло обвинение в троцкизме – Сопов в разговоре о гражданской войне заявил, «что главная роль в победах принадлежит Троцкому, что якобы Троцкий организовал победу в городе Царицыне, о том, что ЦК посылало Троцкого туда, где была главная опасность». Главное обвинение в троцкизме подкреплялось побочными – Со-пов отказывался ехать на работу в деревню, защищал исключенного слушателя курсов «махрового кулака» Ефремова, критиковал расточительство при устройстве званого ужина для стахановцев и т. д. «Сигнал» был незамедлительно передан секретарем парткома курсов в органы государственной безопасности, что также доказывает его аутентичность в качестве доноса 13.
Насколько широко практиковалось доносительство именно в рядах большевистской партии, свидетельствуют данные Отдела руководящих партийных кадров ЦК ВКП(б) о результатах проверки партийных документов в Западносибирском крае в 1935 г. Всего в ходе проверки партийными организациями было получено 4 127 устных и письменных заявлений разоблачительного характера, что при численности партийной организации края в количестве 48 233 чел. дает соотношение один донос на двенадцать коммунистов. Всего в результате проверки документов из ВКП(б) в Западной Сибири было исключе- но 6 021 чел., из них около 700 – арестовано [Нерар, 2011. С. 171, 172].
Доносы могли выглядеть весьма своеобразно, даже экзотически. Так, специфической формой доносов стало выявление активными «советскими гражданами» потенциальных «врагов народа» с использованием материалов прессы. Например, после того как начиная с 1936 г. центральные газеты стали публиковать длинные списки бойцов, политруков и командиров РККА, удостоенных государственных наград, редакции печатных изданий стали получать многочисленные письма, аналогичные письму красноармейца Коржина, направленному в январе 1937 г. в газету «Комсомольская правда». Бдительный красноармеец писал, что в числе награжденных в газете «упоминается младший командир Рожков А. В. Прошу выяснить указанного товарища, так как в одной деревне имелся кулак-торговец Рожков Василий Яковлевич, у которого есть сын Анатолий Васильевич. Прошу выяснить, не является ли это именно Анатолий Васильевич и проследить за его работой. О результатах сообщить по адресу» 14. Какими бы сомнительными не выглядели эти предположения, была проведена соответствующая проверка, о чем заместитель заведующего секретариатом ЦИК СССР сообщил командиру части, в которой служил Коржин 15.
Несколько особняком в ряду писем, написанных «по-большевистски», стоят обращения во власть лиц, которых условно можно назвать обладателями альтернативной советской идентичности. Речь в данном случае идет о письмах опальных оппозиционеров всех мастей, в первую очередь троцкистов, а также бывших красных партизан, оттеснение которых от власти и связанных с ней привилегий началось в период коллективизации, когда власти заговорили о «плохих партизанах», в массовом порядке активно выступавших против раскулачивания [Ларьков, Шишкин, 2013. С. 114]. Авторы таких писем критиковали сталинский режим за его перерождение и обюрокрачивание, но ни в коем случае не подвергали сомнению идеалы революции и традиционно в доказательство своей правоты указывали на свои заслуги периода революции и гражданской войны. Например, в своем обращении на имя Р. И. Эйхе в ноябре 1932 г. группа бывших сибирских партизан обвинила партийно-советские органы Западносибирского края в пренебрежительном отношении к изучению истории партизанского движения, а также в игнорировании правовых и материально-бытовых нужд участников партизанской борьбы. «Мы утверждаем, – говорилось в письме, – что со стороны ряда советских и хозяйственных организаций мы имеем бю-рократически-пренебрежительное, порою издевательское и прямо хамское отношение к нам, партизанам» 16.
В качестве наиболее вопиющего примера приводилась история семьи легендарного партизанского командира П. Е. Щетинкина, оказавшейся после его смерти в большой нужде. Вдова Щетинкина была вынуждена даже продать вещи и награды мужа, «которые должны были бы стать историческими ценностями и находиться в Музее Революции, а они, вместо этого, были вынесены на толкучку и стали предметами насмешек и издевательств со стороны наших классовых врагов» 17. Главными притеснителями партизан, по мнению авторов письма, была не советская власть, а лишь ее агенты – сотрудники милиции, хозяйственники и «комендантские чины разных учреждений». Заявляя об «издевательствах» и «осмеянии всего того, за что мы вместе с рабочим классом, под руководством нашей партии боролись и в меру наших сил и умения делали», бывшие партизаны тем не менее клялись в беззаветной верности партии: «Мы не мыслим свое существование и свою работу вне партии, помимо партии, без руководства партии» 18.
Стремление говорить «по-большевистски» стало одним из важных путей формирования советской (в терминологии Й. Хел-лбека – социалистической) идентичности [Hellbeck, 1998. S. 275–290]. Подчеркивание своей советской идентичности происходило в письмах во власть также за счет демонстрации непримиримости ко всему антисоветскому, чуждому и враждебному. Общественно-политический диалог с властью всегда заключал в себе определенный риск, поэтому еще и по данной причине письма, написан- ные «по-большевистски», лишены подтекста, в них нет второго или третьего слоя, их авторы свято верили или стремились верить в написанное.
Огромный массив писем во власть конца 1930-х гг. стал следствием массовых операций НКВД 1937–1938 гг. Как и в годы коллективизации, главной темой апелляций стали феномен «перегиба» и требование наказать «нарушителей социалистической законности» из числа сотрудников госбезопасности и милиции. В ходе кампании «восстановления социалистической законности», стартовавшей во второй половине ноября 1938 г., имела место явная инструментализация писем во власть, которая диктовалась задачами и целями мероприятий по дисциплинирова-нию органов НКВД и возвращению их в рамки прежней компетенции. Не желая ставить под сомнение результаты Большого террора в целом, сталинский режим изначально позаботился о том, чтобы был «отсечен» главный массив писем граждан, ставших жертвами наиболее масштабных карательных акций НКВД 1937–1938 гг. – операции по приказу № 00447 в отношении «бывших», а также операций против якобы нелояльных национальных меньшинств. Согласно циркуляра прокурора СССР А. Я. Вышинского от 17 апреля 1938 г., прокурорам приказывалось проводить проверку правильности осуждения лиц на основании приказов НКВД № 00447, 00485 и т. п. лишь «в исключительных случаях». Обычно же жалобщикам следовало отвечать, что приговор окончательный и дела пересматриваться не будут [«Через трупы врага»..., 2010. С. 41, 42].
В результате селекция тех сотрудников НКВД, которым предстояло выступить в роли «козлов отпущения», осуществлялась преимущественно на основании жалоб весьма специфической группы жертв массовых репрессий, обладавших в советском государстве и обществе положением, связями и весом, сплоченных корпоративными интересами. Как правило, эти жертвы провели под арестом не один месяц, были хорошо осведомлены о нюансах следствия, а массовое освобождение из-под стражи в конце 1938– 1939 гг. позволило им добиваться справедливости и требовать осуждения истязавших их чекистов. Речь идет, главным образом, о членах коммунистической партии, представителях советских функциональных элит.
Именно жалобы коммунистов, их стремление к реабилитации определили главный круг обвиняемых на судебных процессах против чекистов – «перегибщиков» в рамках бериевской чистки НКВД 1939–1941 гг. Необходимо также отметить, что стержнем всех этих жалоб была коммунистическая «правоверность» – критика ограничивалась только «гнилыми» фальсификаторами из НКВД, не затрагивала систему и не ставила под сомнение необходимость репрессий в отношении истинных врагов советской власти. В то же время авторы этих писем сумели донести до центра серьезную тревогу по поводу повсеместного нарушенного баланса иерархии власти и необходимости кампании по дисциплинированию органов государственной безопасности на всех уровнях. Весьма показательными выглядят те места из жалоб и заявлений освобожденных партийцев, которые описывают сотрудников НКВД как лиц, утративших всякие представления о своем реальном месте в иерархии коммунистической власти, уверовавших в свою непогрешимость, фактически возомнивших себя стоящими не только выше формальной законности в лице конституции и прокуратуры, но и партийных органов, старавшихся всячески дискредитировать и «подмять» под себя партию. Такой ракурс восприятия террора во многом определил всю ущербность кампании по наведению порядка в органах госбезопасности. В длительной, методичной работе, направленной на действительное разоблачение системных пороков системы и массовую реабилитацию жертв, не был заинтересован никто: ни руководство партии и государства, ни прокуратура, ни сами органы госбезопасности.
Во власть в массовом порядке писали не только жертвы репрессий, но и чекисты – «перегибщики», которые неожиданно для них самих оказались не только изгнанными из партии и «органов», но зачастую арестованными и осужденными [Petrow, 2002. S. 29]. На скамью подсудимых был посажен главным образом руководящий состав органов госбезопасности – начальники краевых и областных управлений, оперативных отделов и отделений. Что касается сибирских чекистов, то в последние годы в научный оборот были введены и активно используются в историографии целый ряд писем во власть, в первую очередь письмо начальника отделе- ния КРО УНКВД по Новосибирской области В. Д. Качуровского, адресованное в 1939 г. секретарю Новосибирского обкома ВКП(б) А. Боркову [Юнге и др., 2008. С. 419–422], письмо И. В. Сталину от осужденного сотрудника УНКВД по Западно-Сибирскому краю П. А. Егорова от 20 декабря 1938 г. [Массовые репрессии..., 2010. С. 468–487] и письмо сотрудника УНКВД по Алтайскому краю Т. У. Баранова, также направленное И. В. Сталину в марте 1939 г. [Этноконфессия..., 2009. С. 671–675]
Ценность этих писем в качестве документального источника заключается в том, что они дают возможность получить представление о конкретных преступлениях сотрудников госбезопасности и милиции, которые предстают в документах не как безличные «винтики» системы, а как индивидуумы. В результате анонимные абстрактные карательные институты и структуры получают свое персональное лицо. Кроме того, письма чекистов позволяют выявить три универсальные стратегии, применявшиеся ими для своей защиты. Первая сводилась к отрицанию личной ответственности за какие-либо нарушения «социалистической законности». Вся ответственность перекладывалась чекистами на вышестоящее начальство, от начальника отделения вплоть до наркома внутренних дел СССР, друг на друга, а также (крайне редко) – на местные партийные органы. Эта стратегия была тем более очевидной, поскольку, ознакомившись с выдвинутыми против них обвинениями, чекисты ощутили себя в некоем Зазеркалье, где им теперь предстояло персонально ответить за выполнение официальных приказов, в том числе напрямую исходивших из Москвы.
Вторая стратегия защиты заключалась в отрицании или минимизации совершенных преступлений, оспаривании подавляющего большинства выдвинутых против них обвинений, в первую очередь – в применении физического насилия и фальсификации документов следствия. Тот же Егоров сформулировал расхожее оправдание, которое повсеместно в разных вариациях повторялось осужденными чекистами от Дальнего Востока до Украины – о разнице в проведении массовых операций в 1937 г. и в 1938 г. В частности, он писал следующее: «Примерно до конца сентября или начала октября месяца 1937 г. операция носила исключительно ха- рактер разгрома всех контрреволюционных кадров и не касалась широких слоев населения. С сентября месяца в массовом порядке стали поступать категорические требования – усиление операции. Шифротелеграммами приказывалось подвергнуть массовым арестам всех перебежчиков, поляков, латышей, иранцев, лиц, прибывших с КВЖД (“харбинцев”) и др.» [Массовые репрессии..., 2010. С. 468–487]. Это, в свою очередь, по словам уже В. Д. Качуровского, привело к «значительному ухудшению состава арестованных и качества следствия» [Юнге и др., 2008. С. 420]. Таким образом, активно защищая свои действия и методы, применявшиеся в ходе операции № 00447 против «бывших», чекисты охотно признавали, что под давлением начальства они «наломали дров» в ходе «национальных» операций. Но и здесь, по мнению авторов писем, цель оправдывала средства, и чекисты, каясь в письмах в незначительных нарушениях закона, не подвергали в целом сомнению благую цель борьбы с «врагами народа» и свои собственные действия. Частью этой же стратегии являлись попытки дискредитировать свидетелей из числа освобожденных подследственных, а также стремление выставить себя в качестве поборников борьбы с «липачами» и «фальсификаторами» в собственных чекистских рядах.
Третья стратегия защиты чекистов представляла собой стремление продемонстрировать, что они были, есть и продолжают, несмотря ни на что, оставаться верными сталинцами и «социально-близкими» советской власти людьми. Здесь главное место в письмах во власть занимало апеллирование к своим чекистским заслугам перед партией и государством, а также указания на верную службу, несмотря на тяжесть специфической чекистской работы и грозившую им лично опасность в деле борьбы с врагами революции. Эти заявления традиционно делались на высокой эмоциональной ноте, что было призвано, как и в письмах «жалобщиков» из простого народа, выстроить личную связь между адресантом и адресатом.
Письма как жертв террора, так и его организаторов и проводников выполнили свою задачу: для жертв возникла иллюзия восстановления социалистической законности, для подавляющего числа чекистов – возможность реабилитации, а также уверенность в том, что родная власть не накажет их жестоко.
Письма во власть образца 1930-х гг. сыграли существенную роль в процессе политической коадаптации власти и народа. Диалог между обществом и сталинским режимом представлял собой сложный и многогранный процесс, где ведущей стороной являлась власть, которая реагировала на нужды и пожелания общества лишь тогда, когда это было ей выгодно. Кроме того, власть активно инструментализировала обращения населения, показывая с помощью сигналов и общественно-политического дискурса направления, объекты и рамки допустимой критики или инициативы. Степень коадаптации на разных исторических этапах была разной, все зависело от того, в какой мере интересы людей совпадали с устремлениями власти, насколько эффективной была «обратная связь», а также от того, насколько успешно обеим сторонам удавалось выстроить эмоциональные отношения патронажа и клиенте-лы.
Список литературы Письма во власть как специфическая форма политической адаптации советских граждан в 1930-е годы
- «Дорогой наш товарищ Сталин!» … и другие товарищи. Обращения родственников репрессированных командиров Красной Армии к руководителям страны / Сост. Н. С. Черушев. М.: Звенья, 2001. 336 с.
- Коткин С. Говорить по-большевистски (из кн. «Магнитная гора: сталинизм как цивилизация») // Американская русистика: вехи историографии последних лет. Советский период. Антология. Самара, 2001. С. 250-328.
- Ларьков Н. С., Шишкин В. И. Партизанское движение в Сибири во время гражданской войны // Власть и общество в Сибири в XX веке. Новосибирск, 2013. Вып. 4. С. 76-114.
- Лившин А. Я., Орлов И. Б. Власть и общество: диалог в письмах. М.: РОССПЭН, 2002. 208 c.
- Массовые репрессии в Алтайском крае. 1937-1938 гг. Приказ № 00447 / Под ред. М. Юнге, Б. Бонвеча, В. Н. Разгона и др. М.: РОССПЭН, 2010. 751 с.
- Нерар Ф. К. Пять процентов правды. Разоблачение и доносительство в сталинском СССР (1928-1941). М.: РОССПЭН, 2011. 398 с.
- Общество и власть: 1930-е годы. Повествование в документах / Под ред. А. К. Соколова. М.: РОССПЭН, 1998. 350 с.
- Письма во власть. 1928-1939. Заявления, жалобы, доносы, письма в государственные структуры и советским вождям / Сост. А. Я. Лившин, И. Б. Орлов, О. В. Хлевнюк. М.: РОССПЭН, 2002. 528 с.
- Письма во власть в эпоху революции и гражданской войны (май 1917 - май 1921 г.). Сб. док. / Под ред. В. И. Шишкина. Новосибирск: Автограф, 2015. 421 с.
- Савин А. И. Культовое здание в интерьере эпохи: молитвенный дом Омской баптистской общины в 1920-1930-е годы // Изв. Омского Государственного историко-краеведческого музея. 2008. № 14. С. 233-240.
- Тихомиров А. А. «Режим принудительного доверия» в Советской России, 1917-1941 годы // Неприкосновенный запас. 2013. № 6 (92). С. 98-117.
- «Через трупы врага на благо народа». Кулацкая операция в Украинской ССР 1937-1941 гг.: В 2 т. / Сост. М. Юнге, С. А. Кокин, Б. Бонвеч и др. М.: РОССПЭН, 2010. Т. 2. 711 с.
- Этноконфессия в советском государстве. Меннониты Сибири в 1920-1930-е годы: эмиграция и репрессии. Документы и материалы / Сост. А. И. Савин. Новосибирск: Посох, 2009. 752 с.
- Юнге М., Бордюгов г., Биннер Р. Вертикаль большого террора. История операции по приказу НКВД № 00447. М.: Новый хронограф, 2008. 784 с.
- Fitzpatrick S. Supplicants and Citizens: Public Letter-Writing in Soviet Russia // Slavic Review. 1996. Vol. 55. No. 1. P. 78-105.
- Hellbeck J. Self-Realization in the Stalinist System: Two Soviet Diaries of the 1930s // Stalinismus vor dem Zweiten Weltkrieg. Neue Wege der Forschung / Hrsg. v. M. Hildermeier. München, 1998. S. 275-290.
- Petrow N. Die Kaderpolitik des NKWD 1936-1939 // Stalinscher Terror 1934-1941.
- Eine Forschungsbilanz / Hrsg. v. W. Hedeler. Berlin, 2002. S. 11-32.