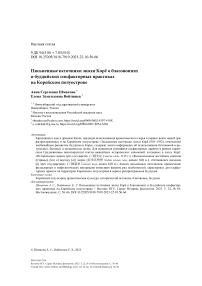Письменные источники эпохи Корё о благовониях и буддийских ольфакторных практиках на Корейском полуострове
Автор: Шмакова А.С., Войтишек Е.Э.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Источниковедение Восточной Азии
Статья в выпуске: 10 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
Зародившись еще в древнем Китае, традиция использования ароматического сырья в первых веках нашей эры распространилась и на Корейском полуострове. Письменные источники эпохи Корё (918-1392), отмеченной необычайным расцветом буддизма в Корее, содержат много информации об использовании благовоний в ритуальных, бытовых и медицинских целях. Для выявления специфики ольфакторных практик в раннем корейском Средневековье анализируются тексты важнейших исторических сочинений, созданных в эпоху Корё: «Исторические записи трех государств» (三國史記 Самгук саги, 1145 г.); «Жизнеописания достойных монахов [Страны], [что к] востоку [от] моря» (海東高僧傳 Хэдон косын чон, начало XIII в.); «Оставшиеся сведения [о] трёх государствах» (三國遺事 Самгук юса, конец XIII в.). Анализ письменных источников, привлечение фольклорных и мифологических материалов позволяют выявить ряд особенностей, характерных для ольфакторных практик на территории Корейского полуострова в период распространения буддизма.
Корейский полуостров, ароматическая культура, исторический источник, благовония, буддизм
Короткий адрес: https://sciup.org/147242055
IDR: 147242055 | УДК: 94(510) | DOI: 10.25205/1818-7919-2023-22-10-56-66
Текст научной статьи Письменные источники эпохи Корё о благовониях и буддийских ольфакторных практиках на Корейском полуострове
Ароматическая культура Восточной Азии, истоки которой связаны с возжиганием растительного сырья еще в эпоху неолита на территории Китая [Войтишек, 2021, с. 5–6], к настоящему времени представляет собой сложный комплекс историко-культурных явлений в странах синоиероглифического региона (Китай, Корея, Япония, Тайвань и отчасти Вьетнам). Она охватывает религиозно-магическую обрядность, область традиционной медицины, совокупность духовно-целительных практик, ритуалов даосско-буддийского, синто-буддий-ского и конфуцианского характера. Зародившись на территории Китая, со временем она распространилась по всей территории Восточной Азии.
Контакты населения Корейского полуострова с Китаем способствовали развитию на корейской территории ароматической культуры и особого типа ритуальной обрядности, связанной с ней. Однако последовательная реконструкция этапов развития ароматической культуры и ольфакторных практик на Корейском полуострове затруднительна вследствие утери большого количества реликвий и письменных памятников. В связи с этим важность приобре- тают исторические факты и свидетельства, сохранившиеся летописях, в музейных собраниях, в записях монахов и коллекциях буддийских храмов [Войтишек и др., 2023, с. 80].
Наиболее авторитетными свидетельствами развития ранних ольфакторных практик на территории Корейского полуострова можно считать следующие: средневековые письменные исторические источники: летописи, написанные на кореизированном китайском языке хан-мун ; эпиграфические памятники, среди которых особое место занимают стелы мэхянби 1; вещественные источники, представленные специальным инвентарем для возжигания ароматических веществ и окуривания ими пространства; а также нематериальные источники – специфические ритуалы захоронения благовоний ( 埋香 мэхян ), которые не сохранились в соседних странах – Китае и Японии.
Среди корейских письменных источников особую ценность представляют произведения, созданные примерно в одно и тоже время, – две летописи «Исторические записи трех государств» ( 三國史記 Самгук саги , 1145 г.) и «Оставшиеся сведения [о] трёх государствах» ( 三 國遺事 Самгук юса , конец XIII в.), а также сборник биографий монахов «Жизнеописания достойных монахов [Страны], [что к] востоку [от] моря» ( 海東高僧傳 Хэдон косын чон , XIII в.).
Цель данного исследования – на материале этих памятников выявить особенности применения ароматических веществ и растений в буддийских религиозных практиках и в бытовой сфере на Корейском полуострове в период Средневековья. Особое внимание уделено буддийским церемониям, поскольку ритуалы подношения благовоний играют важную роль в буддизме, – они воспринимаются как символ освобождения от препятствий и символ духовного просветления на пути постижения буддийской мудрости. Буддийские представления о подношении благовоний как об акте благодарности, уважения, благочестивого обращения и молитвы по отношению к Будде и бодхисаттвам воплотились во многих фрагментах указанных памятников.
Анализ письменных источников
При анализе основных памятников корейской историографии важным методологическим подходом является принятие во внимание разных принципов летописания в конфуцианской и буддийской традиции. Если для конфуцианской традиции было свойственно соблюдение четкой структуры текста, цельности и логичности сочинения, то для буддийской летописной традиции было характерно включение в ткань повествования весьма разнородной по качеству информации, в результате чего сочинение обрастало различными сюжетными ходами 2.
В этой связи в официальном летописном сочинении «Исторические записи трех государств» (Самгук саги) довольно редко встречаются упоминания о роли благовоний в ритуальной жизни королевского двора и сообщения о церемониях воскурения и подношения благовоний. В то же время в тексте официальной хроники есть описания случаев целительных практик с благовониями, что подчеркивает авторитетность старинного способа лечения многих недугов с помощью воскурения ароматических средств. Так, в хронике «Исторические записи трех государств» в разделе «Летописи Силла» есть упоминание о 19-м правителе Силла Нульджи-ване (訥祇麻立干), который на 15-м году правления (528 г.) пригласил к своей больной дочери монаха Мохочжа (墨胡子) из царства Когурё, который в итоге вылечил ее с помощью воскурения благовоний 3:
…Тогда [из Китая] приезжал посол от лянского правителя и подарил [вану] одежды и душистый предмет, но окружающие не знали ни названия предмета, ни его назначения, поэтому отправили людей, чтобы повсюду расспрашивать, [что это такое]. Когда увидел его Мохочжа, он сказал, как называется предмет, и объяснил, что если сжечь его, то поднимется нежный аромат, который достигает священного духа… Если сжечь это, высказать пожелание, говорил он, то обязательно откликнутся духи и [исполнится желание]. В то время как раз внезапно заболела дочь вана, поэтому ван попросил [М]охочжа зажечь фимиам и вознести молитвы… вскоре после этого наступило облегчение в болезни дочери… [Ким Бусик, 2001, с. 128–129].
Письменный памятник «Жизнеописания достойных монахов [Страны], [что к] востоку [от] моря» ( Хэдон косын чон ), составленный около 1215 г. монахом Какхуном, представляет собой собрание биографий служителей буддийского культа, часть из которых содержит самостоятельные вставные описания разного объема. Данный памятник имеет большое значение для историографии Корейского полуострова как один из самых ранних письменных источников не только по истории буддизма, но также и по истории корейской буддийской общины, международных отношений, географии, литературе, архитектуре, этнопсихологии (подробнее см.: [Какхун, 2007]).
Историческая хроника «Оставшиеся сведения [о] трёх государствах» ( Самгук юса ) содержит огромные массивы текстов, разделенные на тематические блоки (кор. квон ), которые, в свою очередь, делятся на параграфы. Содержание сочинения сводится к передаче исторических событий, попавших в поле зрения их автора, Ирёна (1206–1289), сюда же включены его размышления и комментарии в различных формах (подробнее см.: [Ирён, 2018; Ким Бу-сик, 2001]). Труд Ирёна содержит также огромное количество народных сказаний и легенд, поэтических вставок, отрывков из конфуцианских сочинений, ванских указов и хозяйственных документов, поэтому его можно по праву считать энциклопедией культурной жизни средневековых корейцев.
Оба этих памятника созданы примерно в одно и то же время буддийскими просветителями и продолжают в широком смысле традицию неофициального исторического летописания (в противовес официальному конфуцианскому летописанию) и буддийской литературы, сформировавшуюся в колыбели китайской культуры и философии. Базу этих повествований составляют сведения, взятые из ранних корейских письменных источников, при этом привлекаются материалы из китайских сочинений, а также из памятника «Исторические записи Трех государств» ( Самгук саги ), снабженные авторскими размышлениями. При этом показательно, что для Ирёна при создании его летописи одним из источников явился труд Какхуна [Какхун, 2007, с. 23].
Содержание памятников сводится к описанию исторических событий, происходивших в Корее в древний и добуддийский периоды ее истории, и процесса распространения буддизма с его ритуально-культовой атрибутикой в Средневековье.
Тщательный анализ текстов указанных памятников позволяет проследить примерный географический маршрут распространения буддизма по территории Кореи – из Китая в Когурё и далее в Силла 4 (при этом первыми проповедниками буддизма в Пэкче были уроженцы Индии и Центральной Азии); получить информацию о поездках служителей буддийского культа из Китая в Корею и обращении ими новых адептов в свое вероучение; о взаимоотношениях буддийской общины с ванским двором, о монашеском быте и отправлении буддийских культов и ритуалов, которые обязательно сопровождались использованием благовоний и ароматических веществ.
В тексте Какхуна в главе «Проповедники буддийского учения» содержится информация о том, что монах Адо, оказавшись при дворе силлаского Попхын-вана (514–540), разъяснил ему, как совершать ритуал возжигания благовоний [Какхун, 2007, с. 51] 5.
В этом же разделе в сюжете о встрече посла государства У с силласким Вончжон-ваном (т. е. Попхын-ваном, г. п. 514–540) упоминаются пять благовоний ( 五香 , кит. у сян , кор. о хян ). В их число входили аквилярия, мелия гималайская 6, гвоздичное дерево, куркума домашняя и камфорное дерево, применение которых сопровождало отправление буддийских ритуалов [Там же, с. 89, примеч. 563]. Подтверждением этого тезиса может служить следующая цитата:
Правящий род Лян направил к правителю Силла посла, который звался Юань-бяо, послав с ним в дар курения из аквиларии и сандала… Правитель Силла не знал, как использовать эти предметы, и спрашивал людей в полях со всех четырех сторон. Тогда Адо воспользовался удобным моментом и указал на буддийский Закон [Какхун, 2007, с. 90].
Что касается памятника Самгук юса , то его текст содержит многочисленные упоминания примерно о 25 видах растений, применявшихся в медицинских и ритуальных целях на Корейском полуострове в эпоху Трех государств (I в. до н. э. – VII в. н. э.), а также сюжеты, связанные с использованием ароматических веществ в иных целях. Среди них упоминаются полынь индийская, рододендрон остроконечный, кизил лекарственный, туна китайская, ак-вилярия (алойное, агаровое, или орлиное, дерево) и др. [Ирён, 2018, с. 199, 325, 348, 437,
447–448]. Часть указанных растений предназначена не только для воскурения, но и для съедения. Например, в корейском мифе о Тангуне полынь упоминается как ритуальное растение, рекомендованное в пищу тигрице и медведице с целью превращения в человека. Кроме того, использование образа полыни в метафоре «полынное селение» (т. е. кладбище) тоже свидетельствует о необычной роли этого растения. По-видимому, горькая полынь маркирует особые сакральные зоны взаимодействия с «другим» миром – неслучайно она наряду с чесноком издавна широко используется в народной медицине разных культурных традиций. Эфирные масла и дубильные вещества, содержащиеся в полыни и чесноке, обладают ярко выраженным противовирусным, противовоспалительным и антибактериальным действием, что с древности обеспечивало их использование в разных функциях – от бытовых практик по обеззараживанию помещений до магических ритуалов по очищению пространства храмов и святилищ 7.
Сюжеты об использовании благовоний, представленные в тексте Ирёна, тематически можно разделить на следующие группы:
-
• упоминания о воскурении благовоний в связи с отправлением буддийских культов и ритуалов как в храмах, так и за их пределами 8;
-
• сцены возжигания благовоний корейскими правителями, высокопоставленными лицами, аристократами, членами семьи вана 9;
-
• упоминания ароматических веществ и растений для характеристики внешности людей и свойств их характера 10;
-
• сюжеты, связанные с манипуляциями с душистой древесиной.
Кроме того, автор часто использует названия ароматических и лечебных растений для описания местностей, куда отправляется тот или иной герой повествования 11. Часто именно в местах произрастания таких растений и строились буддийские храмы.
Отдельного внимания заслуживают также рифмованные комментарии Ирёна, которые обычно приводятся в конце глав. Так, например:
Окончилась трапеза. Перед крыльцом
Монашеский посох стоит.
Курильница-утка чиста и полна – сандал аромат свой струит
[Ирён, 2018, с. 649].
Для описания поездок последователей наставника Вонгвана на запад, т. е. в Китай, на учебу Ирён использовал следующие строки:
За море поплыл он и первым дошел
Сквозь тучи до ханьской земли.
Вослед в путь пустившись, как много людей
Благой аромат обрели?
[Там же, с. 639].
Описывая знакомство государя Чинчжи с неким юношей чудесного воспитания и манер Миси, Ирён отмечает:
Взыскал аромата – ступил один шаг и образ один увидал.
Как если б, где ни был, он сеял-растил –
Такой же успех он стяжал [Там же, с. 556].
В тексте памятника Самгук юса встречаются упоминания инструментария для воскурения благовоний, а также многочисленные указания на его использование в монастырях и королевских покоях. Приведем две цитаты.
Это была шкатулка с клыком Будды. Изначально эта шкатулка была пятислойной: первый внутренний слой составляла коробочка из орлиного дерева, следующий внутренний слой – коробочка из чистого золота, следующий внешний слой – шкатулка из белого серебра [Там же, с. 541].
В пятом месяце, в пятнадцатый день [23 июня 693], оба родителя юноши Пуре пришли в монастырь Пэннюльса и в течение нескольких вечеров приносили жертвы и возносили мольбы перед статуей Великосострадательного [Авалокитешвары]. Внезапно на столе для благовоний они обрели два сокровища – цитру [и] свирель [Там же, с. 530].
Особый интерес в тексте Ирёна представляют пассажи о буддийских общинах (религиозных братствах), а также ритуалах, проводимых членами данных общин. До эпохи Корё (918– 1392) буддийская община уже была интегрирована в государственную систему Кореи, поэтому в текстах рассматриваемых источников встречаются сюжеты, связанные с ее деятельностью 12.
Попутно можно заметить, что яркой особенностью деятельности буддийских общин на Корейском полуострове в VIII–XIV вв. можно считать проведение торжественного ритуала закапывания ароматической древесины (埋香 мэхян) 13. На месте захоронения устанавлива- лась памятная стела с информацией о дате проведения ритуала, составе присутствующих, должности дарителя, количестве или весе ароматных курений. К сожалению, из-за плохой сохранности надписей и бедной источниковой базы удается реконструировать лишь отдельные элементы данного ритуального действа. Интересно, что подобные ритуалы не обнаруживаются на территории соседних с Кореей государств (подробнее см.: [Шмакова и др., 2016]). Вероятнее всего, это связано с существованием на Корейском полуострове собственной традиции использования душистых растений и ароматического сырья.
В корейских мифах, изложенных в летописях Самгук саги и Самгук юса , цветы, растения и их плоды наделялись особыми свойствами, способными превратить животное в человека или даже небожителя 14. Так, в мифе о Тангуне медведице и тигрице предлагается превратиться в человека с условием в течение ста дней питаться лишь полынью и чесноком. Неслучайно в том же мифе речь идет о том, что Тангун ( 檀君 ), основатель древнего государства Чосон, родился от женщины-медведицы и духа сандалового дерева – глубоко почитаемого растения в восточной культурной традиции. Священное сандаловое дерево 神檀树 (кит. шэнь таньшу , кор. синдансу ), росшее на вершине горы Тхэбэк ( 太白山 ), куда, по легенде, спустился сын небесного правителя Хванун ( 桓雄 ), служило местом поклонения божествам (медведица и тигрица каждый день приходили из пещеры к сандаловому дереву и молили Хвануна обратить их в человека) 15.
Корейская мифология, передаваемая в устной традиции, в целом характеризуется обилием цветочно-растительных сюжетов, тесно переплетающихся с буддийскими легендами. По одной из версий истории о брошенной родителями на произвол судьбы принцессе Пари, Будда Шакьямуни дарует ей чудесный цветок удумбара 16 . В корейских мифах цветы проявляют магические свойства по оживлению тела и духа, могут побеждать злые чары, именно поэтому цветами отважная Чачхонби 17 воскресила убитого ею слугу Чон Сунама. Цветами же она подавила мятеж на небесах, а в благодарность получила семена пяти злаков 18 (см.: [Ли Кён-док, 2022, с. 162, 170]).
Применение растений различных видов и свойств сопровождало обряды перехода – прежде всего свадьба и похороны. Так, в комнату с умершим обязательно приносили связку стеблей дягиля, а среди атрибутов на корейской свадьбе непременно были сосновые шишки и бамбуковые стебли как олицетворение верности супругов на всю жизнь 19.
Цветы и растения с их ароматами – это сложносоставная и всеобъемлющая метафора корейской культуры, в которой заключено стремление корейцев к процветанию, гармонии в любви и дружбе, забота о ближнем и вся жизнь. Цветочная поляна – это наполненный добром и светом благой мир, о котором мечтают все люди на земле [Там же, с. 253–254].
Заключение
Анализ источников, рассмотренных в данной статье, позволяет сделать ряд важных выводов о формировании и развитии ольфакторных практик на Корейском полуострове в период Трех государств и Объединенного Силла (I–X вв.). Ароматическая культура на территории Корейского полуострова во многом развивалась и формировалась под сильным влиянием буддизма, распространение которого в большей степени, чем все остальные факторы, способствовало оформлению ее ритуальной атрибутики.
Использование дорогих и редких благовоний, привезенных главным образом из Китая, было прерогативой аристократии и ванского двора. Тексты памятников содержат многочисленные сюжеты о посещении китайскими послами и монахами корейских государств и дарении буддийских книг и сутр, а также о воскурении фимиама корейскими ванами и их сподвижниками при отправлении буддийских культов в монастырях. При этом в «неофициальных» буддийских сочинениях Какхуна и Ирёна таких свидетельств значительно больше, чем в официальном сочинении придворного историографа Ким Бусика. Это обстоятельство позволяет разработать и применить ситуативную классификацию сюжетов с благовониями, где основным критерием отнесения их к той или иной группе выступает контекст упоминания факта использования того или иного вида ароматического сырья.
Вместе с буддизмом на Корейский полуостров проник и ароматический инвентарь, знания о правилах применения растений и лекарств в медицинских, ритуальных и гигиенических целях, а также китайские трактаты, описывающие правила использования целебных снадобий, пропорции их для смешивания, процедуры лечения болезней.
Знакомство с китайскими сочинениями по культуре ароматов и буддийскими сутрами, с одной стороны, стимулировало трансформацию корейского общества по китайскому образцу, а с другой стороны, способствовало формированию на основе китайского компонента уникальной ароматической культуры, ритуальных практик мэхян и инвентаря особого типа, которые не обнаруживаются в других странах синоиероглифического региона.
Распространение буддизма на Корейском полуострове привело к настоящей ольфакторной революции, которая оказала большое влияние на традиционную корейскую культуру и изменила векторы эмоционального восприятия адептами буддизма различных запахов. В дальнейшем это привело к выработке классификации видов аромасырья, широко использовавшегося не только в религиозных и культовых практиках, но и в бытовых, санитарногигиенических и лечебных целях.
Список литературы Письменные источники эпохи Корё о благовониях и буддийских ольфакторных практиках на Корейском полуострове
- Войтишек Е. Э. Ароматическая культура Восточной Азии. Китай: с древности по настоящее время: Учеб. пособие / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2021. 224 с.
- Войтишек Е. Э., Яо Сун, Шмакова А. С. Ароматические печати и штампы в культуре Китая и Кореи: типология и контекст // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2023. Т. 22, № 4: Востоковедение. С. 73-87. DOI: 10.25205/1818-7919-2023-22-4-73-87 EDN: QRIDNE
- Ирён. Оставшиеся сведениятрёх государствах (Самгук юса) / Пер. с ханмуна, вступ. ст., коммент. и указ. Ю. В. Болтач; Ин-т восточных рукописей РАН. СПб.: Гиперион, 2018. 894 с.
- Какхун. Жизнеописания достойных монахов Страны, что к востоку от моря (Хэдон косын чон) / Исслед., пер. с ханмуна, коммент. и указ. Ю. В. Болтач. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007. 184 с.
- Ким Бусик. Самгук саги (Летописи Силла) / Пер. с кор. М. Н. Пак. М.: Вост. лит., 2001. Т. 1, кн. 12. 383 c.
- Ли Кёндок. Корейские мифы / Пер. с кор. Л. Азариной. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2022. 272 с.
- Троцевич А. Ф. История корейской традиционной литературы (до XX в.): Учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004. 323 с. EDN: QRMMEX
- Шмакова А. С., Войтишек Е. Э., Бэ Кидун. Ритуал "Захоронения аромата" 埋香 мэхян на юге Корейского полуострова: проблемы реконструкции // Вестник Новосиб. гос. пед. ун-та. 2016. № 6. С. 32-52. EDN: XDXZKP