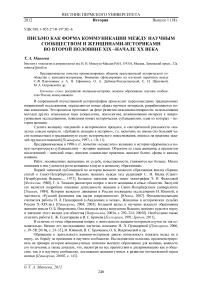Письмо как форма коммуникации между научным сообществом и женщинами-историками во второй половине XIX - начале XX в
Автор: Минеева Т.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: История женщин
Статья в выпуске: 1 (18), 2012 года.
Бесплатный доступ
Предпринимается попытка проанализировать общение представителей исторического сообщества с женщина-историками. Внимание сфокусировано на изучении переписки между С. Ф. Платоновым и А. Я. Ефименко, О. А. Добиаш-Рождественской, Е. Н. Щепкиной, М. А. Островской и др.
Российские женщины-историки, женское образование, научное сообщество России, коммуникации
Короткий адрес: https://sciup.org/147203383
IDR: 147203383 | УДК: 930.1-055.2"18-19":82-6
Текст научной статьи Письмо как форма коммуникации между научным сообществом и женщинами-историками во второй половине XIX - начале XX в
В современной отечественной историографии происходит переосмысление традиционных направлений исследования, определяются новые сферы научных интересов, разрабатываются новые концепции. Эти процессы протекают на фоне развития междисциплинарности, использования методов других социальных наук (социологии, психологии), возникновения интереса к микро-уровневым исследованиям, появления новых исторических субдисциплин, одна из которых – история женщин.
Сделать женщину «видимой» в историческом процессе, в «исторической реальности» оказалось совсем непросто. «Добавить женщин в историю», т.е. включить их имена (по большей части неизвестные) в традиционную схему исторического повествования, явилось на практике задачей труднодостижимой [ Пушкарева , 1997, с. 10–11].
Предпринимаемые в 1990-х гг. попытки «осмыслить» женщину в истории оформились в новую историческую субдисциплину – историю женщин. Объектом ее стала женщина, а предметом исследований – женский опыт, женские социальные практики, женское бытие, сферы и каналы влияния.
Работ, посвященных женщинам, их судьбе, повседневности, становится все больше. Много внимания в них уделяется роли женщины в науке и женскому образованию.
Первой значимой публикацией по истории высшего женского образования явился сборник статей о Санкт-Петербургских Высших женских курсах под редакцией С. Н. Валка [Санкт-Петербургские Высшие..., 1973]. Большое значение также имеет монография Э. П. Федосовой [ Федосова , 1980]. Г. А. Тишкин рассмотрел вопрос о месте женщины в семье, обществе. Заслугой его является подробное описание деятельности женщин в Санкт-Петербургском университете [ Тишкин , 1984]. Истории женского движения в России посвящены исследования И. Юкиной, в частности, «Русский феминизм как вызов современности» [ Юкина , 2007]. Фундаментальными считаются работы Н. Л. Пушкаревой («Академики в чепце», Женщины в исторических судьбах России X–XIX вв.) [ Пушкарева , 2004; 2003]. Большой вклад в изучение высшего образования женщин внесла О. Б. Вахромеева. Она показала вклад выпускниц Высших женских курсов в науку и значение этого вклада для общества [ Вахромеева , 2003а, с. 292–324; 2003б]. Необходимо также отметить работы Е. Ж. Есенгараева и В. С. Брачева [ Есенгараев , 1991; Брачев , 2011].
В отличие от темы образования вопрос о деятельности женщин-историков изучен не так основательно. Начало его исследованию частично положено Н. Л. Пушкаревой [ Пушкарева , 2006, с. 39–58; 2010а, с. 24–35], И. Юкиной, В. С. Брачевым, О. Б. Вахромеевой и др.
Обращение к деятельности женщин-историков давало возможность показать вклад их в науку, их борьбу за признание в научном сообществе. Исследователи пытались продемонстрировать на примере истории женщин-ученых значение высшего образования для женщин, важность его получения, а также доказать, что, несмотря на все препятствия и дискриминацию как в обществе, так и в научном сообществе, достижения женщин-ученых в развитии отечественной науки велики [ Пушкарева , 2010б, с. 143].
В связи со сказанным возникают вопросы: каким образом помощь мужчин-историков влияла на судьбу женщин, оказывали ли они ее вообще или оставались вне этого процесса, являлись ли они негласными учителями для женщин?
Изучить влияние историков-мужчин на становление женщин-историков можно на основе анализа источников личного происхождения, например переписки. Мы хотим показать взаимодействие историков, женщин и мужчин, проследить, как в ходе переписки внешняя дискриминация женщин сменялась научным общением и помощью.
В российской научной среде исследовательская деятельность считалась мужской. Впервые женщины появились в высших учебных заведениях в 1859–1861 гг., в период подъема общественного движения. Но уже в 1862 г. их перестали допускать на лекции в Петербургском университете, а с 1863 г. согласно циркуляру Министерства народного просвещения женщинам запрещалось появляться во всех университетах. С введением университетского устава в 1863 г. о высшем женском образовании в России на время можно было забыть. Поэтому русские женщины уезжали учиться в Швейцарию, Францию и Германию.
Ситуация изменилась в 1872 г. в связи с открытием Высших женских курсов в Москве, а в 1878 г. – и в Санкт-Петербурге. Приход женщин в историческую науку стал возможен двумя путями: через педагогическую деятельность и написание исторических работ.
В этот сложный для женщин период большую роль играло общение представителей научного сообщества и женщин-историков. Только в ходе такого общения появлялась возможность примкнуть к историческому сообществу и получить признание. Поэтому женщины начинают вести переписку с известными историками, влиявшими на формирование общественного мнения.
Необходимо отметить, что эпистолярный жанр как особая форма словесности уходит корнями в далекое прошлое. Особенность переписки в Новое время состояла в ее «массовом» распространении, связанном с тем, что она отражала процессы эмансипации индивидуальности, в том числе женской, и оформления пространства «приватной жизни», отделенной от публичной сферы. Переписка служила женщине незаменимым средством самовыражения, передачи всей гаммы чувств и настроений. Письмо было своего рода зеркалом «женской индивидуальности», отражением ее личностного эмоционального начала. Частная переписка позволяет судить о представлениях и ценностях, психологии и мироощущении, поведении и образе жизни, круге общения и интересах женщины, реконструировать основные этапы ее жизненного пути [ Белова , 2001, с. 49].
Исследуя перечисленные вопросы, мы используем следующие источники: переписку М. А. Островской, О. А. Добиаш-Рождественской, М. А. Холодняк, А. Я. Ефименко и Е. Н. Щепкиной с С. Ф. Платоновым, С. К. Брюлловой с А. Н. Пыпиным, О. А. Добиаш-Рождественской с А. С. Лаппо-Данилевским и А. Л. Никитиным, Н. А. Белозерской с Д. Л. Мордовцевым.
Условно мы отнесли источники к двум периодам – второй половине XIX – концу XIX вв. и первой четверти XX в.
Самые первые письма датируются 1863 г. Это переписка с А. Н. Пыпиным С. К. Брюлловой, дочери К. Д. Кавелина, которая с семнадцати лет изучала в Берлине историю, вызывая там удивление своими познаниями и глубоким пониманием истории.
Во второй половине XIX – начале XX в. мужчины выступали наставниками женщин-ученых. Так, с 1863 по 1877 г. Пыпин давал Софье Константиновне книги на «прочитку», подбирал ей литературу с учетом ее научных интересов1 . Такая переписка чаще всего носила рабочий характер. В ней обсуждались достижения и неудачи, проблемы, с которыми сталкивались женщины.
С. Ф. Платонов, выдающийся русский историк, в переписке выступал связующим звеном между академическим сообществом историков и пытавшимися войти в научное сообщество женщинами. Так, с 1885 по 1903 г. велась активная переписка между С. Ф. Платоновым и Е. Н. Щепкиной, одной из первых женщин-историков, специалистом по истории женского движения в России. Отношения между ними были непростые, в них проявился эмоциональный характер Екатерины Николаевны: «С первого свидания я поджидала, не подтвердите ли вы делом свои слова, что мы состоим на курсах на товарищеском положении..., но если мои посещения останутся без ответа, то соглашусь и должна буду считать ваши слова и товарищество случайным само-утверждением…»2 С. Ф. Платонов ей отвечал: «…говоря с вами о наших служебных отношениях (иначе не могу звать отношения по курсам), я говорил, что они служат на началах равенства и в этом смысле товарищество!.. Если бы я смог подумать, что вы хотите знакомство со мной и моим домом, я бы побывал у вас. Но это совершенно иная сфера отношений и товарищества, чем отношения и товарищество на курсах: на курсах товарищество может быть всегда только равенство за одинаково честной работой. Этих двух сфер, деловой и частной, я совмещать не смогу»3.
С начала XX в. начинается второй период в истории переписки между историческим сообществом и женщинами-историками. Так, М. А. Островская, в будущем магистр русской истории, переписывалась с С. Ф. Платоновым с 1906 по 1914 г. Она советовалась с ним по поводу проблематики исследования, печатания древних актов. В одном из писем Мария Андреевна даже называла себя ученицей С. Ф. Платонова: «…отношение к моему делу факультета не может зависеть от вашего личного мнения, то для меня, вашей ученицы (простите, что я позволила себя называть так), Ваше отношение к вопросу далеко не безразлично . Что же касается Вашего последнего совета, то я думаю, что совсем нет необходимости в том, чтобы специальные занятия руководителя были близки к специальным занятиям руководимого. Если мне когда-нибудь понадобится навести специальные справки, или получить специальные указания, для своей работы у Лаппо-Данилевского или Селявского, я само собой разумеется, к ним и обращусь, как уже раз и обращалась к Селявскому с библиографическими справками по Алексеевской эпохи, когда одно время задалась неразумным намерением погнаться за двумя зайцами (конечно, я потом предпочла остаться при одном зайце). Пока такой надобности не было, и, хотя мне пришлось обращаться раза два к Лаппо-Данилевскому с практическими просьбами (относительно просмотра статьи об олонецких крестьянах и «Исторического общества», но дальше мгновенных деловых переговоров идти не было нужды. В общем же руководстве занятиями я прошу вас мне не отказать. Например: я после Рождества начала систематически готовиться к магистерскому экзамену (я надеюсь когда-нибудь его добиться и было бы вам в высшей степени благодарна за всякий совет относительно подготовки). Да, ведь, быть может – и не всю жизнь я буду заниматься специально только крестьянским землевладением и землепользованием, – во всяком случае, ваша школа мне была бы очень полезна во всех смыслах. До некоторой степени я, ведь, все же ваша ученица – так не откажите мне надеяться стать ей и вполне»4. Мария Андреевна делилась с Сергеем Федоровичем и своими сомнениями, в частности, по поводу допущения ее к сдаче магистерского экзамена: «Так будет и в этот раз. Министерство тем более не будет обсуждать этого вопроса. Надо полагать – я раньше умру, чем вопрос решиться»5 .
В письмах, адресованных С. Ф. Платонову, Мария Островская постоянно выражает свое восхищение им: «Я считаю вас наиболее талантливым из петербургских специалистов по русской истории и потому предпочла бы иметь с вами дело. Мало того: я Вашей школы. Я, конечно, не знаю, насколько я воспользуюсь этой школой: это зависит от того, какие в конце концов у меня окажутся способности, но влияние на меня вы имели очень большое»6 .
Не только женщины-ученые писали знаменитому историку и просили его о помощи, но и сам Сергей Федорович был заинтересован в их становлении и научном признании. Так, с историком Д. И. Багалеем он обсуждал и представлял интересы А. Я. Ефименко, получившей в начале XX в. почетное звание доктора российской истории. В письме он писал: «…вы можете уверены быть, что, выступая с предложением о докторской степени А. Я., имеете за собой сочувствие Ваших товарищей по науке и готовность нашу посильно содействовать Вам…»7 . На что Д. И. Багалей отвечает: «…но теперь предстоит самое трудное – утверждение А. Я. в степени Министерством Народного Просвещения..., во 1-х она женщина, во 2-х не окончила высшего учебного заведения…»8 .
Помимо обсуждения с Д. И. Багалеем достижений А. Я. Ефименко С. Ф. Платонов переписывался с историком В. И. Саввой, в одном из писем к которому очень радовался возможности получения Александрой Яковлевной ученой степени9 . А. Я. Ефименко в свою очередь благодарила С. Ф. Платонова за его помощь и в одном из писем спрашивала: «…как мне отблагодарить вас за вашу доброту?»10.
А. Я. Ефименко, как и другие женщины-историки, активно переписывалась со многими представителями исторического сообщества. Так, историка С. Н. Шубинского еще в 1891 г. она просила опубликовать статьи и спрашивала о работе и подготовке библиографии, если это необходимо «Историческому вестнику»11 .
И. Гревс, будучи научным руководителем О. А. Добиаш-Рождественской, впоследствии ставшей первой в русской науке женщиной-магистром и профессором всеобщей истории, через письма оказывал огромное влияние на ученую. С 1902 по 1933 г. в письмах чаще всего обсуждались научная деятельность, темы исследования12. В 1911 и 1915 г. Добиаш-Рождественская переписывалась с историком А. С. Лаппо-Данилевским. Они обсуждали публикацию ее научных тру-дов13. Письма П. В. Никитина к Ольге Антоновне носили восторженный характер. Он положительно оценивал ее деятельность, восхищался ее научным трудом, давал высокую оценку ее дис-сертации14. И С. Ф. Платонов в письме к О. А. Добиаш-Рождественской писал: «…от души желаю, чтобы ваша научная деятельность продолжалась столь же счастливо и энергично, как начина-лась»15.
Таким образом, историки-мужчины играли огромную роль в становлении женщин-ученых. В частности, Н. А. Белозерской представители научного сообщества активно помогали в научной деятельности. Об этом она пишет в своих воспоминаниях: «Д. Л. Мордовцев, с которым я познакомилась у Костомарова, предложил мне писать рецензии для “Древней и Новой России”, издававшейся под редакцией С. Н. Шубинского, добавив, что работу мою будет выдавать за свою, потому что не примут иначе – я женщина, и это первый случай… Придумал он мне и псевдоним: Б. Гнв (без гнева) и для разбора привез книгу “Памятник протекших времен” А. Т. Болотова, – объяснил, как писать и что требуется… Я согласилась, потому что другой работы не было» [ Белозерская , 1913, с. 933].
Письмо как форма самовыражения, как возможность «выговорить себя» способствовало вхождению женщин в историческое сообщество. В письмах определялись научные интересы женщин-историков, происходило знакомство виднейших историков эпохи с исследованиями женщин и обнаруживалось их отношение к возможности занятия женщинами исторической наукой. И, хотя большинство историков в России составляли мужчины, женщины получили возможность и право войти в историческое научное сообщество.
Список литературы Письмо как форма коммуникации между научным сообществом и женщинами-историками во второй половине XIX - начале XX в
- Белова А. В. Российские женщины и европейская культура: матер. V конф., посвящ. теории и истории женского движения/сост. и отв. ред. Г. А. Тишкин. СПб., 2001.
- Белозерская Н. А. (Надежда Александровна Белозерская, урожденная Генъ) Автобиография//Ист. вестн. 1913. Июнь.
- Брачев В. С. Наша университетская школа русских историков и ее судьба, СПб., 2011.
- Вахромеева О. Б. Высшее женское образование в России и Санкт-Петербургский университет во второй половине XVIII -начале XX столетия//Празднование 275-й годовщины основания Санкт-Петербургского университета: док. и матер./сост. Г. А. Тишкин. СПб., 2003.
- Вахромеева О. Б. Духовное пространство Университета: Высшие женские (Бестужевские) курсы 1878-1918 гг.: исслед. и матер. СПб., 2003.
- Санкт-Петербургские Высшие женские (Бестужевские) курсы, 1878-1918: сб. статей/под ред. С. Н. Валка. Л., 1973.
- Есенгараев Е. Ж. Научные общества и их роль в исторической науке России конца XIX -начала ХХ веков (На матер. деятельности ист. обществ при Моск. и Петерб. ун-тах). М., 1991.
- Пушкарева Н. Л. «Академики в чепце». История дискриминационных практик в отношении российских женщин-ученых//Женщина Плюс. М., 2004.
- Пушкарева Н. Л. Женщины в исторических судьбах России X-XIX вв.//Женщина Плюс. М., 2003.
- Пушкарева Н. Л. Женщины в российской науке конца XX -начала XXI века: обобщение количественных характеристик//Женщина в рос. обществе. 2010а. № 3.
- Пушкарева Н. Л. Женщины-ученые в российском постсоветском фольклоре//Этногр. обозрение. 2006. № 4.
- Пушкарева Н. Л. Из небытия: женские имена в российской науке начала XX в.//Науч. ведомости Белгород. гос. ун-та. Сер. История. Политология. Экономика. Информатика. 2010б. Т. 1, № 13.
- Пушкарева Н. Л. Первые российские женщины-ученые (Опыт типизации индивидуальных человеческих стратегий)//Женщины в отечественной науке и образовании: матер. всерос. науч-практ. конф. Кострома, 1997.
- Тишкин Г. А. Женский вопрос в России: 50 -60-е годы XIX в. Л., 1984.
- Федосова Э. П. Бестужевские курсы -первый женский университет в России. М., 1980.
- Юкина И. Русский феминизм как вызов современности. СПб., 2007.