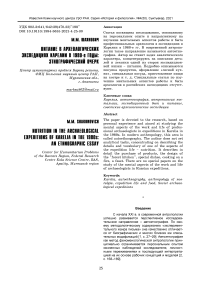Питание в археологических экспедициях Карелии в 1980-е годы: этнографический очерк
Автор: Шахнович М.М.
Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc
Статья в выпуске: 4 (50), 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию, основанному на персональном опыте и направленному на изучение ментальных аспектов работы и быта профессиональных археологов в экспедициях в Карелии в 1980-е гг. В современной антропологии такое направление называется автоэтнография. Автор не ставит задач аналитического характера, концентрируясь на описании деталей и лексики одной из сторон экспедиционной жизни - питания. Подробно описываются покупка продуктов, оформление «лесной кухни», специальная посуда, приготовление пищи на костре и т. д. Специальные статьи по изучению ментальных аспектов работы и быта археологов в российских экспедициях отсутствуют.
Карелия, автоэтнография, антропология ностальгии, экспедиционный быт и питание, советские археологические экспедиции
Короткий адрес: https://sciup.org/149139077
IDR: 149139077 | УДК: 902.3:641/642:39(470.22)"198" | DOI: 10.19110/1994-5655-2021-4-25-30
Текст научной статьи Питание в археологических экспедициях Карелии в 1980-е годы: этнографический очерк
С начала XXI в. в современной антропологии успешно развивается перспективное исследовательское направление – автоэтнография. По своему методологическому содержанию «экспериментального жанра письма» она качественно отличается от биографических и многих близких им описательных модификаций [1, с. 27–29]. Автоэтнография как метод феноменологической антропологии принципиально ограничивается персональным опытом жизненных наблюдений исследователя, личностными переживаниями и последующей интерпретацией на их основе рабочих концепций и моделей [2, с. 168–169].
Археология, по мнению большинства не соприкасающихся с ней людей, представляет собой «экзотическую» науку. Действительно, она предполагает определенную специфику полевой и кабинетной деятельности.
Археологическое сообщество можно формально стратифицировать по географическим зонам проведения экспедиционных работ: группы археологов тундры, тайги, пустыни, степей, городов и т.п. Это разделение, хорошо заметное объединенным в профессиональную группу людям, подразумевает различия в неких качественных поведенческих характеристиках, дополнительно отягощенных спецификой менталитета столичных и региональных научных корпораций.
Специальные аналитические исследования, направленные на изучение ментальных аспектов работы и быта профессионалов-археологов в российских экспедициях, до сих пор отсутствуют. Поэтому любые личные наблюдения, особенно о давно прошедших событиях, становятся ценными и значимыми источниками для исторической ретроспекции.
Эта небольшая статья этнографического характера посвящена одной из важных практик археологов-полевиков «северной аборигенной культуры» заключительного периода существования СССР – сфере экспедиционного питания. Автор не ставит задач аналитического характера, концентрируясь на прозаичном, так называемом прямом бытописательстве, с максимальной фиксацией деталей, частностей и лексики полевого уклада жизни. Данную работу при общем методологическом структурировании можно отнести к антропологии ностальгии, в ее эмоционально положительном, темпоральном аспекте.
***
Мое вхождение в полевую археологию состоялось в период студенческой практики, в июле 1980 г. – месяц, отмеченный на отечественной «ленте времени» московской Олимпиадой и смертью кумира советских людей – Владимира Высоцкого. Под руководством Валентины Федоровны Филатовой на живописном полуострове Оровнаволок, в северной части Онежского озера, мы проводили раскопки мезолитических поселений. Для меня это был судьбоносный месяц, повлиявший на выбор смыслового вектора дальнейшей жизни, профессионального самоопределения.
В начале 1980-х гг. сектор археологии ИЯЛИ Карельского филиала АН СССР (КарФАН СССР), единственный осуществлял археологические изыскания в Карелии 1. В нем трудились 13 чел.: семь мужчин и шесть женщин. Из них девять – археоло-ги-«листовики», которые с мая по октябрь чередовали руководство своими отрядами присоединением к экспедиционным выездам коллег. Разовые полевые работы, по сравнению с современной практикой, были продолжительными – от трех недель до месяца. В гостиницах и домах жили редко, предпо- читая аскетичный палаточный быт даже в холодном сентябре.
По прошествии 40 лет можно утверждать, что «застойные» 1980-е гг. были особым периодом в провинциальной археологии советской эпохи. С тех пор многое в организации и повседневном быте «карельских» экспедиций кардинально и безвозвратно изменилось. Какие-то частности полевой жизни воспринимаются сейчас «молодежью» как анахронизм или просто забавный миф, далекий от реальности.
В СССР для руководителя «северной» экспедиции на первый взгляд обычная задача обеспечить трудовой коллектив «достойным» набором продуктов была не проста и требовала некоторой сноровки. Разумеется, в 1980-х гг. время послевоенных сороковых и пятидесятых с продуктовыми карточками, общей нищетой и тотальной бедностью магазинов, давно ушло в область устных преданий о первых легендарных археологах, трудившихся в

Фото. А.В. Анпилогов и Г.А. Панкрушев. 1970-е гг. Foto. A.V. Anpilogov and G.A. Pankrushev. The 1970s.
Карелии – А.Я. Брюсове, Н.Н. Гуриной, Г.А. Пан-крушеве. Однако эти нелегкие в части комфорта десятилетия оставили неизгладимый след в менталитете последующих, более благополучных в снабжении археологических экспедиций 1960–1980-х гг.
«Пищеблок»
В карельских экспедициях предпочитали выбирать места для работы и лесной жизни подальше от населенных пунктов с многочисленной скучающей «мотоциклетной молодежью». Продолжительный стационар по возможности устраивался на удобном для обитания берегу озера. Участок полевой кухни старались поместить на удалении от жилой зоны лагеря, чтобы неизбежный шум утренней возни около костра и вечерние посиделки не мешали спящим коллегам.
Над «пищеблоком» растягивался видавший виды, прокопченный и прожженный искрами от костра брезентовый тент. Приспособление для подвешивания над огнем ведер сооружалось из двух вкопанных столбиков с набитыми гвоздями и положенного на них окоренного ствола молодой сосенки. Рядом с костром складывали кучу валежника и делали импровизированные скамьи из отполированного водой плавника. На траве, «в близком отдале- нии», лежали перевернутые, чтоб не мешались под ногами и не налетала сажа, чистые кастрюли и ведра. Продукты хранились в специальных «вьючных ящиках» из фанеры с окованными углами, на настиле из жердей в отдельной палатке–складе. Вход в нее был разрешен только начальствующему составу и дежурным. Отрывалась мусорная яма, куда бросали выжженные железные банки и битое стекло. Все накопленные целые банки и бутылки, тщательно помытые и сложенные в специальную коробку, можно было сдать в магазине и получить небольшие денежные средства для покупки каких-нибудь деликатесов, например, молдавского сливового компота.
Полевая посуда
Готовили исключительно на костре. Другие варианты – например, портативные плитки с газовым баллоном, – даже не рассматривались. «Кухонное железо» хранилось в специальном углу секторского хранилища и выдавалось при выездах. В обычный костровой набор для экспедиции входили несколько ведер – эмалированных для готовки и оцинкованных для воды, разноемкие алюминиевые чайники и кастрюли с мятыми крышками, железные поварешки с примотанными проволокой к ручкам деревянными палочками-надставками, общественные кружки, миски и алюминиевые ложки (вилок почему-то брали только одну – две), несколько ножей с деревянными ручками, которые использовались и для расчистки погребений. Полевики со стажем обязательно привозили свои личные столовые приборы, которые сами мыли и хранили около палатки, вынося к трапезе. Вся посуда после еды мылась пляжным песком или хозяйственным мылом. Внешние закопченные поверхности ведер в лесу только споласкивались, а относительно тщательно сажа от них оттиралась только перед возвращением в город.
Закупка продуктов
Централизованно на складе КарФАН СССР можно было заблаговременно выписать вожделенные дефицитные продукты – тушенку, сгущенку и индийский черный чай. Все остальное приобреталось за наличный расчет в магазинах. Деньги выдавались бухгалтерией «под аванс» начальнику отряда для полевого функционирования экспедиции: приобретение бензина, зарплата «на месте» официально оформленным рабочим и прочие расходы. «Для прокорма» всем начислялись суточные – 1,18 руб. в день. Это была значительная по тем временам сумма. Экономные экспедиции при «колпите» умудрялись тратить по 30–40 коп. в день на человека, и в конце месяца нам оставался приятный рублевый «довесок» к основной лаборантской ставке в 75 руб.
Домовитые семейные женщины сами брали на себя обязанности по наведению порядка в питании и чистоте на полевой кухне. Закупки делались ответственно и экономно по заранее обсужденному с начальником списку. Тем, кто отправлялся в магазин (зачастую пешком 5–7 км в одну сторону) деньги выдавались главой экспедиции. По возвращении в лагерь обязательно предоставлялись чек и сдача. Тяжелый рюкзак с покупками носил кто-нибудь из юношей-студентов.
На небольшой археологический коллектив варили они же. Иногда эта «святая обязанность» передавалась студенткам. Несмотря на подробнейшие инструкции старших товарищей, с неопытными молодыми «стряпухами» постоянно случались какие-то забавные казусы, о которых потом долгие годы любили вспоминать со смехом.
Сейчас понятно, что полевой быт десятилетия до нас был четко разделен на мужские и женские сферы. Это воспринималось естественно и органично. При этом не было проблемой, если в отсутствие коллег противоположного пола мужчине нужно было сварить немудреную похлебку, а женщине нарубить веток для разведения костра.
Ассортимент продуктов
Выбор продуктов в «универсальных» сельских магазинах в 1980-х гг. был не велик. Для полевого обеда обязательно брались три вида сухих супов с макаронными кружочками или рисом (харчо, рисовый и овощной) в бумажных пакетиках – такие незатейливые супы можно было найти на каждом продуктовом прилавке в СССР. Рыбные консервы выбирались преимущественно подешевле – в томатном соусе. Из набора исключались шпротный паштет и корюшка «в томате», из-за их отвратительного вкуса.
Неукоснительно в экспедицию покупались краснодарский томатный соус «СОС», баклажанная и кабачковая икра «изжога» в поллитровых стеклянных и железных банках, которые сопутствовали макаронам и немолочным кашам. К чаю предлагалось приторное густое повидло из яблок, реже – более вкусное сливовое.
Сливочное масло не брали, так как его негде было хранить летом; в теплую погоду оно быстро становилось прогорклым. Опытные коллеги пытались прятать его от жары в ведро с холодной водой или в выкопанной яме, но это было малоэффективно. Масло заменяли маргарином «Радуга». Большой «радостью гурмана» были дешевые плавленые сырки «Орбита» и «Дружба» в фольге с бумажной наклейкой.
В экспедициях всегда требовалось много хлеба – килограммовых буханок «черняшки» кисловатого вкуса. Он был дешевый (по 20 коп.), и его не экономили. К сладкому черному чаю выставлялась большая эмалированная миска, в которую насыпались сушки или сухари («фураж») – их обожали есть постоянно голодные студенты.
Почти полностью в полевом рационе карельских археологов отсутствовали мясо и мясные консервы, так как эти продукты в 1980-х вообще не наблюдались в КАССР в свободной продаже (кроме кооперативных магазинов). Изредка (раза два за месяц) покупалась курица для супа. Помню единственный случай из своей полевой жизни, когда в экспедиции на Водлозеро в 1984 г. в продуктовой палатке лежал ящик тушенки, полученный на складе КарФАН. Наверно, ее можно было заранее выписать весной, что всегда и делали предусмотритель- ные геологи, но суровые археологи такой «пошлой возней» себя не утруждали.
Вспоминается забавный случай в 1983 г. около поселка Пиндуши, когда при возвращении в лагерь с работы на шоссе наш старенький легендарный ГАЗ-51 с надписью «Ветпомощь» обогнала бортовая машина, нагруженная «с горкой» половинками разрубленных свиных голов, которые везли на корм норкам на звероферму. На повороте одна из них выпала на асфальт и была с ликованием немедленно нами подобрана. Вечером «трофею с большой дороги» выбили зубы топором и долго варили целиком с картошкой в костровом эмалированном ведре.
Рацион дополняли сахарный песок и рафинад в бумажных пачках, самый дешевый грузинский чай с характерным привкусом в упаковках по 50 и 100 г, разные крупы, сухой цельный горох, пресный «рассольник» в стеклянных банках, желтые макароны длинными трубочками, разливное подсолнечное масло в бутылке, заткнутой куском бумаги и крупнозернистая соль. Из специй продавались только лавровый лист и черный перец горошком, а молотый для ухи нами нахально ссыпался со столов в сельских столовых в свернутую кулечком бумажку. Вялую прошлогоднюю картошку, которую использовали только для варки ухи, изредка покупали у местных жителей.
Огурцы и помидоры летом привозились в сельские магазины, но покупались редко, наверно, из-за их относительной дороговизны. Ограничивались репчатым луком, мятой капустой и свеклой для супов. Иногда на традиционное «пиршество» в День археолога покупался арбуз.
Молочные продукты в постоянном наборе экспедиционных продуктов отсутствовали. Единственно, когда в полевой сезон археологический стационар был разбит недалеко от пионерских лагерей на берегу Повенецкого залива Онежского озера, доброе отношение к нам их руководства позволяло «по-соседски» получать остатки молока, которое дети не выпивали на ужин.
На общественные деньги никогда не покупались «дорогие» продукты: шоколад, конфеты, печенье, выпечка, кулинария, колбасы, сыр, «молочка», соки. Это приобреталось лично каждым по желанию.
Приготовление еды
Варить на костре в ведре при определенном опыте не сложно, но к постоянному едкому дыму, обжигавшему кожу лица жару и прочим сопутствующим «радостям» нужно было привыкнуть. Также существовало много мелких, но «освященных временем» важных правил в немудреной походной кулинарии, соблюдение которых от варящего требовалось неукоснительно.
На завтрак готовились каши. Редко использовали рис и манку, так как их надо было уметь приготовить на костре, чтобы угодить всем коллегам. В основном сыпали в ведро пшеничку, пшенку и геркулес. За неимением натурального молока в каши обязательно добавлялась из картонных банок с металлическими крышками разведенная сначала в холодной воде, а потом в кипятке молочная смесь для вскармливания грудничков «Малыш» или «Малютка». По инструкции старших порошок предварительно долго размешивали и растирали ложкой в миске с водой, добиваясь отсутствия комочков. Начальник экспедиции утром на костре заваривал себе ароматный кофе в маленькой закопченной турке, но это скорее было исключением для традиционного завтрака.
На обед приготавливались суп и макароны. Название первого блюда соответствовало тому виду суповых пакетиков, которые решил использовать в этот день дежурный. Гороховую похлебку готовили только из специальных брикетов-полуфабрикатов, предварительно размятых до сыпучего состояния. «Для плотности» в супы добавлялись перловка и мелко ломанные макароны.
Мясо в супе заменяли рыбные консервы, которые клали по шесть банок на ведро. Тушенку перед закладкой (половина полукилограммовой банки на ведро) тщательно размельчали в миске. Железную банку из-под нее подогревали на костре и остатки расплавленных «жиров» до последней капли сливали в кипящее в ведре варево. Если использовалась курица, то после приготовления она вынималась, в большой миске мясо «по-справедливости» разделялось на волокна и снова возвращалось в бульон.
На раскопках в Пиндушах 1983 г. мы «открыли» для себя вареную консервированную фасоль в томатном соусе, которую ранее иногда клали для наваристости и вкусового разнообразия в суп. Она присутствовала всегда в небогатом ассортименте сельских магазинов. В холодном состоянии фасоль была невкусной, но разогретая на сковороде с жаренным луком, воспринималась в обед на раскопе просто великолепно. Это стало неким «гастрономическим прорывом».
Чай присутствовал всегда при «приеме пищи». Его заваривали в большом алюминиевом чайнике, что было тщательно выдержанным ритуалом. Заварка отмерялась горстями (две - три) и резким движением бросалась в закипевшую воду, после чего чайник отставлялся на периферию костра для десятиминутного настаивания. На стационаре специально дополнительно кипятили отдельно воду для разведения заварки, на выезде - после еды пили крепкий бодрящий «купчик», в прикуску с быстро растворяющимся сахаром-рафинадом. Иногда для студентов варился фруктовый кисель «Ягодный» из магазинных брикетов.
Из смеси остатков каши, молока и муки на большой чугунной сковороде пекли вкусные оладьи для «второго» ужина в темноте. В обжигающем состоянии они поедались коллективом со сладким чаем около костра.
На общем столе, покрытом клеенкой или целлофаном, стояли небольшие эмалированные миски с сахарным песком, стеклянная банка с солью и крупно порезанный хлеб. В качестве «жиров» на стол ставился маргарин «Радуга» в брикетах по 250 г. Из чего его делали, трудно сейчас сказать, возможно, и из нефти, но мы радостно мазали его на хлеб и добавляли в кашу. После еды все со стола обязательно убиралось в хозяйственную палатку, чтобы уберечь от возможного дождя.
Дополнительным источником ценного белка была озерная и речная рыба. Старшие коллеги любили порыбачить после ужина и заодно отдохнуть на водной глади от вездесущих комаров, сбивавшихся в огромные тучи. Сети ставились редко, и в основном, лов проводился с деревянной лодки самодельными удочками или на дорогие личные спиннинги. Величина улова разнилась. Это мог быть целый таз окуней и плотвы, но чаще всего добыча умещалась на стандартной чугунной сковороде. Выловленную рыбу, отчаянно отбиваясь ножами от злых комаров, ночью чистили люди, не принимавшие участия в процессе рыбалки. Чешуя снималась только с плотвы.
Уху готовили двумя способами: традиционно в котелке, кастрюле или же «по-карельски» в сковороде. Основным при ее варке был вопрос об использовании репчатого лука. В рецептуре бытовало два варианта: согласно кулинарным представлениям начальника экспедиции, луковицу или мелко резали или опускали в воду целиком. Иногда «для сытности» в уху добавляли немного манки или сухого молока. За выполнением этих «сакральных» правил строго следили старшие товарищи.
Несколько раз на долгом стационаре, в жарком июле мелкие рыбки выдерживались в рассоле, а затем развешивались на проволоке между сосен для завяливания на солнце. Приготовленный соленый «ихтиопродукт» считался деликатесом.
Использовались и «дары леса». В августе и сентябре дежурный для общего стола собирал ежедневно небольшую миску черники или брусники, из которых варили с сахаром «пятиминутку» к вечернему чаю. Все найденные в окрестностях лагеря или на маршруте разведки грибы приносились на кухню и добавлялись в обеденный суп или жарились вечером с луком. Заготовками непосредственно для домашних нужд занимались только в последний день перед отъездом.
Большим и радостным событием в «гастрономической жизни» экспедиции было посещение леспромхозовских столовых. Там можно было взять полстаканчика сметаны, тарелку рассольника, порцию пюре с котлетой и подливкой, компот из сухо-фрутов.
К еде в разведке относились минимизировано. Вспоминается случай, произошедший в июне 1983 г. с Г.А. Панкрушевым на полуострове Оров-наволок. Как главный в группе, для питания трех мужчин в магазине он купил на день один батон и две банки рыбных консервов. В разведке с П.Э. Песонен по р. Кереть в северной Карелии на один обед для четырех человек в рюкзак складывался стандартный набор: две банки рыбных консервов, луковица, буханка черного хлеба, сахар и чайная заварка.
Экспедиционное застолье
Несомненно, алкоголь в полевой жизни присутствовал, хотя в отрядах с женским руководством обычно вводился жесткий «сухой закон». Как правило, водка или вино (не более одной бутылки) ритуально покупались вместе с продуктами на «при- вальную», реже «на отвальную» и «послебанные» посиделки и, естественно, на День археолога.
На магазинных прилавках стояли сладкие ленинградские наливки и ликеры, шампанское, качественные болгарские и крымские вина, дорогие коньяки заводов кавказских республик. Их и покупало на выданный начальником небольшой аванс студенчество для вечеров с гитарой у костра. Пиво петрозаводского исполнения в бутылках темного стекла было предметом экзотическим, хотя и встречалось в сильно просроченном состоянии (иногда с осадком) в леспромхозовских магазинах.
За общей трапезой не выпивали. Возможно, это считалось непристойным. Однозначно легко можно было получить от «доброжелателей» «сигнал» институтскому начальству о разлагающем поведении и попустительстве начальника экспедиции пьянству рабочего коллектива. Единственный общий «выпивон» за столом санкционировался в День археолога или «отвальную». Обычно желающие «принять» собирались конспиративно с гитарой в чьей-нибудь вместительной палатке или уходили подальше в лес.
Закуска к водке была самая минимальная: порезанная луковица, толстые ломти черного хлеба, крупная соль, высыпанная горкой на газетку, иногда злая горчица в стеклянных баночках по 100 г или вершина мечтаний – банка килек в томате. Особенно ценился острый томатный соус «СОС», в который можно было макать хлеб. Плохое качество дешевой водки «Русской» – «ацетоновки», которая «шла колом», требовало непременного моментального ее запивания. Поэтому обязательно на столе или на спальниках в палатке стоял «запивон» – большая кружка с холодным крепким чаем без сахара или озерной водой, из которой по очереди пили все участники застолья. Иногда приносились остатки ужина: холодные слипшиеся макароны, застывшая уха или каша. Хлеб каждым участником отрезался лично по мере необходимости. Потреблять еду, кроме как в качестве закуски, считалось неприличным. Ложки редко брались по числу участников. Брезгливость, в ее современном понимании, в советской экспедиции отсутствовала.
Заключение
К питанию «в поле» мы относились как к важной, но все же вторичной после работы, составляющей части экспедиционной жизни. Неприхотливость и бесхитростность «лесной кухни» воспринимались спокойно и естественно как некая норма: «просто еда, чтобы работать». Такой подход был следствием механизма передачи старшим поколением археологов общих ментальных традиций карельских экспедиций своим преемникам.
Надеюсь, представленный очерк отчасти заполнит существующую лакуну по данной тематике в отечественной историографии и найдет положительный отклик среди коллег, стимулируя их к собственным исследовательским работам мемуарного плана. В период стремительных и радикальных изменений в окружающем нас мире это будет способствовать сохранению идентичности субкультуры нашей профессиональной группы.
Список литературы Питание в археологических экспедициях Карелии в 1980-е годы: этнографический очерк
- Соколовский С.В. Автоэтнография и антропологические исследования науки // Антропология академической жизни. 2010. Вып. II. М.: ИЭА РАН. С. 24-42.
- Соколовский С.В. Жизнь как поле: заметки об автоэтнографии // Поле как жизнь. К 60-летию северной экспедиции ИЭА РАН. М.-СПб.: Нестор-История, 2017. С. 167-190.