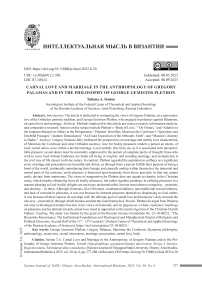Плотская любовь и брак в антропологии Григория Паламы и философии Георгия Гемиста Плифона
Автор: Сенина Т.А.
Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu
Рубрика: Интеллектуальная мысль в Византии
Статья в выпуске: 6 т.30, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье сравнивается отношение к плотской любви и браку в антропологическом учении Григория Паламы, выражавшего взгляды православных отцов церкви, и в мировоззрении Георгия Гемиста Плифона, чья философия стала полемическим ответом паламизму, в том числе в области морали. Палама полностью воспринял воззрения на супружество и земную любовь, свойственные Максиму Исповеднику и строгим православным аскетам: любовь к телесным удовольствиям делает человека врагом Богу; плотское соитие даже в законном браке не вполне свободно от греха, поскольку сопряжено с неуправляемым наслаждением; сексуальное желание нужно постоянно подавлять, стремясь к полной чистоте мыслей; желающим беспрепятственно угождать Богу лучше жить в девстве и избегать брака; монашество – наиболее близкий к божественной природе гражданский образ жизни. Плифон, напротив, считал стремление к безбрачию большим заблуждением: с его точки зрения, брак и деторождение прекрасны и божественны, так как через них человек исполняет свое предназначение быть скрепой мира, постоянно воспроизводя свой род и вечно соединяя в себе бессмертную и смертную части вселенной; любовное наслаждение даровано человеку свыше именно для того, чтобы он не мог легко уклониться от супружества. Добродетель σωφροσύνη у Плифона – не целомудрие в христианском понимании, как воздержание от всех плотских удовольствий, а благоразумие в смысле пользования удовольствиями богоугодным образом: плотские наслаждения необходимы и позволительны, но в них надо соблюдать κοσμιότης – благопристойность и порядочность. Хотя Гемист, как и христиане, осуждал прелюбодеяние, нетрадиционные сексуальные отношения и невоздержанность в наслаждениях, но не потому, что считал небогоугодными удовольствия как таковые, а потому, что все это в его философии не согласуется с конечной целью плотской любви и долгом человека перед вселенной – деторождением, которым люди подражают самим Богам. Таким образом, учение Плифона об удовольствиях и его отношение к плотской любви противостояло аскетическому ригоризму отцов христианской Церкви. Финансирование. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-18-00251 «Византийский Ренессанс: институциональные основания и теолого-метафизические истоки религиознополитического дискурса второй половины XI–XV вв.» (Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук), https://rscf.ru/project/23-18-00251/.
Георгий Гемист Плифон, Григорий Палама, Максим Исповедник, византийская философия, антропология, аскетика, половое общение, брак, деторождение, чувственная любовь, тело
Короткий адрес: https://sciup.org/149150185
IDR: 149150185 | УДК: 1(100)(091):2-585 | DOI: 10.15688/jvolsu4.2025.6.20
Текст научной статьи Плотская любовь и брак в антропологии Григория Паламы и философии Георгия Гемиста Плифона
DOI:
Abstract. Introduction. The article is dedicated to comparing the views of Gregory Palamas, as a representative of the Orthodox patristic tradition, and George Gemistos Plethon, who engaged in polemics against Palamism, on carnal love and marriage. Methods. Methods employed in this article are source research, information analysis, and comparative research. Sources on the subject include Plethon’s “Book of Laws,” “On Virtues,” and “Address to the Emperor Manuel on Affairs in the Peloponnese,” Palamas’ Homilies; Maximus the Confessor’s “Questions and Doubtful Passages”; Ioannes Damaskenos’ “An Exact Exposition of the Orthodox Faith”; and “Mazaris’s Journey to Hades.” Analysis. Gregory Palamas fully embraced the perspectives on marriage and earthly love characteristic of Maximus the Confessor and strict Orthodox ascetics: love for bodily pleasures renders a person an enemy of God; carnal union, even within a lawful marriage, is not entirely free from sin, as it is associated with uncontrollable pleasure; sexual desire must be constantly suppressed in the pursuit of complete purity of thought; those who wish to serve God without hindrance are better off living in virginity and avoiding marriage; and monasticism is the civil way of life closest to divine nature. In contrast, Plethon regarded the aspiration to celibacy as a significant error: marriage and procreation are beautiful and divine, as through them a person fulfills their purpose of being a bond of the world, continually reproducing their lineage and eternally uniting within themselves the immortal and mortal parts of the universe; erotic pleasure is bestowed upon humanity from above precisely so that one cannot easily deviate from matrimony. The virtue of σωφροσύνη for Plethon does not equate to chastity in the Christian sense, which implies abstaining from all bodily pleasures, but rather signifies prudence in utilizing pleasures in a manner pleasing to God: bodily delights are necessary and permissible, but one must observe κοσμιότης – propriety and decency – in them. Although Gemistos, like Christians, condemned adultery, non-traditional sexual relations, and lack of restraint in pleasures, it was not because he deemed pleasures themselves displeasing to God; rather, it was because all these aspects do not align with the ultimate goal of carnal love and humanity’s duty towards the universe – procreation, through which humans emulate the Gods themselves. Results. Plethon diverged from Palamas not only in theological matters but also in his views on humanity and its purpose as a whole; Gemistos’ teachings on pleasures and his attitude towards carnal love stood in opposition to the ascetic rigorism of the Christian Church Fathers. Funding. The study was funded by the grant of the Russian Science Foundation No. 23-18-00251, “The Byzantine Renaissance: The Institutional Foundations and Theological and Metaphysical Origins of Religious and Political Discourse, Second Half of the 11th – 15th Centuries” (Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences),
Аннотация. В статье сравнивается отношение к плотской любви и браку в антропологическом учении Григория Паламы, выражавшего взгляды православных отцов церкви, и в мировоззрении Георгия Гемиста Плифона, чья философия стала полемическим ответом паламизму, в том числе в области морали. Палама полностью воспринял воззрения на супружество и земную любовь, свойственные Максиму Исповеднику и строгим православным аскетам: любовь к телесным удовольствиям делает человека врагом Богу; плотское соитие даже в законном браке не вполне свободно от греха, поскольку сопряжено с неуправляемым наслаждением; сексуальное желание нужно постоянно подавлять, стремясь к полной чистоте мыслей; желающим беспрепятственно угождать Богу лучше жить в девстве и избегать брака; монашество – наиболее близкий к божественной природе гражданский образ жизни. Плифон, напротив, считал стремление к безбрачию большим заблуждением: с его точки зрения, брак и деторождение прекрасны и божественны, так как через них человек исполняет свое предназначение быть скрепой мира, постоянно воспроизводя свой род и вечно соединяя в себе бессмертную и смертную части вселенной; любовное наслаждение даровано человеку свыше именно для того, чтобы он не мог легко уклониться от супружества. Добродетель σωφροσύνη у Плифона – не целомудрие в христианском понимании, как воздержание от всех плотских удовольствий, а благоразумие в смысле пользования удовольствиями богоугодным образом: плотские наслаждения необходимы и позволительны, но в них надо соблюдать κοσμιότης – благопристойность и порядочность. Хотя Гемист, как и христиане, осуждал прелюбодеяние, нетрадиционные сексуальные отношения и невоздержанность в наслаждениях, но не потому, что считал небогоугодными удовольствия как таковые, а потому, что все это в его философии не согласуется с конечной целью плотской любви и долгом человека перед вселенной – деторождением, которым люди подражают самим Богам. Таким образом, учение Плифона об удовольствиях и его отношение к плотской любви противостояло аскетическому ригоризму отцов христианской Церкви. Финансирование. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-18-00251 «Византийский Ренессанс: институциональные основания и теолого-метафизические истоки религиознополитического дискурса второй половины XI–XV вв.» (Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук),
Цитирование. Сенина Т. А. Плотская любовь и брак в антропологии Григория Паламы и философии Георгия Гемиста Плифона // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2025. – Т. 30, № 6. – С. 277–288. – DOI:
Введение. Жизнь философа Георгия Гемиста Плифона (ок. 1360–1454 гг.) целиком пришлась на время, когда в Византии в качестве церковной идеологии восторжествовало учение Григория Паламы. Но, хотя оно официально было окончательно признано православным на Константинопольском соборе 1351 г., полемика на темы, затронутые в ходе исихастского спора, не прекращалась: взгляды паламитов критиковали как латинофилы, так и считавшие паламизм ересью и отступлением от православия 1. И. Мейендорф утверждал, что после соборного одобрения учения Паламы и осуждения его противников «помимо нескольких одиночек 2, сплотившихся вокруг Никифора Григоры, никто больше не противостоял паламизму в лоне Византийской Церкви» [24, р. 153], однако реальность была не столь однозначной. Многие византийцы, не имея твердых богословских убеждений, меняли взгляды в зависимости от политикорелигиозной позиции светских и церковных властей [7, с. 108–111]. Люди более идейные, видя гонения на антипаламитов, подобные истории осуждения Прохора Кидониса 3, опасались открыто выступать против офи- циальных взглядов, однако это не означало, что оппозиция в Византии исчезла и все убедились в правильности учения Паламы. Даже некоторым сторонникам его учения о сущности и энергиях в Боге не нравился ригоризм нападок Григория на занятия науками и эллинскую философию. Так, Николай Кавасила отстаивал необходимость хотя бы религиозного образования [27, р. 157], и даже эта узконаправленная апология учености была нелишней, судя по атмосфере, сложившейся в Византии по итогам паламитских споров: Димитрий Кидонис в одном из писем говорил, что в императорском дворце он видит толкущихся там бородачей, «у которых полное незнание словно бы является прямо-таки неким символом добродетели» [16, р. 85, Ер. 50.35–37]. С течением времени стремление защитить и отстоять мирские науки и философию от ревнителей не по разуму, очевидно, только усиливалось в интеллектуальной среде, и в XV в. главным столпом сопротивления церковному обскурантизму стал Плифон.
Видный представитель интеллектуальной элиты своего времени, Гемист был прекрасно знаком с текущими философско-богословскими дискуссиями и выступил в защиту античной философии и светских наук против нападок паламитов, полемизируя с их взглядами, – на что прямо указывает, в частности, монах Григорий, ученик Плифона, в надгробном слове учителю [10, с. 57–59, 75]. Исследователи, отмечая антипаламитский дискурс в философии Плифона, обращали внимание в основном на темы богопознания, видения божественного света, соотношения в Боге сущности и энергий, роли наук в познании Бога [8, p. 197–201; 28, p. 114–119; 30]. Однако Гемист расходился с Паламой не только в богословских вопросах, но не менее того – в воззрениях на человека и его предназначение. Антропологические взгляды обоих византийцев уже сравнивались в целом [27], и в настоящей работе я хочу рассмотреть более узкую тему, сопоставив отношение Паламы и Плифона к плотской любви и браку, поскольку до сих пор в исследованиях практически не обращалось внимание на резкое расхождение взглядов Гемиста в этой области с православной аскетической традицией и, в частности, с воззрениями Паламы.
Методы. В работе используется метод аналитического исследования и сравнения источников, проясняющий их логику и содержание путем их сопоставления. Источники по теме включают сочинения Плифона: «Законы» (= Leg . [26, р. 1–260]) и дополнительные отрывки из них [20, р. 311–321], «О добродетелях» (= De virt . [18, р. 1–15]), «К императору Мануилу о положении Пелопоннеса» [31, σ. 246–265]. Также используются проповеди Григория Паламы (= Hom . [19]) и его «Слово к Иоанну и Феодору» [32, σ. 290–308], «Вопросы и недоумения» Максима Исповедника [6], «Точное изложение православной веры» Иоанна Дамаскина [3], «Пребывание Мазариса в подземном царстве» [13, p. 112–186], похвальное слово патриарха Филофея Григорию Паламе [12]. В качестве обзорного справочного издания по аскетическому учению отцов православной церкви используется книга Ж.-К. Ларше [5].
Анализ. Позиция отцов Церкви в целом была такова, что, хотя плотская любовь дозволительна в законном браке (и то лишь в определенные периоды, когда нет церковных праздников или постов), христианину не только можно, но и желательно предпочитать девственную жизнь – как идеал, явленный безбрачным Христом, и как более удобную для приобретения добродетелей. Особенно резко и последовательно ополчился на все чувственные удовольствия Максим Исповедник: по его мнению, изначально человек был создан для объединения всего сотворенного материального мира с Богом и должен был все в себе подчинить стремлению к Богу, в частности, бесстрастием преодолеть разделение на мужской и женский пол; его тело стало грубым, тленным и подверженным страстям только после грехопадения, тогда же человек подчинился и закону плотского рождения [2, с. 73–75, 81]. Соответственно, любое стремление к материальным предметам и чувственным удовольствиям вместо чисто духовных является проявлением греховных страстей и плотоугодием, а желающий стать совершенным должен полностью отказаться от всех плотских удовольствий, обратить желательную силу природы исключительно к Богу и достичь бесстрастия и обожения [2, с. 102–105, 114–125]. В толковании на слова
«В беззакониях я зачат, и во грехах зачала меня мать моя» (Пс. 50, 7) Максим говорит:
«Поскольку первоначальная цель Бога была в том, чтобы мы рождались без брака и истления, а брак был введен по причине преступления заповеди, ибо Адам совершил беззаконие, то есть отверг Закон, данный ему Богом, – поэтому все, кто ведет род от Адама, зачинаются в беззакониях, подпадая под осуждение праотца. Слова же и во грехах зачала меня мать моя означают, что Ева, мать нас всех, первой зачала грех, пылая страстью к наслаждению. Поэтому и мы, подпадая под осуждение праматери, говорим, что мать зачинает нас во грехах» [6, с. 199–200].
Ж.-К. Ларше, резюмируя учение отцов Православной церкви об удовольствиях, по сути сводит его именно к мнению Максима: раз Бог при сотворении не вкладывал в человеческую природу чувственного удовольствия, то стремление к наслаждениям плотским и направленным не на Бога является извращением действия природных способностей и порождает все страсти и пороки; в нормальном состоянии желательная сила должна быть направлена исключительно на Бога, а желающий чувственных и материальных вещей не может любить Бога как следует [5, с. 58–65]. Идеальным состоянием человека до грехопадения было девство, и люди, если бы не пали, размножались бы неполовым путем; половые органы были им даны Богом лишь в предведении грехопадения. Поэтому и после грехопадения девство остается «нормой совершенства», а половое общение «в рамках брака не подлежит осуждению» лишь потому, что человеку надо размножаться [5, с. 147–149]. Правда, Ларше оговаривается, что «при правильном осуществлении плотское начало, освященное таинством Брака, являющееся частью целого и духовно преображенное любовью супругов, живущих в Боге, как и другие проявления супружеского союза, является проницаемым для Бога и воплощает на своем уровне, по принципу аналогии, единение Христа и Церкви, приобретая, таким образом, мистический смысл» [5, с. 150], – однако характерно, что никаких отсылок к отцам Церкви он при этом не дает, ссылаясь лишь на Еф. 5, 20–32; так что данное утверждение выглядит, скорее, уступкой современным взглядам на любовь и брак.
Впрочем, не все православные отцы считали, что чувственных удовольствий (в том числе от совокупления) надо избегать любой ценой, как видно на примере Иоанна Дамаскина. В «Точном изложении православной веры» он к «естественным и необходимым» удовольствиям причисляет удовольствия, связанные с пищей и одеждой, и продолжает:
«...другие же [удовольствия], хотя естественны, однако не необходимы, каковы совокупления, согласные с природою и сообразные с законом (ибо хотя они содействуют сохранению всего рода, однако возможно без них жить в девстве). Иные же удовольствия ни необходимы, ни естественны, как пьянство, и распутство, и объедение... Поэтому живущий в согласии с Богом должен принимать необходимые и в то же время естественные удовольствия, а естественные и не необходимые ставить на втором месте, допуская их в подобающее время, и подобающим образом, и в подобающей мере. Остальных же удовольствий следует безусловно избегать» [3, с. 212].
Таким образом, Иоанн, хотя и не считает удовольствие от совокупления необходимым, все же не доходит до радикализма Максима Исповедника. Однако в целом патристическое православие проповедовало верующим аскетический идеал монашеского толка, осуждающий все плотские и мирские наслаждения.
Разумеется, в Византии, как и в любом обществе, существовали любовные отношения и сексуальная жизнь, и нередко весьма бурные, хотя собственно теоретическое отношение к эротическим желаниям и эмоциям и их описания имели определенную специфику (см.: [14; 23]). Однако постоянное напряжение между желанием и отрицанием, существование религиозного идеала в виде святых и монахов, отвергавших плотские удовольствия как греховные, создавало в жизни людей (по крайней мере, желающих быть благочестивыми) психологические проблемы и моральные дилеммы, неведомые или значительно ослабленные в современном секулярном обществе (см.: [15]). То, что предлагаемая женщинам модель святости к XI в. в некоторой степени отошла от аскетического ригоризма и стала включать в себя также роль хорошей жены и домохозяйки [21, p. 644–645], не отодвинуло на второй план аскетический идеал девства и целому- дрия: родители отдавали детей в монастыри, чтобы «посвятить Богу», люди по-прежнему стремились к монашеской жизни – и как к избавлению от тягот жизни семейной, и как к жизни высшей по сравнению с супружеством.
Это можно видеть и на примере семьи Григория Паламы, которая в похвальном слове ему изображена как пример благочестия, который при ближайшем рассмотрении оказывается весьма своеобразным – по крайней мере, на взгляд современного читателя. По сообщению энкомиаста, патриарха Константинопольского Филофея, Константин Палама, отец Григория, будучи членом синклита, на заседаниях вместо слушания дел занимался мысленной молитвой, а к своим детям проявлял некое равнодушие «и как бы напрягал все свои силы, чтобы... порвать эти крепчайшие узы естества любовью и беззаветной преданностью Христу». Он не ласкал своих детей и не играл с ними, а когда друзья и родственники спрашивали, почему он так себя ведет, отвечал: «Я и сам этого хочу... Но боюсь привыкнуть, не обратилось бы подобное отношение к детям во мне в постоянное свойство, и потом я был бы вне возможности перенести легко и со стойкостью потерю их, так как возможно, что некоторые из них умрут раньше своих родителей, – час смерти ведь неизвестен. Поэтому вот я и стараюсь держать себя далеко от привычки и от привязанности к своим детям...» [12, с. 16, 18–19]. При этом родители «не только сами часто посещали святые места, ежедневно внимали беседам монашествующих и духовных отцов, но и детей своих к тому приучали», даже самых маленьких и только начинавших говорить [12, с. 20–21]. Благочестивые тренировки в равнодушии к детям Константину, по иронии судьбы, не пригодились: он умер раньше их всех. В момент смерти отца Григорию, старшему из пяти детей, было всего семь лет. Надо заметить, что рождение пяти детей за семь лет не свидетельствует о стремлении супругов к воздержанной жизни, так что, возможно, Филофей преувеличил степень их благочестия; в противном случае придется заключить, что Константин Палама был попросту эгоистом, не чураясь телесных наслаждений и в то же время эмоционально отстраняясь от семьи, чтобы не испытывать в случае какого-либо несчастья неприятных чувств и горя. С его смертью злоключения детей, росших при таком неласковом отце, не окончились: сразу после кончины мужа мать семейства «сейчас же пожелала и сама принять монашескую схиму, оставить дом, отречься от мира и предаться уединению», и только «духовные отцы» остановили вдову, посоветовали повременить с монашеством и сначала вырастить детей [12, с. 25]. Можно догадываться, как воспитывала детей мать с таким настроением, и окончилось это уходом ее и всех детей в монахи. Такова была семья, в которой вырос будущий апологет исихазма. Эта зарисовка из жизни византийцев XIV в., поданная главой Константинопольской церкви как образец благочестия – Филофей называет родителей Григория «дивными» и «людьми Божиими» [12, с. 20], – наглядно свидетельствует, что христианские идеалы, пропагандируемые церковными учителями, не особенно изменились за все время существования Византии.
Обратившись к воззрениям Григория Паламы на супружество и земную любовь, мы видим, что он полностью воспринял взгляды, свойственные Максиму Исповеднику и аскетам строгой направленности. Говоря о том, что любящий мир делается врагом Богу (ср.: Иак. 4, 4), Григорий поясняет, что «причиной любви к миру (τὸν κόσμον) становится любовь к нашему телу; ибо из-за тела и связанного с ним наслаждения мы любим мир» [19, Hom . 33 , col. 416В]. Главными добродетелями православных христиан Григорий называет, среди прочих, воздержание (ἐγκράτειαν) и целомудрие (σωφροσύνην) [19, Hom . 26 , col. 340C]. При этом всех христиан Палама делит на три группы: «рабство, наемничество, сыновство – девство, целомудренное вдовство и досточест-ное супружество (γάμον τίμιον)», приравнивая последнее к рабству [19, Hom . 28 , col. 360B]. Плотская любовь, даже в браке, не может быть безгрешной: Христос именно потому родился от Девы без семени, что иначе не был бы «новым человеком» и не смог бы стать спасителем людей, «ибо движение плоти для зарождения [ребенка], действуя непокорно (ἀνυποτάκτως ἔχουσα) вопреки разуму, назначенному Богом управлять тем, что в нас, не вполне свободно от греха (οὐκ ἐκτὸς παντάπασιν ἁμαρτίας ἐστί); поэтому и Давид говорил: В беззакониях я зачался, и во грехах зачала меня мать моя » [19,
Hom . 14 , col. 169BC]. То же самое Григорий утверждает и в другом месте:
«[Христос] один не был зачат в беззакониях и выношен во грехах, как то свидетельствует в псалмах Давид о себе, а лучше сказать – о всяком человеке. Ибо восстание плоти, происходя против воли 4 (ἡ γὰρ τῆς σαρκὸς ἐπανάστασις ἀκούσιος οὖσα), и открыто воюя против закона ума (Рим. 7, 23), даже если у целомудренных насильно подавляется 5 (βίᾳ δουλαγωγεῖται) и высвобождается только для деторождения, однако изначально привносит осуждение (καταδίκην), будучи и называясь растлением 6 (φθορὰ), и рождает, конечно, для гибели (πρὸς φθορὰν), являясь страстным движением [человека], не осознающего чести, которую наша природа получила в удел от Бога, но уподобившегося скотам» [19, Hom . 16 , col. 192C].
Григорий повторяет, что Христос был «единственным не зачатым в беззакониях и не выношенным во грехах, то есть в плотском наслаждении (ἡδονῇ σαρκὸς) и в страсти и в нечистых 7 (ῥυπαροῖς) помыслах естества, оскверненного из-за преступления» [19, Hom . 16 , col. 192D–193A]. Палама фактически выносит приговор плотской любви и связанному с ней наслаждению как греховному скотству, допустимому исключительно для деторождения; разумеется, с такой точки зрения благочестивый христианин должен стремиться к безбрачию и девству. Целомудрие-σωφροσύνη у людей, состоящих в браке, при этом заключается в постоянном подавлении непокорного уму «основного инстинкта» как изначально греховного, появившегося у человека после грехопадения. В послании к монахине Ксении Григорий пишет, что живущие в супружестве способны достичь вершин добродетели и чистоты лишь с огромным трудом, поэтому желающий уже на земле вести жизнь, достойную царства небесного, должен отказаться от брака [11, с. 657]. При такой антропологии монашество становится не только аскетическим, но и общественным, гражданским идеалом: в «Слове к Иоанну и Феодору» Палама говорит, что к божественной природе «из гражданских образов жизни, согласных с благочестием, более всего приблизился [образ жизни] монахов (μάλιστα τῶν κατ᾿ εὐσέβειαν πολιτειῶν ἡ κατὰ μοναχοὺς ᾠκείωται)» [32, σ. 291, § 1].
Позиция Георгия Гемиста Плифона была диаметрально противоположной. Создавая свои «Законы», Плифон хотел представить описание системы мира и некое руководство для правильной жизни. Свои взгляды на добродетели и мораль Гемист сначала изложил в трактате «О добродетелях», а затем более пространно развил в «Законах», как видно из их оглавления, но соответствующие главы были уничтожены Геннадием Схоларием. Некоторые параллели с трактатом «О добродетелях» есть также в обращениях и гимнах к богам из сохранившейся части «Законов».
Добродетель гражданского образа жизни, или гражданственности (πολιτεία), является у Гемиста одной из частей справедливости; хороший гражданин живет в обществе и предпочитает общую пользу частной ( De virt. , II.11) [18, р. 12], подражая миру богов; напротив того, монахи, которых Плифон подверг резкой критике в обращении «К императору Мануилу о положении Пелопоннеса», «ничем не служат обществу», хотя получают от государства огромные средства и привилегии, «сами себе установив образ жизни бездельников и трутней и не стыдясь такого позорного существования» [31, σ. 257–259]. Монашество для Плифона совершенно противоположно богоугодному и гражданскому образу жизни (подробнее см.: [9, с. 463–466]).
Рассуждая о подражании по мере сил Богу, Гемист говорит о самодостаточности (αὐτάρκεια) (De virt., I.2) [18, р. 2; дополнения к Leg., III.36 – 20, р. 318, fol. 132v8]. Хотя человек, в отличие от Бога, не может быть полностью самодостаточным (Leg., I.5) [26, р. 54], тем не менее, он может и должен стремиться к доступной ему самодостаточности, которая заключается в «малых жизненных потребностях» и в удовлетворении их более доступными и дешевыми вещами (De virt., I.2) [18, р. 2], (Leg., III.35) [26, р. 222, Гимн 23]. За самодостаточность, по мысли Плифона, отвечает добродетель благоразумия (σωφροσύνη), в описании которой он следует Платону: «поскольку благоразумие – это самодостаточность в отношении жизненных потребностей, а мы в жизни нуждаемся в трех вещах: наслаждениях, материальных благах, славе (ἡδονών, χρημάτων, δόξης) 8, – то каждой из них, пожалуй, будет соответствовать некая часть благоразумия, обеспечивающая в каждой области достаточное (τὸ αὔταρκες) и полезное»; в частности, в наслаждениях следует соблюдать «благопристойность» (κοσμιότης) 9 (De virt., I.3) [18, р. 4], которая как раз и интересует нас в данном исследовании. Гемист называет благопристойность основой для остальных добродетелей, и вот почему:
«Ведь именно эта добродетель особенно стремится так или иначе управлять теми наслаждениями, которые первыми и с юности тиранически властвуют над нами 10: различив среди них необходимые и нет, а среди не необходимых, в свою очередь, некоторые противозаконные, порочнейшие и не подобающие человеку, и совершенно их отвергнув и искоренив из души – и их самих, и влечение к ним, – она избирает необходимые для частной и общественной жизни каждого, что же касается не необходимых, но не порочных – пренебрегает ими, полностью искореняя и влечение, чтобы всякий по возможности не испытывал нужды, радуясь самодостаточности больше, чем самим этим телесным наслаждениям.
Именно эта добродетель сразу же начинает отличать нас от животных и... поддерживает [в нас] родство с высшими родами, придавая и самим наслаждениям чинность и порядок...» ( De virt. , II.1) [18, р. 5–6].
На первый взгляд, это рассуждение похоже на учение об удовольствиях Иоанна Дамаскина, цитированное выше. Но у Иоанна оговорено, что удовольствие плотской любви, хотя и допустимо, может полностью отвергаться ради девства; Плифон же не только не признавал девство высшим брака, но считал безбрачие и воздержание от плотских отношений между мужчиной и женщиной большим заблуждением, утверждая, что «брак и деторождение прекраснее и божественнее, чем одинокая жизнь» (Leg., I.1) [26, р. 18]. Человеку «следует быть гражданином [живя вместе] с другими людьми, а не каким-то одиночкой» (Leg. III.31) [26, р. 124]; он призван служить скрепой (σύνδεσμον), связывая в единую гармонию смертную и бессмертную части вселенной (Leg., III.34) [26, p. 142, 184], и для исполнения этого служения необходимы переселение душ и воспроизводство человеческого рода. Если в христианстве идеалом является девственная жизнь, а супружество считается уступкой человеческой немощи, то в плифоновской системе мира именно брак и деторождение становятся священной обязанностью человека. В «Вечернем обращении к богам» Гемист говорит:
«...для нашего смертного [начала], которое не будет существовать вечно, вы даровали соитие (συνουσίαν) наших мужского и женского полов, по наслаждению наиболее привлекательное, посредством которого весь род целиком вечно продолжает пребывать в одном и том же состоянии, так что благодаря постоянной смене место умирающего всегда заполняется потомком, и [наш род] существует в одном и том же числе душ, причем в установленные периоды времени они без затруднения вступают в общение то с одними, то с другими смертными телами ради своего служения (λειτουργίας), на которое они вами назначены» ( Leg. , III.34) [26, р. 190–192].
Отметим употребление здесь слова λειτουργία, которым в христианстве обозначают главное из богослужений – литургию, где человек принимает божественное причастие. Литургия в религии Гемиста – это служение человека вселенной, божественному Целому через исполнение роли скрепы мира благодаря жизни на земле бессмертной души в союзе со смертным телом, и плотское общение мужчины и женщины – неотъемлемая часть этой литургии. Души приступают к этой литургии «без затруднения» (μὴ ἀπορεῖν): Плифон как бы подчеркивает, что его религия предназначена для любого человека, и исполнение человеком божественного замысла не требует каких-то сверхусилий, оно вполне естественно.
Таким образом, σωφροσύνη у Плифона – не целомудрие в христианском понимании, как воздержание от плотских удовольствий, а благоразумие в смысле пользования удовольствиями должным образом: наслаждения, в том числе от плотской любви, необходимы и позволительны, они дарованы Богом, но в них надо соблюдать κοσμιότης – благопристойность, скромность, порядочность.
Более того, поскольку плифоновская система мира основана на иерархическом пантеоне богов, из которых одни порождают других, супружеской жизнью и деторождением человек подражает самим богам. В частности, общий для разных народов и культур запрет на совокупление родителей с детьми Плифон увязывает с устройством умопостигаемой реальности, где боги не вступают в связь с высшими по иерархии родителями: поэтому и люди, подражая в супружеской жизни богам, должны соблюдать подобный порядок. Именно в главе «О несовокуплении родителей с детьми» Гемист рассуждает о плотской любви:
«Во-первых, совершенно очевидно, что занятие любовью (ἡ τῶν ἀφροδισίων πρᾶξις) дано нам богами для воспроизведения этого смертного [рода], а некоторым образом и для его бессмертия; что всякое детопроизводящее общение является причиной другого [существа], подобного вступающему в телесную связь; что обе эти [вещи] – и бессмертие, и рождение другого подобного [себе], а также [бытие ему] причиной – более всего относятся к богам: ибо все боги бессмертны, и высшие (κρείττους) из них являются родителями и других [им] подобных... Далее, ...коль скоро это самое дело (αὕτη ἡ πρᾶξις 11) у нас должно совершаться успешно, в нем следует, пожалуй, как можно больше сохранять некий образ происхождения богов, уподобляясь тому, как рождают боги; ...и важно для нас именно это дело, при котором проявляется в высшей степени подражание бессмертию богов и [бытию] причиной для других [существ], пусть и в этом нашем смертном [роде]. Ведь если бы кто-нибудь, из-за того, что люди не совершают это открыто (ἐν τῷ φανερῷ), счел это чем-то постыдным, он, безусловно, помыслил бы неправильно. Ибо есть люди, у которых и наипрекраснейшими из священных обрядов считаются те, которые они не совершают открыто для толпы. Но они, превознося наипрекраснейшие из своих священных обрядов, совершают их тайно от большинства, чтобы кто-нибудь из тех, которые пока не достойны [их] созерцания, увидев, не отнесся бы с презрением. А занятию любовью (τὸ δ᾿ ἀφροδισιάζειν) люди не предаются открыто, чтобы видящие не возбуждались более или менее сильно, до какой степени люди возбуждаются, если по большей части и не до влечения (ἐπιθυμίαν), но все же до воображения (φαντασίαν) самого дела. Ведь даже от малого какого-нибудь повода это [возбуждение] случается с ними по природе. <...> Среди небогоугодных дел, полагаю, и фантазии не богоугодны; но еще гораздо греховнее для возбуждающего было бы само разжигание подобных фантазий. Вследствие этого у людей не принято открыто предаваться любовным наслаждениям. Однако то, что люди не делают это открыто не потому, что считают постыдным, они показывают, когда женятся, созывая как можно больше [гостей], словно на важное и священное дело, и свидетелями сочетания (συνόδου 12) делая их, знающих зачем [пригласившие их] вступили в супружество. Итак, поскольку это дело важно для людей, нужно, чтобы люди делали его как можно лучше. Ибо среди важных дел нет иных постыднейших, кроме тех, которые не делаются хорошо (καλῶς)» (Leg., III.14) [26, р. 86–90].
Этот текст вполне ясен: плотская любовь в законном браке не только не постыдна и не связана с чем-то греховным, но необходима и священна, ею и рождением детей, становясь причиной других существ, люди подражают богам. То, что плотской любви не предаются открыто, не только не делает ее чем-то недостойным, но напротив – сближает с «наипрекраснейшими из священных обрядов», совершаемых скрыто от толпы у людей, которые Плифон не называет прямо, но намекает, вероятно, на христианское таинство евхаристии: по уставу православной церкви, отраженному в чинопоследовании литургии, при совершении евхаристии могут присутствовать только «верные», то есть крещеные члены церкви, тогда как остальным полагается покидать храм после возгласа «Оглашенные, изыдите!»; да и оставшиеся в храме не могут вблизи лицезреть совершаемое священниками в алтаре. Сравнение занятия любовью с главным таинством христианской Церкви выглядит весьма смело, но в философии Плифона и при его взглядах на Божество такое превознесение ἡ τῶν ἀφροδισίων πρᾶξις совершенно логично и оправдано. Таким образом, хотя в «О добродетелях» у Плифона не сказано, какие удовольствия он считает необходимыми, а какие нет, очевидно, что плотскую любовь он, в отличие от христианских авторов, причисляет к удовольствиям необходимым.
Впрочем, чрезмерное сладострастие Гемист осуждал, как противное добродетели κοσμιότης. В частности, он говорит, что животные, руководимые богами, «не делают чего-либо лишнего», тогда как люди, «поступая по собственному разумению и представлению, которое, однако, ошибочно, часто погрешают как в других [вещах], так и в этом самом деле, занимаясь им хотя не вопреки природе, однако же чрезмерно, а также и вопреки природе, что, уж конечно, оказывается постыднее того» (Leg. III.31) [26, р. 120]. В то же время чрезмерное увлечение плотской любовью Плифон, по-видимому, считает более простительным, чем полное от нее воздержание (что опять-таки понятно, исходя из его взглядов на необходимость деторождения для служения человека во вселенной), потому что далее пишет:
«...боги, зная, что люди... отклоняются от должного как во многом другом, так и, конечно, в этих самых любовных наслаждениях, не только предаются им сверх меры, но и, напротив, некоторые совсем отказываются от них: одни – сочтя это вообще небезгрешным, а другие – негреховным, однако удаляющим от более прекрасного; иные – убоявшись, по своему характеру, трудностей, [связанных] с воспитанием детей и содержанием жены; а некоторые – боясь преимущественно потери детей до такой степени, что предпочли бы, скорее, не рождать детей, чем лишаться рождаемых, тогда как им следует вверять жизнь детей богам, самим же не уклоняться от установленного для них дела и служения (λειτουργίας) 13 для общности рода и ради этой вселенной, – вот поэтому-то боги, зная о том, что случится с людьми из-за склонности мнения к заблуждению и что случается и теперь с некоторыми, для того чтобы воздержание многих от любовных наслаждений не противодействовало промыслу от Зевса ради общения смертных и бессмертных в человеческой форме, вложили в людей это сильнейшее влечение (ἐπιθυμίαν), которое нелегко будет победить 14, если им не поможет, в свою очередь, сильнейшее мнение, сдерживающее эту страсть. А насчет мнения, что следует совершенно воздерживаться от любовных утех, [боги] знают, что не у очень-то многих оно окажется самым сильным, и вот, они сочли, что большинство из тех, кто придет к этому мнению, придут к нему с меньшей твердостью, так что сопротивление [этого] мнения будет без особого труда преодолеваться беспокойством от могущественнейшего желания (ἐπιθυμίας)» ( Leg. III.31) [26 , р. 122–124].
Итак, по мысли Гемиста, плотское вожделение вложено в человеческую природу богами изначально (а не после грехопадения, которого в религии философа вообще нет), и именно для того, чтобы люди не увлекались аскезой и не уклонялись от того служения во вселенной, ради которого созданы. Надо отметить, что византийские интеллектуалы, бывало, отдавали предпочтение безбрачию и по причинам, напрямую не связанным с христианским благочестием: например, Димитрий Кидонис считал, что для философа и ученого безбрачие, свобода от семейных хлопот – необходимое условие для преуспеяния; этот взгляд он стремился внушить и своим ученикам [4, с. 113, 268]. Но Плифон, уважавший Кидониса и, возможно, бывший в молодости его учеником, таких воззрений не придерживался.
Однако к супружеским изменам и нетрадиционным сексуальным отношениям Гемист относился так же отрицательно, как и христиане, и даже предлагал предавать «противоестественно осквернившихся» и прелюбодеев смертной казни (Leg. III.31) [26, р. 124]. Такие драконовские меры в законодательстве философа, у которого можно найти прекрасное рассуждение о терпимости к чужим представлениям, звучащее вполне современно (De virt., II.7) [18, р. 10], могут вызвать удивление – тем более, что византийские законы в этом вопросе были мягче 15. Но эти меры соответствуют взглядам Плифона и на деторождение как долг (что не является целью прелюбодеев и невозможно при гомосексуальных отношениях), и на посмертную участь души: поскольку происходит постоянное перевоплощение, для тяжкого грешника смерть – избавление «от несчастья / бедствия» (ἀθλιότητος; подразумевается, что порочная жизнь делает несчастным) и возможность душе получить другое тело и начать все заново. В то же время, возможно, жестокие кары против разврата в «Законах» были навеяны наблюдением Гемиста за нравами окружавшего его общества. Например, в византийской сатире «Пребывание Мазариса в подземном царстве», созданной в 1414–1415 гг. [17, p. 183–184, 203–204], когда Плифон уже жил на Пелопоннесе, нравы пелопоннесцев описаны чрезвычайно неприглядно и весьма далеки от какого бы то ни было благочестия. В частности, один из героев сатиры, рассказывая о своих сыновьях, говорит, что старший стал монахом и лицемерно строит из себя благочестивого, тогда как на самом деле остается «другом Афродиты», а младший «занят делами более юных и распущенных: спесивых, мужеложников, много о себе мнящих, а лучше сказать, беснующихся и умалишенных» [13, p. 158]. Гомосексуализм прямо или косвенно упоминается в этой сатире неоднократно, из чего надо заключить, что он был достаточно распространенным явлением в Византии той эпохи, в том числе среди молодежи. Известно, что у самого Плифона было, по меньшей мере, двое сыновей, и хотя дат их рождения мы не знаем, можно предположить, что, если Гемист посвятил молодость получению хорошего образования и вступил в брак не в юности, а, например, лет в тридцать, то его сыновьям в 1410-х гг. могло быть около 20 лет или меньше, так что философ мог в какой-то мере опасаться за их нравственность. Хотя «Законы» были созданы Плифоном позднее, в них могли найти отражение и его собственные впечатления от жизни на Пелопоннесе.
Выводы. Отношение к браку, плотским удовольствиям и деторождению у Плифона и Паламы было противоположным. Григорий Палама придерживался ригористического учения отцов Церкви о том, что стремление к чувственным наслаждениям является следствием грехопадения и что плотское вожделение даже в отношения супругов привносит некоторую долю греховности, поэтому желающим по-настоящему угодить Богу следует избегать брака; наиболее гражданственным и божественным, с его точки зрения, является образ жизни монахов. Гемист, напротив, считал, что предназначение человека – жить в супружестве и рождать детей, чтобы исполнять роль скрепы мира, поддерживая существование человеческого рода; с точки зрения Плифона, любовное наслаждение – божественный дар, и при надлежащей умеренности не несет в себе ничего греховного, напротив, в нем заключается священное служение вселенной; монашество же совершенно противоположно богоугодному гражданскому образу жизни. Хотя Гемист, как и христиане, осуждал прелюбодеяние, нетрадиционные сексуальные отношения и невоздержание в любовных наслаждениях, но не потому, что считал небогоугодными удовольствия как таковые, а потому, что все это в его философии не согласуется с конечной целью плотской любви – деторождением, которым люди подражают самим богам.