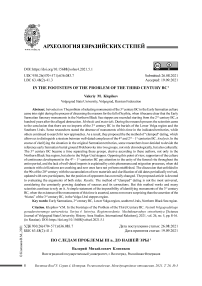По следам проблемы III в. до нашей эры
Автор: Клепиков Валерий Михайлович
Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu
Рубрика: Археология Евразийских степей
Статья в выпуске: 5 т.26, 2021 года.
Бесплатный доступ
Проблема выделения памятников III в. до н. э. в раннесарматской культуре возникла в процессе обсуждения причин гибели Скифии, когда выяснилось, что раннесарматские погребальные памятники в степях Северного Причерноморья фиксируются начиная со II в. до н. э., то есть через сто с лишним лет после предполагаемого разгрома. Попытка выяснить ситуацию на исходных сарматских территориях привела некоторых исследователей к расчленению эталонного раннесарматского могильника Прохоровка на две группы, различающихся не только хронологически, но и культурно. Временем, разделяющим эти группы, стал III в. до н. э. неуловимый, по мнению этих авторов, не только в Северном Причерноморье, но и в волго-уральских степях. Оппонируя этой точке зрения, сторонники непрерывного развития культуры в IV-I вв. до н. э. обращают внимание на единство погребального обряда на протяжении всего периода, а отсутствие хорошо датированных импортов объясняют кризисными явлениями и миграционными процессами, когда старые контакты с цивилизациями рушатся, а новые еще не налажены. Дискуссия, развернувшаяся в 90-х гг. XX в., с накоплением новых материалов и уточнением старых датировок периодически оживляется, пополняется новыми участниками, но позиции оппонентов изменились незначительно. Оценке аргументов обеих сторон посвящена предлагаемая статья.
Ранние сарматы, iii в. до н. э, нижнее поволжье, южное приуралье, северное причерноморье
Короткий адрес: https://sciup.org/149139473
IDR: 149139473 | УДК: 930.26(470+571):636.083.7 | DOI: 10.15688/jvolsu4.2021.5.1
Текст научной статьи По следам проблемы III в. до нашей эры
DOI:
Цитирование. Клепиков В. М. По следам проблемы III в. до нашей эры // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2021. – Т. 26, № 5. – С. 8–16. – DOI:
Введение. Проблема III в. до н. э. в раннесарматской археологии появилась как побочный продукт дискуссии о гибели Скифии. Анализируя финал Великой Скифии, С.В. Полин и А.В. Симоненко с удивлением обнаружили, что традиционное представление о вторжении сарматов в Северное Причерноморье, фундированное знаменитым пассажем Диодора и памятниками, широко датированными в хронологическом интервале IV–III вв. до н. э., никак не подтверждается распространением раннесарматских памятников на захваченной территории [21, с. 76–93]. Это вызвало, с одной стороны, поиски альтернативных объяснений аннигиляции скифов на опустевшей затем территории, а с другой – желание найти в указанное время тех самых неуловимых завоевателей, чтобы зафиксировать их фактическое распространение во время скифского катаклизма. Обращение С.В. Полина к эпо-нимному памятнику, Прохоровским курганам, привело его к утверждению о наличии двух могильников, в которых стали хронологически и культурно разделенными курганы раннего (савроматского) V–IV и позднего IV или даже IV–I (собственно прохоровского) вв. до н. э., которые отличались еще и планиграфичес-ки [20, с. 74–77].
Иными словами, памятники начала III в. до н. э., создатели которых должны были оказаться ударной силой для нанесения сокрушительного поражения скифскому единству, вдруг исчезли не только в Северном Причерноморье, но не были обнаружены и в местах своего традиционного проживания. Правда, С.В. Полин специально оговорился, что «в III– II вв. до н. э. существование прохоровской культуры не вызывает сомнения, однако, фактических оснований для выделения комплексов этого времени у нас нет» [20, с. 80]. Эта идея с энтузиазмом была подхвачена В.Ю. Зуевым, который, ухватившись за мысль об отсутствии хроноиндикаторов узко датированных III в. до н. э. памятников, развил идею, во-первых, о запустении большей части евразийских степей в это время, а, во-вторых, прохоровские памятники развел в культурном контексте до образа двух самостоятельных культур, не имеющих ничего общего между собой [8, с. 305–323; 9, с. 85–99]. Попытки сарматологов, профессионально занимающихся раннесарматской культурой, критически оценить столь радикальное изменение традиционной картины В.Ю. Зуевым, привело оппонента к конспирологическому взгляду на состояние дел в сарматологии, где оппозиционеров лишают трибуны, игнорируют их мнение и тщательно изымают любые сомнительные пассажи, которые могут лить воду на мельницу крамольной идеи. При этом агрессивное наступление вкупе с отсутствием ответов на вполне аргументированные возражения отнюдь не привели сторонников взгляда на раннесарматскую культуру как на сложную, но единую в хронологических рамках IV–I вв. до н. э. к отказу от дискуссии с этим автором.
Однако сама проблема от этого никуда не исчезла, а накопление археологического материала, в том числе и появление артефактов с возможностью датирования их уже III в. до н. э. вызывает время от времени всплески дискуссионной активности [3; 4; 5; 7; 10; 13; 22; 30]. Поэтому, как представляется, стоит попытаться объективно проанализировать аргументы сторонников позиции, отрицающей возможность выделения памятников III в. до н. э.
Анализ. Позиция С.В. Полина формировалась на рубеже 80–90-х гг. прошлого века, когда сами курганы у с. Прохоровки еще не были доисследованы Л.Т. Яблонским, и памятники, опубликованные М.И. Ростовцевым в 1918 г., выглядели, как погребения под индивидуальной насыпью, что характерно для савроматского времени. Но результаты полевых исследований 2003–2005 гг. позволили убедиться в раннесарматской (прохоровской) специфике, которая наиболее ярко проявилась в позиции «курган-кладбище» и в наборе сопутствующего инвентаря [30].
Вернувшись к проблеме упадка Великой Скифии в 2018 г., С.В. Полин не мог не учесть нового материала, однако, проанализировав опубликованные новые комплексы Прохоровки, остался на прежней позиции по вопросу выделения памятников III до н. э. и даже поддержал В.Ю. Зуева, призвав искать рациональное зерно в его рассуждениях, хотя так и не привел аргументов в пользу именно II–I вв. до н. э. для южной группы Прохоровских курганов, ограничившись широкой датой IV–I вв. до н. э. При этом аргументацию Л.Т. Яблонского в пользу наличия III в. до н. э. он поставил под сомнение, обратив внимание на осторожность автора в датировках с употреблением слов «может быть», «не исключает», «не позднее» и предположив, что писалась книга в первую очередь как отповедь В.Ю. Зуеву [22, с. 272–274]. Однако новые материалы из Прохоровки были оперативно проанализированы многими авторами, в том числе в приложениях к упомянутой книге Л.Т. Яблонского. Л.А. Краева выявила не только инновации, но и преемственность в динамике технологических изменений при производстве лепной ке- рамики, проследив по данным технологического анализа особенности керамического производства в IV–III, III и III–II вв. до н. э. [15]. В данном случае важны не узко датированные погребальные комплексы, а сохранение традиций в технологии производства как на раннем, так и на позднем этапах раннесарматской истории. А.С. Балахванцев вновь обратился к надписям на прохоровских фиалах, предложив датировать их последней третью IV–III в. до н. э. и ни в коем случае не рубежом II–I вв. до н. э. – I в. н. э. [2], как было предложено В.А. Лифшицем [17]. М.Ю. Трей-стер также предположил, что переделка фиал в фалары скорее соответствует второй половине III в. до н.э., поскольку в последующем использовались фалары меньших размеров и другой формы [26, с. 277]. Свою периодизацию Прохоровского могильника представил и В.К. Федоров в рецензии на книгу Л.Т. Яблонского, определив погребения курганов 1, 2, «Б» и «в» в пределах III в. до н. э. [28, с. 158].
К этому лагерю сарматологов принадлежит и А.С. Скрипкин, в очередной раз подчеркнувший свою приверженность позиции сторонников непрерывного развития раннесарматской культуры [24, с. 73–76, 89–91].
Собственно, активно дискутируя по поводу датирования Прохоровских курганов, исследователи традиционно стремятся превратить эпонимный памятник в эталонный. Однако современный объем накопленных археологических источников позволяет определять критерии выделения раннесарматских погребений на более широкой основе.
Позиция исследователей, отрицающих наличие твердо датированных памятников III в. до н. э. в сарматском материале, опирается на ряд оснований. Не описывая подробно позицию каждого из авторов, поскольку она неоднократно была представлена в процессе дискуссий, попытаемся проанализировать основные утверждения, которые в целом не отличаются разнообразием. Анализируя и датируя конкретные комплексы, представители этого направления практически используют одни и те же аргументы, главными из которых являются, во-первых, отсутствие импор-тов-хроноиндикаторов и упрек в умозрительном характере методики «зажатых датировок», во-вторых, определение ранних и поздних памятников, как принадлежащих к двум разным культурам. Заметим, что в качестве примера обычно приводятся артефакты, которые, безусловно, по отдельности могут принадлежать либо к хорошо датированному IV в. до н. э., либо к не менее богатому хроноиндикаторами периоду II–I вв. до н. э.
Чаще всего берется артефакт, хорошо датированный другими хроноиндикаторами и широко распространенный именно в это время. В результате он сам превращается в хроноиндикатор, датирующий весь комплекс. При этом вопрос о начале или конце бытования обычно не ставится. Авторы оперируют временем наибольшего распространения. В этом смысле я и сам грешен, поскольку, например, железные черешковые наконечники стрел традиционно господствуют со II–I вв. до н. э., практически полностью заместив наборы бронзовых наконечников. И это хорошо фиксируемая данность, однако первые ранние экземпляры известны уже в погребениях с конца VI – V в. до н. э. [18, с. 101–102, табл. 35; 25, с. 63, рис. 40], с IV в. до н. э. обнаруживаются в колчанных наборах элитарных и богатых сакских воинских погребений Притяньша-нья [11], встречаются с мечами так называемого «переходного» типа, в свою очередь получившими распространение с IV в. до н. э. [29, с. 51, 56, табл. 22,III]. Причем сами мечи с дуговидным либо со сломанным под тупым углом перекрестием и брусковидным прямым либо дуговидным навершием активно использовались в IV в. до н. э., однако в хорошо известном погребении из Ново-Мусино такой меч был найден с гераклейской амфорой, позволившей датировать и меч и само погребение первыми десятилетиями III в. до н. э. [1; 5; 19]. К тому же амфора явно уже побывала в употреблении, что предполагает и более позднюю дату самого погребения. Отметим, что меч был уложен на поясе, наискось, в савроматской традиции, позволяя не только продлить время бытования этого типа оружия, но и предположить возможность сохранения погребальных традиций предыдущего населения в условиях ломки старых канонов вплоть до III в. до н. э. Поэтому, например, твердая уверенность С.В. Полина в том, что само наличие меча так называемого «переходного» типа в погребении, безусловно, оп- ределяет его в IV в. до н. э., кажется недостаточно обоснованной, и критические замечания в адрес Л.Т. Яблонского теряют свой вес. Анализируя хронологические основания для датировки погребения 3 кургана «Б», автор акцентирует внимание на вещах престижного характера, имеющих тенденцию к долгому хранению у своих хозяев. Поэтому время изготовления и время погребения совсем не обязательно должны совпадать, чему мы имеем многочисленные примеры. В то же время, упомянув о наличии в погребении 111 железных наконечников стрел (с короткими или средними черешками и миниатюрными головками), количество которых в одном колчане для IV в. до н. э. беспрецедентно, а на позднем этапе раннесарматской культуры обычно, автор не обращает на это обстоятельство никакого внимания [22, с. 273–274], в отличие от Л.Т. Яблонского, отметившего, что данный тип наконечников наиболее распространен и характерен именно для III–I вв. до н. э. Поэтому вполне логична предложенная им датировка погребения в пределах третьей четверти IV– первой половины III в. до н. э. [30, с. 68–71]. Собственно, здесь мы в очередной раз имеем возможность применить метод «зажатых» датировок.
Даже, казалось бы, безупречная позиция С.В. Демиденко, началом или серединой II в. до н. э. определившего появление бронзовых котлов типа VI (на примере котла из погребения 5 кургана 1 у с. Верхний Еруслан) [7], может быть поставлена под сомнение. Внушительный список безусловных погребений финала раннесарматской культуры, среднесарматских и даже позднесарматских с котлами этого типа должен был убедить всех исследователей, что коль скоро котел не выходит за рамки середины II в. до н. э., то и найденные в этом же погребении бронзовые наконечники стрел продолжают использоваться на протяжении всего раннесарматского периода. Однако опубликованный в 2016 г. скифский клад из Дебальцева, датированный авторами по многочисленным скифским аналогиям серединой III в. до н. э., как оказалось, включал в том числе и два бронзовых котла, один из которых был практически идентичен верхнееруслановскому [12, с. 221–225, рис. 3]. В результате заявленная С.В. Демиденко начальная дата бытования этого типа котлов была по- ставлена под большое сомнение, а бронзовые наконечники стрел вновь получили основание быть датированными не позже III – начала II в. до н. э. Заметим, это не значит, что отдельные бронзовые наконечники не могут встречаться в финале раннесарматской культуры и даже позже [16, с. 245–249, табл. А], но массовое использование практически исключено.
Правда, и в сюжете с кладом из Дебальцева все не так однозначно, поскольку золотая фибула редкой разновидности, найденная вместе с котлами, имеет ближайшую аналогию в погребальном комплексе I в. до н. э. из могильника Дядьковский 45, курган 2, погребение 11 [6, с. 52–56, рис. 1], чем вновь подтверждает бытование котлов этого типа в финале раннесарматского периода, но оставляет открытым вопрос о начале их производства.
Интересно, что исследователи, отрицающие возможность выделить памятники III в. до н. э., обычно не отрицают самого наличия этих памятников. И возникает естественный вопрос – на основании чего, если мы не видим этих памятников? Тогда уж надо быть последовательным, и вслед за В.Ю. Зуевым постулировать наличие двух разных культур, лакуна между которыми характеризуется запустением степи на всем протяжении от Урала до Днепра. Хотя и позиция В.Ю. Зуева ныне не столь однозначна. Во всяком случае, он полагает, что в степи все-таки люди жили, но в условиях слома старых традиций и рождения новых культур [10, с. 8]. Правда, все равно непонятно, где их искать и как определять, и почему, если авторы не могут их выделить, то все-таки уверены, что они есть.
В то же время почему-то игнорируется такой совершенно очевидный факт, как наличие курганов-кладбищ, наиболее показательного маркера раннесарматской культуры в сочетании с ориентировкой в южный сектор, напутственной пищей в виде передней ноги овцы и определенных типов могильных ям. Эта традиция прекрасно фиксируется уже в IV в. до н. э. в Приуралье и Нижнем Поволжье и доживает до рубежа эр, даже сохраняясь фрагментарно в окружении новых среднесарматских погребальных обрядов в I в. н. э. Конечно, новая миграционная волна II–I вв. до н. э. усложнила картину, миксируя «прохоровское» население сте- пей, но культурного слома, видимо, не произошло. Поэтому, выделяя особенности позднего этапа раннесарматской культуры, мы вполне можем говорить о сохраняющемся единстве, позволяющем прослеживать непрерывную линию развития от IV в. до н. э. вплоть до рубежа эр.
Выводы. Подводя итог, следует отметить, что, конечно, метод «зажатых датировок» отнюдь не универсальный инструмент, учитывая постоянно пополняющуюся источ-никовую базу и необходимость соответствующих корректировок, но он работает, о чем свидетельствует принятие такого способа анализа многими исследователями. А простая констатация невозможности выделения памятников III в. до н. э. при одновременном утверждении наличия самих памятников этого времени представляется даже более удивительной, чем утверждение о «хиатусе» III в. до н. э. в Волго-Уральских степях.
Список литературы По следам проблемы III в. до нашей эры
- Балахванцев, А. С. К хронологии мечей «переходного» типа / А. С. Балахванцев // Кадырбаевские чтения - 2016 : материалы V Междунар. науч. конф. (г. Актобе, 6-7 окт. 2016 г.). - Актобе : Актю-бинский областной центр истории, этнографии и археологии, 2016. - С. 123-126.
- Балахванцев, А. С. Надписи на фиалах из Прохоровки / А. С. Балахванцев // Яблонский Л. Т. Прохоровка: у истоков сарматской археологии. -М. : ТАУС, 2010. - С. 262-268.
- Берлизов, Н. Е. «Темный век» сарматской истории (к проблеме выделения комплексов III в. до н. э. в прохоровской культуре) / Н. Е. Берлизов // МИАК. - 2003. - № 3. - С. 93-105.
- Васильев, В. Н. К хронологии раннепрохо-ровского клинкового оружия и «проблеме» III в. до н. э. / В. Н. Васильев // МАВДС. - 2001. - Вып. 1. -С. 169-179.
- Васильев, В. Н. Ново-Мусинский 3 курган / В. Н. Васильев, С. В. Сиротин // УАВ. - 2004. -Вып. 5. - С. 173-180.
- Глебов, В. П. Редкая лучковая фибула из сарматского погребения в Краснодарском крае / В. П. Глебов // Из истории культуры народов Северного Кавказа. Вып. 9 / ред. Ю. А. Прокопенко, Т. А. Невская. -Ставрополь : Печат. двор, 2017. - С. 52-56.
- Демиденко, С. В. Об одном из аспектов «проблемы III в. до н. э.» в сарматской археологии / С. В. Демиденко // РА. - 2007. - № 2. - С. 48-54.
- Зуев, В. Ю. О путях решения «проблемы III в. до н. э.» в периодизации археологических памятников сарматской эпохи / В. Ю. Зуев // Stratum plus. - 1999. - № 3. - С. 305-324.
- Зуев, В. Ю. Основные проблемы хронологии «раннесарматской» культуры / В. Ю. Зуев // Раннесарматская культура: формирование, развитие, хронология. Вып. 1. Материалы IV Между-нар. конф. «Проблемы сарматской археологии и истории». - Самара : СНЦ РАН, 2000. - С. 85-104.
- Зуев, В. Ю. К проблеме выделения погребений раннесарматской элиты по археологическим данным / В. Ю. Зуев // Элита Боспора и Боспорская элитарная культура : материалы Междунар. круглого стола (г. Санкт-Петербург, 22-25 нояб. 2016 г.). -СПб. : ПАЛАЦЦО, 2016. - С. 1-18.
- Иванов, С. С. Ранние железные наконечники стрел с территории сакской культуры Притянь-шанья / С. С. Иванов // Уфимский археологический вестник. - 2021. - Т. 21, № 1. - С. 98-105.
- Карнаух, Е. Г. Скифский клад из Дебальце-во / Е. Г. Карнаух, В. С. Синика, М. И. Сердюк // Stratum plus. - 2016. - № 3. - С. 217-240.
- Клепиков, В. М. Памятники III в. до н. э. в Нижнем Поволжье / В. М. Клепиков // Раннесарматская культура: формирование, развитие, хронология. Вып. 1. Материалы IV Междунар. конф. «Проблемы сарматской археологии и истории». - Самара : СНЦ РАН, 2000. - С. 116-124.
- Клепиков, В. М. Прохоровская культура в Нижнем Поволжье: становление и трансформация / В. М. Клепиков, А. С. Скрипкин, И. В. Сергацков // Ранние кочевники Волго-Уральского региона : материалы Междунар. науч. конф. «Ранние кочевники Южного Приуралья в свете новейших археологических открытий», г. Оренбург, 21-25 апр. 2008 г. - Оренбург : Изд-во ОГПУ 2008. - С. 50-63.
- Краева, Л. А. Технология изготовления лепной керамики из могильника Прохоровка / Л. А. Краева // Яблонский Л. Т. Прохоровка: у истоков сарматской археологии. - М. : ТАУС, 2010. - С. 231-251.
- Красноперов, А. А. К вопросу о ранней дате пьяноборских памятников. Ч. 4-1: Бронзовые наконечники стрел / А. А. Красноперов // Археология Евразийских степей. - 2021. - № 2. - С. 221-249.
- Лившиц, В. А. О датировке парфянских надписей на фиалах из кургана 1 у деревни Прохоровка / В. А. Лившиц, В. Ю. Зуев // ВдИ. - 2004. - № 2. -С. 3-11.
- Литвинский, Б. А. Древние кочевники «Крыши мира» / Б. А. Литвинский. - М. : Наука, 1972. -270 с.
- Монахов, С. Ю. О хронологии сарматского погребения с гераклейской амфорой из Башкирии / С. Ю. Монахов // Liber Archaeologicae. - Краснодар ; Ростов н/Д, 2006. - С. 89-93.
- Полин, С. В. От Скифии к Сарматии / С. В. Полин. - Киев : ИА НАНУ 1992. - 201 с.
- Полин, С. В. «Раннесарматские» погребения Северного Причерноморья / С. В. Полин, А. В. Симо-ненко // Исследования по археологии Поднепро-вья. - Днепропетровск : Изд-во ДГУ 1990. - С. 76-96.
- Полин, С. В. Сарматское завоевание Северного Причерноморья (современное состояние проблемы) / С. В. Полин // Древности. Исследования. Проблемы : сб. ст. в честь 70-летия Н. П. Тельнова. -Кишинев ; Тирасполь : Б-ка Stratum, 2018. - С. 267-288.
- Симоненко, А. В. «Проблема III в. до н. э.» -вариант решения? / А. В. Симоненко // НАВ. - 2003. -№ 6. - С. 297-303.
- Скрипкин, А. С. Сарматы / А. С. Скрипкин. - Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2017. - 293 с.
- Смирнов К. Ф. Вооружение савроматов / К. Ф. Смирнов // МИА. - № 104. - М. : АН СССР, 1961. - 101 с.
- Трейстер, М. Ю. Серебряные фиалы из Прохоровского кургана № 1 / М. Ю. Трейстер // Яблонский Л. Т. Прохоровка: у истоков сарматской археологии. - М. : ТАУС, 2010. - С. 269-294.
- Федоров, В. К. О датировке 1-4 Прохоровс-ких курганов / В. К. Федоров // УАВ. - 2008. -Вып. 8. - С. 69-90.
- Федоров, В. К. Рец. на кн.: Яблонский Л. Т. Прохоровка: у истоков сарматской археологии. -М. : ТАУС, 2010. - 384 с. / В. К. Федоров // РА. -2011.- №> 4. - С. 155-177.
- Хабдулина, М. К. Степное Приишимье в эпоху раннего железа / М. К. Хабдулина. - Алма-ты : Ракурс, 1994. - 170 с.
- Яблонский, Л. Т. Прохоровка: у истоков сарматской археологии / Л. Т. Яблонский. - М. : ТАУС, 2010. - 384 с.