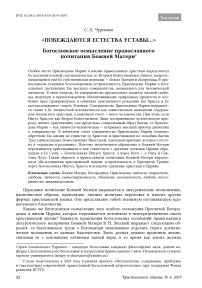"Побеждаются естества уставы..." богословское осмысление православного почитания Божией Матери
Автор: Чурсанов Сергей Анатольевич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теология
Статья в выпуске: 6 (89), 2019 года.
Бесплатный доступ
Особое место Приснодевы Марии в жизни православных христиан определяется Ее исключительной соотнесенностью со Вторым Божественным Лицом, подразумевающейся уже́ Ее собственными именами - Божия Матерь и Богородица . В православном сознании безоговорочная устремленность Приснодевы Марии к Богу означает достижение Ею высшего совершенства, возможного для человеческой личности. В свою очередь, Ее совершенство предполагает полноту личной свободы, ведущую к превосхождению обезличивающих природных процессов и особенно ярко проявившуюся в событиях девственного рождения Ею Христа и Ее преодолевающего смерть Успения. Совершенство Приснодевы Марии выражается также в Ее личностной всеохватности как таинственном вмещении содержания жизни всех христиан, в конечном счете - всего человечества. При этом, если Иисус Христос как Второе Божественное Лицо, воспринявшее человеческую природу, являет христианину сам предельно совершенный образ бытия, то Приснодева Мария - как личность человеческая - открывает высший пример движения к совершенству...
Божия матерь, богородица, приснодева, святость, открытость, свобода, личность, самоотверженность, обо́жение, всеохватность, любовь, несторианство, индивидуализм
Короткий адрес: https://sciup.org/140246781
IDR: 140246781
Текст научной статьи "Побеждаются естества уставы..." богословское осмысление православного почитания Божией Матери
Церковное почитание Божией Матери выражается в литургических песнопениях, иконописных образах, проповедях, личных молитвах верующих и многих других формах христианской жизни. Оно представляет собой значимую составляющую православного благочестия.
Каково же богословское осмысление того особого положения Пресвятой Богородицы в жизни Церкви, которое переживается человеком в непосредственном опыте христианской жизни? Важность прояснения богословских оснований православного литургического восприятия Божией Матери В. Н. Лосский выражает следующим образом: «в богословском труде о Богоматери невозможно отделить строго догматические положения от данных благочестия. Здесь догмат должен прояснять жизнь, связывая ее с основными истинами нашей веры, в то время как жизнь должна
поддерживать догмат живым опытом Церкви» [Lossky, 1967, 194]. Еще более решительно акцентирует значение богословия для адекватного восприятия христианского почитания Божией Матери прот. Георгий Флоровский. Обращая внимание на опасность эмоционального увлечения, затемняющего христианское отношение к Богородице, он утверждает: «благочестие должно всегда направляться и поверяться догматом» [Florovsky, 1976, 174].
1. Соотнесенность божией матери со христом
Особое место, занимаемое Божией Матерью в жизни Церкви и, как следствие, — в жизни каждого православного христианина, определяется Ее исключительной соотнесенностью со Христом. «Воплотившийся Господь пребывает в совершенно особенном отношении к одной конкретной человеческой личности… Той, для кого Он — не только Господь и Спаситель, но и Сын», — отмечает, например, прот. Георгий Флоровский [Florovsky, 1976, 176]. Эту высшую соотнесенность со Христом выражают уже сами собственные имена Божия Матерь и Богородица . Собственное имя Божией Матери — Мария — в православном сознании также существует в форме Присноде-ва Мария , указывающей на вышеестественное рождение Ею Богомладенца Иисуса Христа.
В православном богословии через именование Приснодевы Марии Божией Матерью и Богородицей утверждается подлинность Боговоплощения. Так, свт. Григорий Богослов, проясняя православное ви́дение «одного и того же (ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν)» — Христа и как Бога и как человека, предельно четко заключает: «если кто не признает святую Марию Богородицей (Εἴ τις οὐ Θεοτόκον τὴν ἁγίαν Μαρίαν ὑπολαμβάνει), то он оказывается отделенным (χωρὶς ἐστὶ) от Божества (τῆς θεότητος)» (Gregorius Nazianzenus, 1974, 42). А согласно решительному выводу В. Н. Лосского, «все те, кто восстает против имени Θεοτόκος [Богородица]… не могут считаться подлинными христианами, поскольку тем самым они противостоят догмату Воплощения Слова» [Lossky, 1967, 193].
Действительно, имена Божия Матерь и Богородица позволяют исключить несторианские тенденции к восприятию Христа по аналогии со святыми, то есть как человеческой личности, или ипостаси, вступившей в единство со Вторым Божественным Лицом, или Ипостасью, — Словом (λόγος). Свт. Кирилл Александрийский еще до начала активной борьбы с Несторием отвергает это ви́дение Христа, несовместимое с православным пониманием полноты совершенного Им спасения. Раскрывая христологическое значение евангельского свидетельства «Слово (ὁ λόγος) стало плотью (σὰρξ ἐγένετο)» (Ин 1:14), он настаивает: «Слово не в плоть пришло (οὐκ εἰς σάρκα… ἐλθεῖν), а плотью стало (σάρκα γενέσθαι)… чтобы ты не подумал, что возможно Оно явилось внешним образом (ἐπιφοιτῆσαι σχετικῶς), точно так же как в пророках или неких других святых; ведь Оно поистине (κατὰ ἀλήθειαν) стало плотью (γενέσθαι σάρκα), то есть человеком (τουτέστιν ἄνθρωπον)» (Cyrillus Alexandrinus, 1872, I, 140).
Несторианские предпосылки вели к именованию Божией Матери человеко-родицей (ἀνθρωποτόκος), вступая в противоречие и с литургическим преданием, и с христианским благочестием. Так, Феодор Мопсуестийский, заложивший основы несторианских христологических тенденций, утверждает, что Мария — это «человеко-родица (ἀνθρωποτόκος)… по природе вещей (τῇ φύσει τοῦ πράγματος)» и «богородица (θεοτόκος)… по отнесению [к Ней этого наименования] (τῇ ἀναφορᾷ)». «Ведь она че-ловекородица по природе, — раскрывает он свою мысль далее, — поскольку тот, кто был в ее чреве и произошел из него, был человеком, и богородица, поскольку Бог был в родившемся человеке… существуя в нем по устремлению воли (κατὰ τὴν σχέσιν τῆς γνώμης)» (Theodorus Mopsuestenus, 1859, col. 992B–C).
Подобные именования Приснодевы Марии человекородицей были соблазнительными и неприемлемыми для церковного сознания, что помогло в V в. и помогает всем последующим поколениям даже простых и некнижных верующих избегать уклонения в несторианскую христологическую парадигму, не позволяющую воспринимать Христа как Вторую Божественную Ипостась, соединившую в Себе всю полноту и Божественной, и человеческой природ. «Мы справедливо и истинно (δικαίως καὶ ἀληθῶς) называем святую Марию Богородицей (θεοτόκον), — подытоживает прп. Иоанн Дамаскин, — ведь это имя в совершенстве обнаруживает (συνίστησι) таинство домостроительства (τὸ μυστήριαν τῆς οἰκονομίας) (Еф 3:9). Ведь если родившая (ἡ γεννήσασα) — Богородица (θεοτόκος), то Рожденный от Нее (ὁ ἐξ αὐτῆς γεννηθείς) — полностью (πάντως) Бог (θεὸς), но и полностью (πάντως) человек (ἄνθρωπος)» (Joannes Damascenus, 1973, 135).
Протопресвитер Иоанн Мейендорф, поясняя богословский смысл православного исповедания Приснодевы Марии Божией Матерью, указывает: «так как каждая мать необходимо является матерью кого-либо (а не некой „природы“) и так как этот „некто“ во Христе — это Бог, Она действительно по Своей подлинной идентичности представляет собой „Матерь Бога“» [Meyendorff, 1985, 239]. Обозревая историю православного богословия, он приходит также к следующему выводу: «чтобы выразить полную действительность Воплощения, мы признаем Марию „Матерью Бога“, а не простого человека, и, следовательно, считаем Ее достойной совершенно исключительного почитания» [Meyendorff, 1978, 18].
2. исключительная святость божией матери
Совершенная соотнесенность со Христом означает высшую возможную для человека святость Божией Матери. Полнота Ее обращенности ко Христу не оставляет места для каких-либо противопоставленных Богу мотивов и действий. Другими словами, в православном богословском понимании из всех человеческих личностей только Божия Матерь не совершила ни одного личного греха. «Грех никогда не мог реализоваться в Ее личности; пагубное наследие грехопадения не властвовало над Ее праведной волей», — утверждает, например, В. Н. Лосский [Lossky, 1967, 202].
Более того, Божия Матерь превосходит естественный добродетельный — то есть приближающий к Богу — онтологический уровень, который, однако, ограничивается актуализацией добрых устремлений, вложенных в человеческую природу. Исключительная святость Божией Матери означает Ее всецелое пребывание на выше-естественном уровне бытия. Православные богословы XX–XXI вв. подчеркивают, что вышеестественной святости, максималистский призыв к которой, согласно протопресв. Иоанну Мейендорфу, отличает традиционную византийскую антропологию [Meyendorff, 1974, 176], соответствует вышеестественная свобода как неотъемлемая характеристика совершенного христианского образа жизни. Раскрывая полноту свободы Божией Матери, проистекающей из Ее всецелой устремленности к Богу, В. Н. Лосский [Lossky, 1967, 200–201] привлекает слова св. прав. Николая Кавасилы: «Воплощение было делом не только Отца, Его Силы и Его Духа… но и делом воли и веры Девы (τῆς θελήσεως καὶ τῆς πίστεως τῆς παρθένου). Ведь как без Них этот замысел не мог быть осуществлен, так и без воли и веры Всенепорочной (τῆς πανάγνου τὴν θέλησιν καὶ τὴν πίστιν). <…> Научив и убедив Ее, Бог делает Ее Своей Матерью… чтобы подобно тому, как Он воплотился добровольно (βουλομένης), по этому же образу (τὸν ἴσον τρόπον)… и Она… охотно (ἑκοῦσα), добровольно (βουλομένη) и согласно свободному решению (μετ᾽ ἐθελουσίου γνώμης) стала Матерью (γένηται μήτηρ)» (Nicolas Cabasilas, 1926, 488). По заключению митр. Иоанна (Зизиуласа), «событие Воплощения совершается в свободе как Божественной, так и человеческой стороны» [Zizioulas, 2006, p. 37].
Характеризуя святоотеческое понимание вышеестественной свободы в логически отрицательном ключе, то есть в виде свободы от, протопресв. Иоанн Мейендорф указывает: «человек может быть по-настоящему свободен только „в Боге“, когда он освобождается Святым Духом от детерминированности тварного и падшего существования» [Meyendorff, 1974, 176]. В самом деле, в логически отрицательном плане человеческие личности, представляющие собой образ Божественных Лиц, актуализирующие этот образ в своем бытии и приближающиеся, таким образом, к богоподобию, не детерминируемы ни видовой природой с ее потребностями, ни природой индивидуализированной, ни окружающей социально-культурной средой (Пс 43:23; Мф 8:20; Лк 9:58; Рим 8:35–39; 1 Кор 7:22–23). В силу исключительной соотнесенности со Христом Божия Матерь в логически отрицательном плане свободна «от всего того, что не есть Бог» [Meyendorff, 1987, 35]. «Материнство Марии было совершенно свободным, — поясняет протопресв. Иоанн Мейендорф, — поскольку помимо Нее Самой и Лиц Святой Троицы ничто и никто не были в него вовлечены» [Meyendorff, 1987, 34].
В логически положительном ключе, то есть в перспективе свободы для , совершенная свобода, к которой призван каждый христианин, достигается во всецелой личной устремленности к Отцу, Сыну и Святому Духу. Полнота христианского — то есть осуществляемого в общении со Христом — образа бытия предполагает превосхождение индивидуализированной природы с ее достоинствами и совершенствами (1 Кор 1:26). Ведь христиане призваны к совершенству бытия по образу Божию, то есть — к совершенству несопоставимо большему совершенства природного (Пс 19:8; Иер 9:23– 24; 1 Кор 1:27–28). Именно такое совершенство даруется христианам Богом Отцом «во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением» (1 Кор 1:30).
Исключительная святость Божией Матери означает, что вся Ее жизнь определяется личной устремленностью ко Христу, в которой превосходятся любые сторонние отвлекающие мотивы, а значит — и порождающие их законы природы. Данная сторона вышеестественной святости Божией Матери, с предельной ясностью выразившаяся в событиях девственного рождения Ею Христа и непосредственного перехода от смерти к полноте вечной жизни, означает всеобъемлющую любовь к человеку. Особенно ярко и лаконично эти богословские выводы представлены в ирмосе девятой песни первого канона утрени праздника Успения: «Побеждаются естества уставы, в Тебе, Дево Чистая: девствует бо рождество, и живот предобручает смерть: по рождестве Дева, и по смерти жива, спасаеши присно, Богородице, наследие Твое» (Минея, 1914, 834).
3. всеохватность божией матери
В православном почитании Божией Матери выделяется и та сторона Ее святости, которая может быть названа всеохватностью . Эта составляющая святости проистекает из личностной открытости человека, ведущей к таинственному вмещению содержания жизни окружающих, в конечном счете — всего человечества. Об опыте всеохват-ности и о его значимости для христианина ап. Павел свидетельствует следующим образом: «наше сердце расширено (πεπλάτυνται). Вы не стеснены (οὐ στενοχωρεῖσθε) в нас… Отвечайте мне тем же… расширяйте себя (πλατύνθητε) и вы» (2 Кор 6:11–13. Перевод мой. — С. Ч .).
Согласно архим. Софронию (Сахарову), пребывая в состоянии всеохватности, «в акте… христоподобной любви христианин отдает себя без остатка другим возлюбленным: прежде всего Богу, а затем, силою Духа Святого, всему прочему. В этой кенотической любви… возлюбленные составляют его жизнь. <…> Через этот выход из своих эгоистических пределов любовь приходит к обладанию всем, единению всего в самой себе» [Сахаров, 1999, 96]. Открываясь в любви Божественным Лицам и окружающим людям, человек живет по образу бытия Отца, Сына и Святого Духа. Это означает, что, как указывает отец Софроний, «любовь перемещает жизнь любящего в лицо возлюбленного». И далее он поясняет: «существование возлюбленных мною лиц — становится содержанием моей жизни. Если я всем моим существом люблю Бога… то я весь целиком пребываю в Нем. И только так Его бытие становится моим. Если я, подобно Христу, до конца (Ин 13:1) люблю всех, то бытие всех силою любви делается моим бытием» [Сахаров, 1999, 190–191]. При этом, обретая в любви полноту личностного образа бытия, христианин подтверждает и сверхприродную личностную идентичность тех, кого он любит. Эту существенную характеристику любви также выделяет отец Софроний: «каждая личность призвана вместить в себя полноту всечеловеческого бытия, никак не устраняя прочих личностей, но входя в их жизнь как существенное содержание ее, и тем утверждая их персональность» [Сахаров, 1999, 97].
Высшая возможная для человека всеохватность, достигнутая Божией Матерью, тесно связана с полнотой восприятия Ею и смысла Боговоплощения, и его онтологических следствий. «Только Богоматерь, избранная, чтобы вместить в Своем чреве Бога, может полностью охватить в Своем сознании все то, что несет событие Воплощения Слова, являющееся также и делом Ее Богоматеринства», — объясняет В. Н. Лосский [Lossky, 1967, 198]. Таким образом, в Приснодеве Марии завершилась постепенная подготовка человечества к принятию полноты Божественного откровения во Христе, осуществлявшаяся на протяжении всей ветхозаветной истории.
Раскрывая этот богословский вывод, православные авторы сосредотачивают внимание на событии Благовещения. «Ответ Марии на весть, сообщенную архангелом: „се, Раба Господня, да будет Мне по слову твоему“ (Лк 1:38) разрешает трагедию падшего человечества. Совершилось все то, чего потребовал Бог от человеческой свободы после грехопадения», — подчеркивает В. Н. Лосский [Lossky, 1967, 200]. «Та, Кто была избрана, чтобы стать Матерью Бога, несомненно, являла Собой вершину ветхозаветной святости», — утверждает также он [Lossky, 1967, 199]. Божия Матерь достигла такой полноты святости, что пребывая в единстве со Христом, Она объемлет в любви и ветхозаветное, и новозаветное человечество. «Если в личности Богоматери мы видим вершину ветхозаветной святости, — поясняет В. Н. Лосский, — этим еще не ограничивается Ее личная святость, ибо Она превзошла и все вершины святости новозаветной, явив всю ту величайшую святость, какую может достичь Церковь» [Lossky, 1967, 202]. Глубинное переживание этой всеохватности составляет одно из ключевых оснований для православного исповедания особого положения Божией Матери в Церкви, Ее «покрова», распространяющегося на весь сотворенный Богом мир.
Исключительная святость Божией Матери означает, что Она в полной мере воспринимает все дары Божии, ставшие доступными человеку в результате спасительного подвига Иисуса Христа. «Тогда как сыны Церкви, храня Предание, могут осознавать Истину и делать ее плодотворной лишь в большей или меньшей мере, — указывает В. Н. Лосский, — Богоматерь в силу исключительной соотнесенности, в которой Ее личность пребывает лицом к лицу с Богом, Которого Она может именовать Своим Сыном, уже в этом мире смогла возвыситься до всецелого осознания всего, что Святой Дух сообщает Церкви, реализовав эту полноту в Своей личности» [Lossky, 1967, 198]. Останавливаясь на добровольном уничижении Второго Божественного Лица, воплотившегося для спасения человека, В. Н. Лосский также заключает: «Сын Божий воплощается в Приснодеве Марии и становится Сыном человеческим, могущим умереть; Мария же, став Божией Матерью, получает „славу боголепную“ (θεοπρεπὴς δόξα) (Вечерня, стихира 2-я, глас 1-й) и первой из человечества становится причастной полному обо́жению твари» [Лосский, 2014, 319].
Совершенство Божией Матери означает, что после Своей смерти, которая носит особый характер, выражаемый в традиционном богословском языке специальным словом успение , Она пребывает в вечности в незыблемой полноте единства с Богом. Протопресв. Иоанн Мейендорф излагает эту сторону христианского понимания всецелой святости Приснодевы Марии следующими словами: «предваряя всеобщее воскресение, Ее Сын сделал Ее, как Свою Матерь, неотделимой от Своего собственного воскресшего Тела, превознес Ее выше самих ангельских сил» [Meyendorff, 1985, 240]. Прот. Георгий Флоровский констатирует: «для Нее уже настала высшая полнота жизни, ожидаемая христианами» [Florovsky, 1976, 188]. Таким образом, по мысли В. Н. Лосского, «слава жизни будущего века, конечная цель человека, уже осуществилась не только в божественной и вочеловечившейся Ипостаси, но и в человеческой обо́женной личности» [Лосский, 2014, 319].
4. божия матерь как высший образец совершенной человеческой личности
Образ бытия Трех единосущных Божественных Лиц задает для христианина абсолютный идеал совершенного христианского образа жизни, к которому призвано все человечество (Пс 81:6; Мф 5:48; Ин 17:11, 21–23, 26; Еф 5:1). Доступ к этому идеалу открывает человеку Второе Лицо Пресвятой Троицы — Сын Божий (Ин 14:6), ставший человеком и осуществляющий Свое человеческое бытие тем же совершенным способом, каким Он осуществляет бытие Божественное.
Поэтому для христианина особое значение приобретает пример жизни Христа, пример Его отношения к Богу, к Себе, к людям и всему сотворенному миру (Мф 11:29; Ин 13:15; 1 Ин 2:6; 1 Пет 2:21; Еф 5:1–2). Ведь именно этот пример задает абсолютный образец человеческого совершенства, позволяющий целенаправленно упорядочивать христианскую жизнь. Совершенный христианский способ бытия означает то единение с ближними, о котором свидетельствует Господь, характеризуя окончательный суд, ожидающий человека после всеобщего воскресения: «что вы сделали одному из… братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф 25:40. Перевод мой. — С. Ч . См. также: Мф 25:45).
Личностное общение с ближними по образу единства Божественных Лиц представляет собой единение в самоотверженной любви и выражается во всецелом служении (Мф 20:28; Мк 10:45). Именно в любви, «которая есть совокупность совершенства» (Кол 3:14), находит свое высшее выражение христианский образ бытия человека. В совершенной любви, к которой становятся способны те, кто осуществляет свое бытие личностным способом по абсолютному образцу, являемому Божественными Лицами, христианин превосходит пределы своей индивидуализированной природы, актуализируя все существенные характеристики личностного образа бытия и достигая личностного совершенства. К высшему единству в любви призывает Господь Своих последователей: «как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» (Ин 13:34). Такое единство в любви Господь выделяет в качестве характерного признака Своих учеников: «по тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин 13:35). С прошением о таком совершенном единении христиан в любви обращается Господь к Отцу в Первосвященнической молитве: «да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино» (Ин 17:21).
Христианское единение в любви предполагает самоотверженный отказ от индивидуалистической замкнутости, от самого индивидуалистического образа жизни: «сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин 15:12–13). Именно самоотверженность выделяет ап. Павел в качестве ключевого показателя подлинности и достоинства своего служения (2 Кор 11:24–28). Более того, осуществляемый в любви личностный выход за пределы индивидуализированной природы, вовлеченной после отказа человека от всеобъемлющего общения с Богом в разнообразные процессы старения и распада, означает преодоление власти «последнего врага» (1 Кор 15:26) — смерти: «мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев; не любящий брата пребывает в смерти» (1 Ин 3:14).
При этом в христианском понимании укреплению устремленности человека к Богу содействуют лучшими сторонами своего образа жизни все члены Церкви. Дело здесь заключается в том, что на первых порах христианину часто бывает трудно открыться Богу столь полно, чтобы безоговорочно принять Его дары и в общении с Ним незамедлительно преобразить свою жизнь, подобно тому как это сделал ап. Павел (Гал 1:11–12). В этой ситуации для прояснения различных сторон и этапов движения к тому высшему совершенству, в котором пребывает Иисус Христос, немаловажное значение для христианина приобретает пример жизненной стези христиан, особенно — святых. Ведь Христос как Второе Божественное Лицо неизменно задает Своей человеческой природе всю полноту обо́жения с самого момента вышеестественного зачатия. Что касается христиан, то обычно они приближаются к обо́жению лишь постепенно, нуждаясь при этом в примерах продвижения к цели, включающего преодоление разнообразных затруднений. Поэтому ап. Павел призывает христиан: «подражайте, братия, мне (συμμιμηταί μου γίνεσθε) и смотрите на тех, которые поступают по образу (τύπον), какой имеете в нас» (Флп 3:17. См. также: 1 Петр 5:3; 1 Кор 4:16; 11:1; 1 Фес 1:6–7; 2 Фес 3:9; Тит 2:7; Евр 6:12; 13:7). Не случайно в настоящее время в Русской Православной Церкви священнику после рукоположения дается наперсный крест, на обратной стороне которого начертаны апостольские слова: «образ (τύπος) буди верным словом, житием, любовию, духом, верою, чистотою» (1 Тим 4:12).
Всецелое единство со Христом, достигнутое Божией Матерью, представляет собой высший образец христианского совершенства, возможный для человеческой личности. Эта мысль подразумевается заключительным прошением и Мирной, и обеих Малых ектений Литургии свт. Иоанна Златоуста: «помня (μνημονεύσαντες) о пресвятой пречистой преблагословенной прославленной Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии вместе со всеми святыми, да вверим (παραθώμετα) самих себя и друг друга и всю нашу жизнь Христу Богу» (The Divine Liturgy, 2011, 44, 46, 50). Ведь, как поясняет В. Н. Лосский, «историческое становление Церкви и мира уже завершилось не только в нетварной Личности Сына Божия, но и в тварной личности Его Матери. <…> Возле нетварной Божественной Ипостаси находится обо́женная человеческая ипостась» [Lossky, 1967, 205–206]. Ви́дение в Божией Матери высшего примера единения человеческой личности с Божественной Личностью Христа составляет одно из узловых оснований ее православного почитания, особенно значимое для практического выстраивания церковной жизни каждым христианином.
заключение
В состоянии исключительной святости, достигнутом Божией Матерью, Ее воля, Ее действия, все содержание Ее жизни согласуются с волей, действиями и содержанием человеческой жизни Иисуса Христа в той высшей полноте, которая только возможна для сотворенной человеческой личности. Это состояние высшей святости означает обретение жизни в единстве со Христом и христианами по подобию бытия Трех единосущных Божественных Ипостасей, высший принцип которого может быть сформулирован как «единство природы в различии Лиц». Поэтому для каждого христианина молитвенное обращение к Божией Матери непременно означает также и совместное с другими членами Церкви обращение к Ее Сыну — богочеловеку Иисусу Христу, а через Него — к Отцу и Святому Духу. Таким образом, в почитании Божией Матери выражаются оба базовых измерения христианской жизни: устремленность к Богу через богочеловека Иисуса Христа и всецелое единение христиан в Церкви.
Список литературы "Побеждаются естества уставы..." богословское осмысление православного почитания Божией Матери
- Минея (1914) - Минея праздничная. М., 1914. 912 с.
- Cyrillus Alexandrinus (1872) - Cyrillus Alexandrinus. Commentarii in Joannem / Ed. by P. E. Pusey. In 3 vols. Oxford: Clarendon Press, 1872. Vol. 1. 728 p.; Vol. 2. 737 p.; Vol. 3. 171 p.
- Gregorius Nazianzenus (1974) - Gregorius Nazianzenus. Epistulae theologicae / Ed. par P. Gallay. Paris: Cerf, 1974. 114 p. (Sources chrétiennes. Vol. 208).
- Joannes Damascenus (1973) - Joannes Damascenus. Expositio fidei / Hrsg. von B. Kotter. Berlin: De Gruyter, 1973. LIX, 292 s. (Patristische Texte und Studien. Bd. 12; Die Schriften des Johannes von Damaskos. Bd. 2).
- Христианское чтение № 6, 2019
- Nicolas Cabasilas (1926) - Nicolas Cabasilas. Sermo in Annuntiationem Deiparae / Ed. par M. Jugie // Patrologia Orientalis. Vol. 19. Paris, 1926. P. 484-495.
- The Divine Liturgy (2011) - The Divine Liturgy of Our Father among the Saints John Chrisostom: The Greek Text together with a Translation into English. Oxfordshire: Nigel Lynn Publishing, 2011. XXXIV, 214 p.
- Theodorus Mopsuestenus (1859) - Theodorus Mopsuestenus. Fragmenta dogmatica // Patrologiae cursus completus. Series graeca / Ed. par J. P. Migne. En 161 vol. Paris, 1857-1866. Vol. 66. Col. 969-1020.
- Лосский (2014) - Лосский В. Н. Успение Пресвятой Богородицы / Пер. с фр. Л. А. Успенской // Лосский В. Н., Успенский Л. А. Смысл икон. М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет; Эксмо, 2014. С. 319-322.
- Сахаров (1999) - Софроний (Сахаров), архим. Рождение в Царство непоколебимое. Толешант Найтс: Свято-Иоанно-Предтеченский монастырь, 1999. 224 с.
- Florovsky (1976) - Florovsky G. The Ever-Virgin Mother of God // Collected Works of Georges Florovsky. In 14 vols. Vols. 1-5. Belmont, MA: Nordland Publishing Company, 1976-1979; Vols. 6-14. Vaduz: Büchervertriebsanstalt, 1987-1989. Vol. 3. P. 171-188.
- Lossky (1967) - Lossky V. Panaghia // Lossky V. À l'image et à la ressemblance de Dieu. Paris: Aubier-Montaigne, 1967. P. 193-207.
- Meyendorff (1974) - Meyendorff J. Byzantine Theology: Historical Trends and Doctrinal Themes. New York, NY: Fordham University Press, 1974. 244 p.
- Meyendorff (1978) - Meyendorff J. Living Tradition: Orthodox Witness in the Contemporary World. Crestwood, NY: St Vladimir's Seminary Press, 1978. 202 p.
- Meyendorff (1985) - Meyendorff J. Christ as Savior in the East // Christian Spirituality: Origins to the Twelfth Century / Ed. by B. McGinn and J. Meyendorff in collab. with J. Leclercq. New York, NY: Crossroad, 1985. P. 231-251.
- Meyendorff (1987) - Meyendorff J. Christ's Humanity: The Paschal Mystery // St Vladimir's Theological Quarterly. 1987. Vol. 31. № 1. P. 5-40.
- Zizioulas (2006) - Zizioulas J. D. Communion and Otherness: Further Studies in Personhood and the Church / Ed. by P. McPartlan. Edinburgh: T&T Clark, 2006. XIV, 316 p.