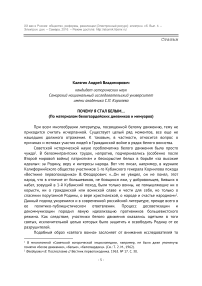Почему я стал белым… (по материалам белогвардейских дневников и мемуаров)
Автор: Калягин Андрей Владимирович
Журнал: ХХ век и Россия: общество, реформы, революции @sbornik-libsmr
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 4, 2016 года.
Бесплатный доступ
Выясняются и анализируются причины и мотивы участия людей в белом движении
Гражданская война в России, белое движение, белые, белогвардейцы, антибольшевизм, причины участия в белом движении
Короткий адрес: https://sciup.org/140129682
IDR: 140129682
Текст научной статьи Почему я стал белым… (по материалам белогвардейских дневников и мемуаров)
При всем многообразии литературы, посвященной белому движению, тему не приходится считать исчерпанной. Существует целый ряд моментов, все еще не нашедших должного отражения. К таковым, в частности, относится вопрос о причинах и мотивах участия людей в Гражданской войне в рядах белого воинства.
Советской исторической науке проблематика белого движения была просто чужда1. В белоэмигрантских трудах, напротив, подчеркивались (особенно после Второй мировой войны) патриотизм и бескорыстие белых в борьбе «за высокие идеалы»: за Родину, веру и интересы народа. Вот что писал, например, в журнале Калифорнийского общества участников 1-го Кубанского генерала Корнилова похода «Вестнике первопоходника» В. Феодорович: «...Он не увидел, он не понял, этот народ, что в отличие от большевиков, не боящихся лжи, у добровольцев, бивших в набат, зовущий в 1-й Кубанский поход, были только воины, не помышляющие ни о корысти, ни о гражданской или воинской славе и чести для себя, но только о спасении поруганной Родины, о вере христианской, о народе и счастье народном»2. Данный подход укоренился и в современной российской литературе, прежде всего в ее политико-публицистическом ответвлении. Процесс десоветизации и декоммунизации породил явную идеализацию противников большевистского режима. Как следствие, участники белого движения оказались одетыми в тоги святых, исключительной целью которых было защитить и освободить Родину от ее разрушителей.
Подобный образ «святого воина» заслоняет от внимания исследователей то
Статьи
многообразие причин и мотивов, в силу которых люди оказывались в белых рядах. Дело чаще всего ограничивается «замечаниями по ходу». Внимание при этом концентрируется в основном на деятельности большевиков. Одни указывают на их деструктивную политику в отношении интеллигенции и офицерства3. Другие пишут о ненависти к большевикам по идейным соображениям, хотя соображениям нередко кардинально противоположного характера. «...В Белую армию стекались люди очень разных взглядов. Все они ненавидели большевиков, но ненавидели по разным причинам. Одни – за то, что красные "погубили старую Россию", другие – за то, что они "предали революцию" и демократические идеалы»4. Серьезный анализ, однако, отсутствует. Даже в фундаментальном труде С.В. Волкова, рассмотревшего положение офицерства и происходившие в его недрах после революции процессы, вопрос не получил должного отражения5.
Положительным исключением является небольшая статья А.А. Шувалова, посвященная выбору представителями российского офицерства той или иной стороны противостояния в условиях разгоравшейся гражданской войны6. Автор приходит при этом к выводу, что убежденными противниками советской власти являлось порядка 2–3 % офицеров, участвовавших в антибольшевистской борьбе, а 90 % сражались «для самообороны, ради "куска хлеба", из-за жалования»7. Однако убедительных обоснований этому выводу А.А. Шувалов не представил.
Складывается впечатление, что исследователи сторонятся проблемы, тогда как ее изучение позволило бы более точно осмыслить и оценить многие страницы истории белой борьбы, внутренние коллизии белого движения, причины его провала. Дало бы возможность понять и объяснить действия, которые формировали реальности практической политики белых на местах, реальности, которые зачастую далеко расходились с официальными установками белого руководства. Цель настоящей статьи – заполнить существующую лакуну, выявить и проанализировать, используя дневниковые записи и воспоминания непосредственных участников и очевидцев белого движения, тот комплекс мотивов и причин, что заставляли людей воевать в белых рядах в годы Гражданской войны.
Статьи
Дневники и мемуары традиционно относят в силу присущей им высокой субъективности к категории ненадежных источников. Но именно это делает их незаменимыми в нашем конкретном случае. Где еще, как не в воспоминаниях и дневниках, можно обнаружить то многообразие чувств, переживаний, эмоций и настроений, позволяющих понять истинные основания участия людей в белом движении? Прежде всего здесь стоит отметить отношение к революционным событиям 1917 года.
Разочарование революцией
На вопрос о причинах вступления в Добровольческую армию один из офицеров ответил: «Надоели семечки!»8 Подсолнечная шелуха, как известно, буквально устилала тогда мостовые, став «символом революции»…
Часть общества изначально отрицательно восприняла начавшиеся в стране революционные события. По признанию участника белого движения Н.В. Краинского, «с первых дней февральской катастрофы гибель России была для меня совершенно ясна. Ко всем событиям революции я чувствовал одно лишь омерзение»9. Однако значительной частью гражданского общества, его буржуазноинтеллигентскими слоями события конца февраля – начала марта были восприняты вполне позитивно.
Отношение офицерства сложнее. Революционный переворот больно затронул его кадровую часть. П.Р. Бермондт-Авалов вспоминал: «С того момента, когда состоялось отречение от престола государя императора, мы, кадровые офицеры, остались без всякой точки опоры, которая могла бы нас поддержать и дать возможность начать снова работать, мы фактически висели в воздухе, завися исключительно от случайности. Все, что делалось вокруг, что мы слышали и видели, казалось далеким от необходимого и создавало убеждение о близкой катастрофе всей этой бутафории. Неопределенность и туманность нового положения еще более способствовали угнетенному состоянию духа»10. Но основная масса офицерства отнеслась к происшедшим событиям если и не с восторгом, то достаточно спокойно и не без доли симпатии11. Негативная реакция, рождавшая стремление к сопротивлению, явилась следствием последующего развития процессов12. События
Статьи
же октября обострили ситуацию до крайности. «Становилось противно оставаться», – вспоминал генерал-лейтенант М.А. Свечин. И добившись от корпусного комитета отпускного билета, подтверждавшего, что он «уволен на два месяца в отпуск во все места республики», генерал отправился на Дон, «…где, по доходившим до нас сведениям, организовывалась Добровольческая армия»13. Генерал Свечин не был исключением...
Однако констатация ситуации «разочарования революцией» помогает понять выбор людей, но еще не отвечает на центральный вопрос: что конкретно рождало это самое «стремление на Дон»? За «надоевшими семечками» могли скрываться самые разнообразные мотивы, заставлявшие делать этот выбор. Первое, что обнаружим в этом отношении в белых мемуарах, – восприятие происходившего как угрозы престижу и самому существованию России.
Против «интернационала»
«К вакханалии, созданной революцией и приведшей к полному разложению армии и к смуте в стране, прибавился новый ужас – захват центральной государственной власти шайкой интернациональных негодяев. Нависла угроза над самим бытием России как великой и национальной Державы», – писал генерал А.С. Лукомский14. Более лаконичен генерал К.В. Сахаров: «Национальная Русь восстала против интернационала»15.
«Интернационал» подразумевал широкий спектр, начиная от латышей и китайцев… Но центральное место отводили «угрозе германской» и «угрозе еврейской». Член Особого совещания при Деникине профессор К.Н. Соколов признавался, что «революция часто исчерпывалась для нас понятием "бунта", а большевики были не более, как "германские агенты"»16. Называл немцев «антрепренерами большевиков» и другой политический деятель, участник Ледяного похода добровольцев Л.В. Половцов. Целью генерала Алексеева при создании Добровольческой армии было, по его словам, именно продолжение борьбы с германской угрозой. Правда, он не мог не признать при этом, что «боевое свое крещение армия получила в борьбе с защитниками немцев, русскими крестьянами (курсив мой. – А.К. ), а с самими немцами никогда не встречалась на поле битвы». И все же, боролись именно с немцами, хотя и «посредственно, через головы
Статьи
большевиков»17. Логика оригинальная, но отражает действительно распространенные тогда настроения. Поручик Мария Бочкарева, инициатор создания женских батальонов, указывала: «В это время я была приверженкой Корнилова и была убеждена, что Советская власть идет рука об руку с немцами, с тем, чтобы посадить на русский престол Вильгельма, об этом говорило все офицерство и та среда, в которой я вращалась»18. Или запись в дневнике куда более образованного генерала А.П. фон Будберга: «Что такое верхи большевизма, говорит ясно их наемное немецкое происхождение...» Генерал даже называл большевиков «немцевиками»19.
Немцев считали непосредственными организаторами Красной армии, при этом распространялись самые фантастические слухи. К примеру, известного советского военачальника В.К. Блюхера считали «офицером австрийского или германского Генерального штаба – потомком знаменитого прусского фельдмаршала Блюхера»20. Лишь в эмиграции, да и то немало лет спустя, стали признавать, что Красная армия была сформирована не немцами, но усилиями русских офицеров, выпускников Академии Генерального штаба, воевавших на стороне большевиков21.
Широко была распространена и юдофобия. «Оскорбленное национальное чувство», указывал прошедший с Добровольческой армией Ледяной поход Н.Н. Львов, находило отражение в ненависти к евреям22. Рассмотревший данный вопрос С.П. Мельгунов также отмечал, что в рядовой психологии происходило отождествление большевизма с еврейством23. Похоже, что не только в «рядовой психологии». Генерал К.В. Сахаров, например, даже не пытался скрывать своей ненависти к «игу интернационала», где «девять десятых были иудеи, прикрывавшие свои специфические фамилии "блюмов" и "штейнов" псевдонимами»24.
Отрицая, однако, «интернационал» и «еврейскую революцию», сами белые не менее впадали в «грех интернационализма». Откроем воспоминания атамана
Статьи
Г.М. Семенова и убедимся, что в составе его сил были монголы, китайцы, корейцы. Найдем у него и бельгийцев, батальон японских добровольцев, отряд сербов и военно-полицейскую команду из военнопленных германцев и турок25. Впрочем, в случае с Семеновым можно сослаться на региональную специфику. Да и личность атамана имела одиозный оттенок.
Но вот Добровольческая армия… Р.Б. Гуль упоминает в ее составе китайский отряд сотника Хоперского26. Встречаются в мемуарах и персы, совершавшие в рядах добровольцев Ледяной поход27. Немалое внимание уделялось привлечению военнопленных из армий австро-германского блока. Добровольческое командование изначально добивалось переброски на Дон чехословацких частей28. И хотя чешское руководство категорически этому воспротивилось, в составе армии был сформирован чехословацкий инженерный полк29. А командир Партизанского полка Б.И. Казанович вспомнил, как в ходе первого штурма Екатеринодара ему удалось прорваться в город, где в казарме обнаружили военнопленных австрийцев. За то, что он не вывел их из города, Казанович получил нагоняй от генерала Корнилова, так как среди них могли оказаться «пригодные для пополнения Добровольческой армии»30. В дальнейшем даже «цветные» полки не брезговали восполнять свои ряды «красными интернационалистами» из бывших военнопленных, что подтверждают записи подобно следующей: «...Мы (марковцы. – А.К. ), в составе 600 человек, разгромили три интернациональных полка немцев и мадьяр. Получили 8 пленных на пополнение роты»31.
Статьи
У Колчака, помимо чехов, имелись части из поляков, сербов, румын, латышей32.
Немало среди белых было и евреев, которые регулярно упоминаются в белогвардейских мемуарах. Упоминаются именно как героические участники белой борьбы33. Вот, хотя бы, 1-й батальон Корниловского полка. Читаем: «Весь состав его состоял из офицеров-добровольцев, пробравшихся на Дон через красные рогатки чудом, был он чисто офицерским и имел в своих рядах евреев-прапорщиков производства Керенского. Все они держали себя отлично и все пали смертью храбрых в первом же походе»34.
Дело, вероятно, не в национальном происхождении. Но настроения имелись. И белая пропаганда всячески подчеркивала борьбу против «иностранных ставленников»35, привлекая тем самым определенный контингент в свои ряды.
«Мы бились за русский народ»
Достаточно популярной в мемуарах участников белого движения является также тема «народа». Вот что писал командир Дроздовской стрелковой дивизии А.В. Туркул: «Мы бились за русский народ, за его свободу и душу, чтобы он, обманутый, не стал советским рабом»36.
Имеются, однако, и иные свидетельства, которые заставляют несколько иначе взглянуть на ситуацию, признать, что «счастье и свобода народа» вовсе не выступали ведущим мотивом для белого воинства. В.В. Шульгин язвил: «Белые не презирают русский народ... Ведь если его не любить, за что же умирать и так горько страдать?»37 В справедливом сарказме Василию Витальевичу не откажешь. При всех заявлениях о борьбе за «русский народ» крестьяне и рабочие с их нуждами теплых чувств у подавляющей массы белых не вызывали. Характерный разговор на одном из привалов во время Ледяного похода припомнил Н.Н. Львов. На вопрос – «стоит ли собой жертвовать за русский народ?» – капитан Рахманов не замедлил ответить: «Да я за русский народ воевать и не намерен, а я воюю потому, что если бы не
Статьи
воевал, то считал бы себя подлецом»38. А один из первых добровольцев В.А. Ларионов прямо признавался, что шли бороться с «взбесившимся народом»39.
Закономерно, что и сам народ не видел в белых выразителей его интересов. Генерал П.И. Залесский вынужден был констатировать, что своими для народных масс были большевики: «Наши идут!» Тогда как приход белых оценивался: «Господа (паны) пришли!»40 Здесь можно вспомнить эпизод из мемуаров полковника И.М. Калинина. Арестованная в Крыму за помощь красноармейцам молодая крестьянка на вопрос, почему ей так нравятся красные, ответила: «Потому что это наши… Нету страха к ним… Разве не видели снимков, ведь у нас отобрали кучу фотографий… Все ихние начальники запанибрата с нами поснимались… А вас мы боимся… Чужие вы, вот что»41.
По совести и за идею
Бесспорно, что целый ряд участников белого движения вступили в борьбу по идейным соображениям, хотя политические симпатии рядовых белогвардейцев были зачастую кардинально противоположными. Кто-то тосковал по самодержавной монархии, как, например, Н.В. Краинский, считавший Добровольческую армию «борющейся за спасение единственной России, которую знала история, – России исторической, Царской»42. Кто-то же записывал: «Послужить я за Россию согласен, но только не за старо-реакционную; если увижу, что дело будет клониться к тому, то до свидания»43.
И все же прослеживается некоторая объединяющая черта, отмеченная одним из создателей Союза возрождения России В.А. Мякотиным: были «идеалисты, горевшие лишь одним желанием – освободить родину от гнета невыносимого насилия»44. Из подобных побуждений отправился на Юг капитан П. Месняев. К осени 1918 г. он добрался в Новочеркасск, где отказался ждать офицерского назначения в
Статьи
одну из формирующихся частей, а вступил в Марковский полк рядовым45. К этой группе можно отнести и Д.И. Мейснера46. Таков профессор В.Х. Даватц, отвергший тыловое благополучие, по собственному его признанию, из чувства стыда и разочарования «общественной деятельностью»: «Писались резолюции, спорили, постепенно впадали в панику и запасались деньгами и заграничными паспортами. И в один прекрасный день из политического деятеля и профессора я стал солдатом бронепоезда "На Москву"»47. Учитывая, что в армию Даватц вступил на ее трагическом изломе, незадолго до Новороссийской катастрофы, усомниться в искренности его чувств не приходится.
Впрочем, переоценивать идейно-патриотические мотивы участия в белом движении опять же не стоит. Отправившийся на восток для борьбы с большевиками генерал А.П. фон Будберг описывает встреченную им картину: «За идею стоят, гибнут и готовы гибнуть только кучки старых офицеров и их детей – кадет, гимназистов, юнкеров, – представителей старых идей долга и служения государству за совесть; но их очень немного»48. Искренний идейный контингент возможно и превалировал в момент непосредственного зарождения белой борьбы на Юге России, но по мере развития ситуации картина и здесь все более менялась, на что указал в своем письме А.И. Деникину в марте 1920 г. генерал Лукомский: «Из числа идейных офицеров, начавших дело в 1917 году и присоединившихся к Добровольческой армии в 1918 году, осталось немного. Большинство ныне состоящих в нашей армии офицеров – заурядные, развращенные за период революции и далеко не "идейные"»49.
«Считаю своим долгом…»
Часть из тех, кто сделал белый выбор, не вдаваясь глубоко в вопросы идеологии, руководствовались чувством служебного долга, как, например, доброволец С.М. Пауль. В декабре 1917 г. он приехал в Новочеркасск, приехал вовсе не с заранее поставленной целью вступить в борьбу с большевиками. Просто в Новочеркасске жила его семья. «Недели две гуляю, завожу знакомства, серьезно не задумываюсь», – признается он. И лишь отдохнув... «Наступает время исполнить свой долг офицера. 23 декабря записываюсь в Добровольческую армию. Попал в первую роту 1-го сводно-офицерского батальона»50. Никакой патетики, никакой
Статьи
наигранной героизации, ни слова о ненависти к большевикам. Человек вернулся с фронта, отдохнул. А далее… «наступает время исполнить свой долг офицера». Так он его понимал. При этом даже не попытался скрыть глубокого отвращения к войне, где «свой убивает своего», возникавшего желания «бросить все»51. Но чувство долга заставляло участвовать в братоубийственной бойне…
Факты, когда в воспоминаниях не просто красивые слова о долге, а именно реальности его исполнения в соответствии с существующим у человека пониманием, отражают подчас ситуации, которые даже трудно представить. Так капитан А.А. Оленин вспомнил старшего фейерверкера своей батареи Сафонова: «Прекрасный солдат, способный и толковый артиллерист, прямой и честный, с необыкновенно развитым чувством долга – он еще в Армавире (здесь в 1919 г. располагалась учебно-подготовительная артиллерийская школа. – А.К. ) открыто заявил, что по своим политическим убеждениям он – коммунист, но что как старый солдат считает своим долгом служить нам верой и правдой. И, действительно, таким верным служакой он и остался до конца»52.
Верность традициям
Рядом с чувством долга стояла верность традициям, или что генерал Б.А. Штейфон определил как «офицерская психология», отметив ситуацию, когда офицеры «воздерживались от немедленного вступления в Добровольческую армию» не из стремления уклониться от борьбы, а ожидая возрождения частей, где им ранее приходилось служить53. Сам Штейфон упомянул в этой связи воссоздание Белозерского полка. Полковник Н.А. Протопопов вспомнил группу офицеров Перновского полка, направлявшихся в Пермь: «Перновцы несли с собой старое боевое знамя 3-го гренадерского Перновского полка и их мечтой было как можно скорее перейти к чехам и у них начать формирование славного Перновского полка...»54 А штабс-капитан К. Попов писал о своем сослуживце Толе Побоевском. Еще в начале революционных событий тот уехал во Францию, но узнав о формировании Сводно-Гренадерского батальона, поспешил обратно в Россию и приехал в Екатеринодар специально, чтобы вступить в его ряды. «Решено было, что 2-го января (1919 г. – А.К. ) мы вместе выедем в наш Сводно-Гренадерский батальон,
Статьи
так как Толя ехал сюда именно с этой целью. Он не заехал даже домой повидать своих родных, которых не видел столько лет»55.
Подобные чувства были присущи не только русским офицерам и солдатам. А. Думбадзе вспомнил некоего Али из крымских татар, который «...потерял руку еще на большой войне, но и с одной рукой, услышав о формировании родного полка, он сразу же явился и встал в строй»56. Али называл себя «татарский русский солдат, совершенно Крымского государыни Александры Федоровны полка». Причем подчеркивал, что является всадником шестого эскадрона, хотя в Добровольческой армии шести эскадронов в полку не имелось. «Он был своего шестого эскадрона – никакого другого»57.
«Офицерская психология» вполне, таким образом, может быть названа в ряду причин участия в белом движении.
Разрушение устоев
Не пренебречь и тем фактом, что в революционных катаклизмах рушился привычный образ жизни, порождая у части общества стремление защитить привычные устои и традиционные нормы бытия.
Как могло накапливаться подобное стремление, мы видим в воспоминаниях 16-летнего гимназиста Павла Жадана, жившего в Ставропольском крае. Все началось с посещения их хозяйства комиссаром в сопровождении группы парней из соседнего села, потребовавших передать их селу часть земли и инвентарь. Правда, удовлетворились в итоге взяткой, но... пообещали вернуться. После этого отец поспешил отправить Павла подальше в степь... Сам же был вскоре арестован, хотя затем и отпущен. Пережив все эти мытарства, семья перебралась в Ставрополь, который в 1918 г. был занят белыми. При этом приоритетом для Павла все еще оставалась переэкзаменовка по немецкому языку. Решение о вступлении в ряды белых пришло спонтанно, когда он стал очевидцем развернувшегося за город боя. «С нашей Мавринской улицы бой между белой армией, защищавшей город, и красной армией, наступавшей на Ставрополь, был хорошо виден. Я несколько раз прерывал свои занятия и наблюдал за боем. Я думал о скитаниях по степи, об аресте отца с угрозой расстрела, обо всех трудностях, пережитых нашей семьей, родственниками и друзьями. Могу ли я спокойно заниматься, когда в этом бою гибнут люди, защищая мою жизнь и жизни мирных жителей города? Я сложил книги, оделся и сказал Марии Павловне, что ухожу записываться добровольцем в белую
Статьи
армию. Комиссия Третьего ставропольского офицерского полка помещалась в Ольгинской гимназии за квартал от нашей Мавринской улицы»58.
Стремление сохранить и защитить привычные устои было присуще более всего этнически, конфессионально, социально обособленным группам населения. Генерал-майор И.Г. Акулинин вспоминал настроения Оренбургского казачества: «Подавляющее большинство населения станиц и поселков к пропаганде большевизма относилось отрицательно, хотя бы в силу своего природного консерватизма. Но ясного, отчетливого представления о большевизме и его разрушительных началах – у казаков не было»59. Проще говоря, в большевиках видели зло не в силу их идей («отчетливого представления» по этому вопросу нет). Они – зло, поскольку несут разрушение традиционного уклада жизни. А потому с ними необходимо бороться. Белые не нарушают этот уклад, следовательно, бороться необходимо на стороне белых.
Подобная логика являлась особенно характерной для пожилого поколения, что отмечает командующий Уральской отдельной армией В.С. Толстов, как бы дополняющий и развивающий замечание Акулинина: «Каждый, особенно из нас, испытавший в полном объеме гражданскую неурядицу, знает, что главными двигателями в борьбе против чего-то нового являлись главным образом старики. Если хорошо разобраться, двигателем у стариков была только привычка к старому, укоренившемуся»60.
Ситуация максимально обострялась, когда помимо традиций и обычаев затрагивались еще и сплетавшиеся с ними экономические интересы. Характерным примером могут служить проживавшие на Юге России немцы-колонисты, которые составляли в своей этнической обособленности наиболее развитый и зажиточный элемент населения.
Угроза их национально-особенному благополучию наметилась еще в годы Первой мировой войны. Теперь она выросла многократно. По свидетельству представителя данной части белого движения Ф. Штеймана, немецкому колонисту была присуща «крупная доля консерватизма, а за землю свою он готов отдать жизнь», тогда как окрестное крестьянство проявляло склонность к большевизму в надежде забрать себе «немецкие земли»61. Не случайно немцы-колонисты активно пополняли белые ряды, составляя, по воспоминаниям очевидцев, один из самых
Статьи
надежных и… беспощадных в расправах контингентов войск Деникина62.
Из религиозных побуждений
Некоторая часть пришла в ряды белых, движимая религиозными побуждениями. Отвечая на вопрос, по каким причинам он вступает в Добровольческую армию, некий прапорщик Быховец указал: «Защищать веру христову»63. И в современной историографии встречается оценка белого движения как движения религиозного, важнейшим мотивом участия в котором было религиозное чувство. К примеру, исследователь В.В. Кулаков, отмечая ведущую роль религиозного чувства, пишет, что «...многими активными борцами с большевизмом белое движение ассоциировалось со священным "Крестовым походом", с борьбой с Сатаной, захватившим родную землю и помутившим рассудок соотечественников»64.
Бесспорно, вопрос религии активно обыгрывался белой пропагандой, а большевистские деятели изображались на плакатах в «образе Сатаны», но делать на этом основании выводы, что религиозные мотивы являлись ключевым фактором участия в белой борьбе, было бы преждевременным. Предпринимавшиеся попытки поставить дело именно на религиозную основу терпели крах. Работавший в системе колчаковской пропаганды В.Н. Иванов вспоминал провал инициативы пермского профессора Б.Д. Болдырева по созданию «дружин Св. Креста»: «В большом соборе в чудесный осенний день выступал с проповедью сам профессор Болдырев… Он говорил о том, что большевизм есть "сила диавола" и одолеть ее можно только крестом. На оратора, стоявшего на амвоне, глядели многочисленные смущенные, недоумевающие или иронически настроенные слушатели...» Даже служители церкви не поддержали инициативу, недвусмысленно выразив сомнение в успехе дела: «Вы-то убежите, – сказал преосвященный (если не изменяет память, – Борис), – а нам-то с большевиками жить придется!»65
Религиозный антибольшевизм скорее был присущ низовой массе, крестьянству, которое вряд ли может быть отнесено в основной своей части к сторонникам белых66. Куда более значимую роль в деле выбора играло, пожалуй, не божье имя, а имя вождя.
Статьи
Имя вождя
Полковник Ф.И. Елисеев отмечал действовавший в Гражданской войне «гипноз имени»67. Ему вторит генерал Д.В. Филатьев: «Между тем каждому понятно, какое значение имеет имя вождя в гражданской войне»68.
Взять генерала Л.Г. Корнилова. «Имя его заставляло людей стекаться к нему со всех концов России и идти за ним беспрекословно», – заметил в одном из юбилейных докладов, посвященных Добровольческой армии, генерал М.М. Зинкевич69. «В Корнилове было "героическое". Это чувствовали все и потому шли за ним слепо, с восторгом, в огонь и в воду», – подтверждает Роман Гуль70.
Для многих Корнилов сам по себе являлся «идеей» и «знаменем» борьбы. Доброволец из бывших солдат рассказывал: «До великой войны я был рабочим-наборщиком. По своему происхождению, по своей работе, казалось, я должен был бы остаться у большевиков, а вот увидел Корнилова и пошел за ним в Добровольческую армию»71.
Уважением, хотя может и меньшей популярностью, пользовался основоположник Добровольческой армии генерал М.В. Алексеев. Были вожди и помельче. По признанию поручика В.Д. Матасова, «такие люди, как генералы Корнилов, Марков, Дроздовский, Врангель, Казанович, Эрдели, Бабиев, Мамонтов; полковники Неженцев, Кутепов, Жебрак, Румель, Манштейн, Туркул; есаул Чернецов, капитан Покровский, были светочами для добровольцев»72. Их имена являлись той силой притяжения, что заставляла многих, очень многих делать именно белый выбор.
«Литературный романтизм»
Известно стремление в белое движение молодежи. При этом о глубоких (точнее осмысленных) идейных основах подобного стремления вряд ли стоит вести речь. Н.В. Волков-Муромцев сознавался, что «для большинства политика совершенно не играла роли»73. Ему вторит С.И. Мамонтов: «Но не нужно забывать, что мы были
Статьи
молоды, немного глупы и вовсе не интересовались политикой… Меня больше интересовало, как портной скроит мне синие штаны…»74 Не стоит, однако, забывать, что такие «белые мальчики» были зачастую выходцами из потомственных военных семейств. Сама социальная среда, семейная и образовательная обстановка формировали стереотипы их поведения. По признанию бывшего юнкера Я.А. Тельнова, «тогда было такое поветрие, что юнкера обязательно должны были участвовать в восстаниях против большевиков»75.
Увлекал пример товарищей. Кадет Донского императора Александра III кадетского корпуса И. Сагацкий вспоминал, что как только «зазвучали первые выстрелы восставших большевиков», то «из старших классов сразу исчезла небольшая группа кадет». Впоследствии они вернулись, рассказывая о своем участии в боях. Как следствие: «Старшие классы теперь только и говорили о предстоящих новых боях и сговаривались, как и куда уходить вместе, когда наступит час. Родители, корпус – ничто больше не интересовало их»76. Тем более что к этому могла примешиваться изрядная доля литературного романтизма, классический пример которого привел артиллерист-дроздовец Д.Ф. Пронин: «Володя попал в батарею недавно... Рассказы из эпохи Отечественной войны и обороны Севастополя увлекали его»77. А в Курске А.П. Кутепову принесли книгу вступившего в Корниловский полк гимназиста, который просил передать ее генералу в случае своей гибели. То были рассказы о походах Суворова78.
Не выбросить и желание предстать в глазах общества (особенно перед знакомыми барышнями) в «лавровом венке» и «тоге спасителя Отечества», в чем признавался кадет Александр Еленевский, начавший свой белый путь еще в Народной армии Комуча: «Идея попасть в Симбирск всем очень понравилась, а мне особенно. У меня там было множество знакомых барышень, и появиться перед ними в ореоле славы была всегда моя заветная мечта»79.
Объявили мобилизацию...
А.И. Деникин отмечал, что «многие шли по убеждению, но еще больше по принуждению»80. Совершенно не помышлял о белом движении, например, Константин Баев. «Воспитанник последнего курса Кубанского среднетехнического
Статьи
училища в гор. Майкопе я, как и большинство моих сверстников в то время ни о чем другом не думали, как об учении (курсив мой. – А.К. ). Но тут снова разразилась гроза. В 1919-м году на фронте белой армии, подходившей уже к Москве, создалось более чем серьезное положение, следствием которого была объявлена мобилизация также и ученической молодежи моего 18-ти летнего возраста. После двух- или трехнедельного пребывания в особой ученической роте в городе Ставрополе нас всех, имеющих достаточный ценз образования, отправили в военное училище (Ставропольские ускоренные курсы по подготовке пехотных офицеров)», – вспоминал он81.
Подобные мобилизации были, пожалуй, одной из самых торных дорог в белые ряды. Вот картина после взятия Перми колчаковцами: «Затем на стенах домов, на заборах появились объявления новой власти, требующие от всех офицеров немедленно явиться на регистрацию. Естественно, пришлось идти. Во время этой процедуры я назвал себя "бывшим офицером", на что получил от регистратора, этакого благополучного капитана, замечание, что-де офицер не может быть "бывшим", для этого есть слово "ренегат"... Из нашего брата (а нас набиралось до 360 человек) был немедленно сформирован офицерский полк»82. Описание подойдет для любого занятого белыми населенного пункта. И ключевая здесь фраза: «Естественно, пришлось идти». В ней скрыта (точнее раскрыта) ахиллесова пята белого движения.
Много написано о мужестве, героизме, самопожертвовании русского офицера. Но это часть правды. Штабс-капитан К. Попов вспоминал начальные дни Первой мировой войны: «…Наши батальонные командиры, за исключением одного, были совсем небоеспособны и после первого же боя испарились из полка на все время войны не будучи ранеными»83. Сколько таких «героев» попало затем по мобилизации в белые?
Обобщать может и не стоит, но не избежать факта, отмеченного штабс-капитаном Д. Свидерским, что русский офицер «...по мобилизации в большом количестве "рассыпался" по Деникинским тылам, где так привольно, сытно и весело жилось!»84 Стремление мобилизуемых в «теплый тыл» зафиксировал и марковец И.Э. Лисенко, которому поручили распределять по артиллерийским частям и бронепоездам мобилизованных офицеров и чиновников, «по возможности считаясь с их желаниями». «Это оказалось трудно, так как большинство просилось, под
Статьи
разными предлогами, в тыл», – признавался он85. Даже среди флотских офицеров наблюдалось, по свидетельству очевидца, стремление «…уклониться от службы на импровизированных военных судах, разных "болиндерах", буксирах и "каках", как в шутку называли канонерские лодки, обозначенные литерой "К"»86.
Аналогично и на Востоке, и на Севере87. Подальше от фронта создавались какие-то штабы, выдвигались проекты мифических организаций, формировались непонятные части. «Нам на фронте нужны бойцы, – вспоминал Ф.Ф. Мейбом, – а в это время в тылу появились какие-то гвардейские формирования – в их штабах сидят сотни офицеров-шкурников, не желающих подвергаться опасности. Конечно, ни одной части не было сформировано, да они и не собирались этого делать»88. Ему вторит полковник В.О. Вырыпаев: «Для многих эти дутые формирования были своего рода защитой от посылки на фронт». В качестве примера он привел созданную в Омске отдельную бригаду егерей численностью до 5 тыс. человек. На фронт она не спешила, добившись статуса «московского гарнизона». Ожидала в тылу, когда, наконец, состоится прибытие в Москву, чтобы приступить к гарнизонной службе89.
«Силою событий принуждены были взяться за оружие»
В определении принадлежности людей к тому или иному лагерю Гражданской войны заметно действие складывавшихся конкретных обстоятельств. Даже известные вожди белого движения оказались на своем месте в определенной степени по этой причине. Скажем, «быховские узники». После прихода к власти большевиков генералы Корнилов, Марков, Деникин, Лукомский и иные вряд ли могли беззаботно ожидать «решения своей судьбы». Иного выбора, как вступить в борьбу, у них просто не оставалось. Генерал Лукомский вспоминал: «25 октября (7 ноября) большевики свергли Временное правительство и захватили власть... Положение наше стало опасным. В бытность у власти Керенского мы могли, если бы захотели, бежать из Быхова совершенно свободно. Но мы этого делать не хотели, мы
Статьи
хотели суда. С появлением же у власти большевиков – оставаться в Быхове становилось просто глупо»90.
Впрочем, пример с «быховскими узниками» может показаться не совсем удачным, поскольку генерал Корнилов и его сторонники уже зарекомендовали себя конкретными действиями против «завоеваний революции». Но можно вспомнить адмирала Колчака. Каковы бы ни были его настроения, в прямых антиреволюционных выступлениях он замешан не был. А в момент захвата власти большевиками вообще находился за пределами страны и не предполагал возвращаться в Россию, да еще в качестве ключевой фигуры белого движения. Его судьбу определила воля английского правительства91. Да и генерал Е.К. Миллер признавался, что поехал из Парижа в Архангельск по требованиям французского и итальянского послов92.
Среди обстоятельств генерал Залесский особо выделил «политику насилий большевиков»: «Белогвардейцы, белоармейцы, или просто "белые" это – гонимые большевиками люди: офицеры, землевладельцы, купцы, промышленники, чиновники, зажиточные крестьяне, вообще – люди, которых грабили, убивали и истязали... Спасшиеся от убийств и насилия русские люди скопились на разных окраинах России, и там, силою событий, принуждены были взяться за оружие; так образовались "белые" фронты»93.
Подтверждением может послужить история семьи Нефедовых, сохраненная в воспоминаниях Б. Турчанинова. В начале ноября 1917 г. «пришел Леся» – офицер Черноморского флота, заночевавший у Турчаниновых. Наутро о приезде сына известили отца, но тот строго указал: «Лесе домой ни под каким видом не являться, а пробираться в Новочеркасск – к кому, он знает». Но почему, почему отец не только не обрадовался приходу сына, а даже отказался с ним встретиться? Оказывается, накануне «явился мостовщик Генька-безносый», ставший красногвардейцем, и грозил расправой: «Что, старик, Алешку и Шурку своих ахвицериков ждешь? Мы тоже их ждем, мотри, не вздумай их укрывать, как объявятся, нехай до мине немедля
Статьи
явяца, я им усе припомню»94. В Новочеркасске Алексей Нефедов вступил в Добровольческую армию, проделав в ее рядах Ледяной поход...
Политика насилий, от которой бежали к белым, была присуща не только большевикам. Наблюдалась она, например, в бывших национальных окраинах Империи, где нередко происходило сведение счетов по этническому признаку. Редактор официоза Северо-западного правительства – газеты «Свободная Россия» – Г.Л. Кирдецов (Дворжецкий) отмечает расправы в Финляндии, устроенные немцами и белофиннами Маннергейма, от которых «русские, особенно военный элемент, терпели жестоко физически и нравственно»95. Спасение офицеры искали на южном берегу Финского залива – в Ревеле, составив крупный резерв сил Н.Н. Юденича. Причем многие из этих офицеров вовсе не являлись убежденными сторонниками борьбы с большевизмом96. А Л.Л. Марков вспомнил о «проснувшемся шовинизме» и «мании величия» грузин, чьи действия «больно задевали и без того переболевшие революцией русские сердца». Перебравшийся в Грузию Марков «...решил возвращаться на боевую арену русской действительности, на Сев. Кавказ, где разворачивалась и победоносно действовала Добровольческая армия ген. Деникина»97.
Немало офицеров пыталось скрыться от «революционной действительности» в провинциальной глубинке, у родственников в деревне. Здесь они оказывались втянутыми в борьбу стихийными крестьянскими восстаниями, когда их, как людей с военным опытом, выдвигали в руководство. Дальнейшим шагом становились обычно белогвардейские ряды. Так в белых оказались, например, командовавший у Колчака Ижевской дивизией В.М. Молчанов или поручик И.К. Волегов98.
Бытовые неурядицы
Не последнюю роль играли бытовые неурядицы. Член правительства Северной области Б.Ф. Соколов вспоминал наплыв генералов, приехавших вслед за Е.К. Миллером: «Цель их приезда была вполне ясной. Немножко подкормиться и выслать денег своим семьям, живущим заграницей»99. А герцог Г.Н. Лейхтенбергский
Статьи
писал о бежавших от большевиков военных и штатских, желавших служить России «из-за хлеба насущного»100.
Все это опять же не являлось исключительно советской производной. С.М. Устинов оставил нам картину положения офицеров в Украине периода гетманщины и немецкой оккупации: «Офицеры стали мастерами, сапожниками, газетчиками, музыкантами и даже официантами...» Как результат: «Но лишь только откуда-то издалека, донесся сначала слабый, а потом настойчивый призыв офицеров в Добровольческую армию, как забились сердца радостью, и всех потянуло туда, где, верилось, возрождалась Великая Россия!»101 Поспешил на этот призыв и сам Устинов. Поспешил и А. Литвинов, который так описал свои настроения: «В первый раз за все мое 6-месячное пребывание в Киеве я могу, наконец, вздохнуть полной грудью. Довольно этой придуманной украинизации, этих сытых немецких офицеров и солдат и голодных русских...»102
Впрочем, и приход белых не устранял проблемы. Об этом свидетельствует В. Корсак, посвятивший немало страниц описанию своих (и не только своих) мытарств в Киеве уже под белой властью. «А жить все-таки надо было. Дмитриев устроился, по знакомству, на броневой поезд пулеметчиком, Помогайлов исчез, а я...» А Вениамин Корсак – боевой офицер, имевший за спиной германский плен, тяжелые ранения и, собственно, не пригодный к службе, что подтвердила медицинская комиссия белых, – узнав от одного офицера, что на Большой Кудрявской формируется какая-то рота, вступил в ее ряды103. Так он стал белогвардейцем, не столько из идейных соображений и ненависти к большевикам (хотя ненависть тоже имелась), сколько потому, что «хотелось кушать».
Фактор территории
Многое зависело от того, где в решающий момент находился человек. Характерный тому пример капитан Георгий Думбадзе, который в 1918 г. обучался в Академии Генштаба, находившейся в Екатеринбурге. В связи с восстанием чехословацкого корпуса ее перевели в Казань, которая была вскоре захвачена чехами и отрядами Народной армии Комуча. Академия двинулась в обратный путь в Екатеринбург, а затем в Томск и Омск. Здесь, уже в Сибири Колчака, Думбадзе и окончил ее курсы, получив назначение в штаб генерал-лейтенанта Розанова – в
Статьи
город Красноярск104. Не возвратись же Академия на территорию белой Сибири, то ее выпускник Думбадзе оказался бы не в штабе Розанова, а скорее всего в штабе какой-нибудь красноармейской части.
Ситуация, когда территориальный фактор становился определяющим в выборе судьбы, типична для Гражданской войны в России. Хотя нельзя не отметить, что многие, не имея по разным обстоятельствам возможности непосредственно уйти к белым, целенаправленно стремились поближе к линии фронта в ожидании их прихода. Пример тому полковник Г.И. Клерже. Обремененный семьей он сознательно перебрался в Пермь, где дожидался войск Колчака. «Конечно, если бы не семья, состоящая из двух женщин, то вопрос с прорывом через линию фронта разрешился бы самым простым и, пожалуй, скорым способом. Но так как бросить семью в этой смертельно опасной обстановке было бы равносильно преданию ее на поругание и насилия обозленных большевиков, пришлось терпеть и только ждать, ждать», – вспоминал он105.
Разочарование жизнью
Нельзя не отметить, что некоторые оказывались в белых рядах по самым неожиданным причинам. Н.Н. Львов вспомнил встречу во время Ледяного похода со своим гимназическим товарищем. Последний признался, что не верит в успех борьбы. И поспешил разъяснить: «Ты спросишь, отчего же я воюю. Скажу тебе откровенно, друг. Столько видел я гадости в жизни, столько подлости насмотрелся, так узнал, что такое люди, что нет больше охоты жить. Застрелиться я не хочу. Ну, вот и ищешь, чтобы какая-нибудь маленькая пуля с тобой покончила. Умереть так все же лучше, чем от какой-нибудь болезни с докторами, с лекарствами и с сознанием своей полной никому ненужности. Здесь все-таки для чего-то отдаешь жизнь»106.
Пылая чувством мести
Немалое место в выборе людей играло чувство мести, хотя ее мотивы могли весьма серьезно различаться.
Мстили за рухнувшие идеалы, за крах монархии, например. А.А. Вонсяцкий прямо указывал, что поехал к генералу Алексееву на Дон с желанием «беспощадного мщения» и «ярким пламенем любви к царю и Родине»107. В другой
Статьи
статье он писал: «Я вспомнил тех мальчиков. Ведь они – Поповы, Ханженковы, Певцовы умирали там, в степях, только за них – Романовых... И каждый раз, когда из "нагана" я разбивал череп красноармейца, я думал одно: я мщу этому проклятому рабу за то, что он поднял руку на своего господина...»108
Таких «идейных мстителей» было, впрочем, не столь много. Куда чаще мстили за «разоренные имения», «родовые гнезда». По признанию участника белого движения Дмитрия Мейснера, в белой армии «...было очень много чисто классовых и сословных врагов Октябрьской революции. Людей, не примирившихся с потерей своего имущества; людей, вставших на его защиту и вступивших в смертный бой за это свое добро»109. О «сворах помещиков», вслед за добровольческой администрацией «спешивших с сердцами, полными мести, в свои разоренные имения», писал в своих воспоминаниях и А.Г. Шкуро110.
Мстили за погибших товарищей, что особенно было присуще кадровой военной среде. Как писал в своем дневнике по поводу факта убийства группы офицеров крестьянами М.Г. Дроздовский, «расправа должна быть беспощадной: "два ока за око"! Пусть знают цену офицерской крови!»111
Мстили за крах карьеры, которая для многих, как для юнкера В.П. Кащеева, имела принципиальное значение. Происходил он из многодетной и не богатой семьи. А потому «торопился выйти в офицеры, чтобы помогать труженику-отцу». «Выходу в офицеры» помешала, однако, революция и приход к власти большевиков…112
Но самый, пожалуй, распространенный мотив мести указал Б.Б. Филимонов: «Вместе с тем ряды противобольшевистских отрядов пополнялись также и теми, кто, не задаваясь высокими идеями, попросту возненавидел советскую власть, пострадав от произвола местных представителей этой власти»113. Вот кадетик, ушедший в Ледяной поход с Добровольческой армией. «Он плакал, рассказывая, как убили его отца генерала и старшего брата на его глазах»114. Вот другой кадетик, вступивший в Добровольческую армию уже в 1919 г. Он поехал узнать причину ареста своего дяди и был подвергнут порке шомполами115. А в воспоминаниях Б.А. Штейфона мы встречаемся с «молодой, худенькой, скромно одетой барышней», которая пришла
Статьи
проситься в его часть: «Пришел какой-то большевистский полк, все в доме разграбил, испортил. Дедушку куда-то увезли. Что с ним сделали, я не знаю. Искали и меня, но я убежала… Я ненавижу большевиков и пришла просить вас принять меня в полк»116.
Сегодня много известно о расправах с офицерами, что порождало озлобление и жажду мести. Расправы не обязательно могли быть физическими. Ротмистр Л.П. Сукачев вспоминал как в октябре 1917 г. решением армейского комитета его отрешили от командной должности и назначили на место кашевара. А его дядю, генерала Резникова, солдаты сделали рядовым гусаром. Вот откуда их стремление на Дон в Добровольческую армию и непонимание «равнодушия к начавшейся борьбе с коммунизмом» у других офицеров117.
И все же ситуация с подобными фактами не выглядит столь примитивно, как нередко пытаются сегодня представить – «разнузданная чернь». Вернемся к семье Нефедовых, о которой уже шла речь ранее. Помните мостовщика Геньку-безносого? Тогда была приведена лишь часть его монолога, касающегося двух выживших братьев Нефедовых – Алексея и Александра. Теперь приведем продолжение. «Жалко, немцы Володьку и Ваньку твоих ухлопали, а то у мине и до них разговор припасен. Помнишь, – обращался он к отцу офицеров, – как Володька с казаками нас нагайками крестили, кады мы Парамонова ссыпки громили и тарный склад зажгли, не один и доси косой ходить, а Ванька твой шкет кадетский тогда, поди, заливался смехом на мосту с Веркой, весело им было на брательника глядеть, я б ему показал ето весело»118.
На солдатскую массу давил социальный разрыв, культивировавшийся в царской армии между офицером и солдатом. Брат известного революционера-террориста и активного участника антибольшевистской борьбы Бориса Савинкова В.В. Савинков вспоминал о своем производстве в офицеры и о нормах взаимоотношений между офицером и солдатом, которые им изложил по прибытии их группы в декабре 1916 г. по месту службы «временно замещавший командира бригады полковник Ж.»: «Сущность его поучений сводилась к тому, что офицер должен смотреть на солдата с олимпийской высоты, как на существо совершенно отличной от него породы. В этом, по словам "наставника", заключалось "поддержание авторитета и высокого достоинства русского офицера"»119. Отсюда
Статьи
факты «грубости, ругни, иногда самодурства и заушения», что признавал А.И. Деникин120. Даже императрица Александра Федоровна писала Николаю II, что «наши офицеры не все джентльмены, так что их способ объясняться с солдатами, вероятно, часто "с помощью кулака"»121.
«Геньки» не могли простить расправ в ходе подавления их революционных выступлений, когда они добивались элементарных прав и обеспечения минимально достойного уровня жизни. Солдаты вспоминали «олимпийскую высоту», с которой на них смотрели, и способ объясняться «с помощью кулака». Офицеры же не понимали: ведь они лишь выполняли приказы, следовали Уставу, соблюдали верность присяге. Здесь и коренилась взаимная ненависть, порождавшая месть. И месть эта не только являлась одним из ведущих мотивов участия в Гражданской войне и белых и красных, но и фактором ее эскалации, затяжного и ожесточенного характера.
«Но была и корысть»
«Да, месть чувство страшное, аморальное, но понятное, по крайней мере. Но была и корысть. Корысть же – только гнусность», – писал о белых А.И. Деникин122. А прошедший сибирскую эпопею генерал А.Т. Антонович пометил в дневнике 11 февраля 1920 г.: «Произвол, борьба за личное благополучие – вот импульсы тех, кто взялся за строительство Земли Русской…»123
В мемуарах сохранилось огромное количество свидетельств разложения белого тыла. Наиболее прославились взятками, вымогательствами, грабежами населения деятели контрразведки. На Юге, по свидетельству самого генерала Деникина, выделялись в этом плане контрразведки Киева, Харькова, Ростова-на-Дону, Одессы124. Очевидец описывал одесские реальности: «Ходить вечером по улицам сделалось невозможным, так как вы рисковали быть ограбленными и даже убитыми. Грабили в большинстве случаев военные и часто офицеры, "запасавшиеся копейкой на черный день". Всевозможные разведки и контрразведки неиствовали, открыто занимались вымогательством и грабежами, причем жертвой обыкновенно становились богатые люди, а особенно евреи»125.
Статьи
Фронтовики возмущались, что в тылу «бессовестные люди преследовали свои своекорыстные цели за спиной геройских полков»126. Но сами были при этом не прочь заняться «коммерцией». К.Н. Соколов вспоминал: «В тылу, кто мог, поправлял свои дела подсобными, более или менее "безгрешными" доходами. На фронте делать это было еще проще. "Реалдоб" вошел в нравы наших войск еще в то время, когда "реализация военной добычи" была главным, если не единственным, источником средств Добровольческой армии. Рядом с "реалдобом", закономерным и даже подотчетным, укоренился групповой или индивидуальный "реалдоб", который представлял собою ни что иное, как самый откровенный грабеж. При случае, можно было "реквизнуть" те или иные соблазнительные вещи, и "бесплатные реквизиции" тоже стали в армии "бытовым явлением"»127. На фронте Колчака очевидцы отмечали падение наступательного порыва войск, после того как правительство адмирала аннулировало «керенки». «Оказывается, что в случаях, когда представлялась возможность пограбить комиссарскую казну, которая обычно была полна денежными знаками Керенского, то это очень подзадоривало наиболее рьяных из разведчиков передовых частей войск и они становились более активными в стремлении достигнуть своей "цели". Этим порывом увлекались другие части, и войска быстрее продвигались вперед»128.
Бесспорно, многие приобщились к наживе уже непосредственно в белом движении. Но немало имелось и тех, для кого именно нажива явилась решающим аргументом примкнуть к белым. Наблюдавший рождение Добровольческой армии Б.А. Суворин писал: «У такого предприятия (создание Добровольческой армии. – А.К. ) не могло не быть и обратной стороны медали и она заключалась в том, что вокруг этого святого дела стали слетаться люди, жаждущие авантюры»129. О «темных личностях», которые «вертелись вокруг генерала Алексеева и генерала Корнилова», упомянул и Н.Н. Львов. Черту он подвел вполне определенно: «Шкурный инстинкт говорил всего сильнее в людях»130.
В рядовом составе плавали рыбешки помельче, которые в отличие от «акул» не стремились соблюдать «внешние приличия». Д.Ф. Пронин упоминает целую группу подобных деятелей в рядах дроздовцев, отмечая, что они «увязались еще из
Статьи
Румынии»131. Лица, движимые «стремлением как-нибудь поживиться, получше устроиться, что-то захватить для себя», наблюдались и в Добровольческой армии еще в ходе Ледяного похода132.
Таким образом, мемуары и дневники отразили широкий и достаточно разноречивый спектр мотивов и причин, толкнувших людей в белое движение. В реальной жизни все эти мотивы и причины обычно тесно переплетались между собой. Взять хотя бы упомянутого ранее гимназического товарища Н.Н. Львова, который стал участником белой борьбы из-за разочарования жизнью. Совершенно очевидно, что помимо стремления, что «какая-нибудь маленькая пуля с тобой покончит», он был движим и чем-то иным. Ведь пошел он именно к белым и пошел в надежде, что «здесь все-таки для чего-то отдаешь жизнь».
При этом анализ позволяет признать, что идейно-патриотические начала вовсе не играли той определяющей роли, которую им нередко отводят. Чаще всего основания были более приземленными, а резоны менее значимыми: разрушение привычных устоев жизни, бытовые неурядицы, влияние социальной и окружающей среды... Многие оказывались в рядах белых по «воле случая». Значительную долю составляли принудительно мобилизованные. Приходится констатировать и тех, для кого «любовь к Родине» и «интересы народа» служили лишь прикрытием для далеко не всегда благородных устремлений, таких как месть или корыстные побуждения.
Что их всех объединяло? Ненависть к большевизму! Ненависть, которая питалась, однако, самыми разнообразными интересами…
Список литературы Почему я стал белым… (по материалам белогвардейских дневников и мемуаров)
- Войнов В.М. Офицерский корпус белых армий на востоке страны (1918-1920 гг.)//Отечественная история. 1994. № 6. С. 51-64.
- Волков С.В. Трагедия русского офицерства. М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2001. 508 с.
- Кулаков В.В. Белое движение Юга России//Вестник Адыгейского государственного университета. 2005. № 3. С. 56-58.
- Свитова К. «Эта каста должна быть разрушена!»: отношение большевиков к интеллигенции//Гражданская война как феномен мировой истории. Материалы научной конференции 26 апреля 2008 г. Екатеринбург, 2008. С. 110-116.
- Советская историческая энциклопедия/глав. ред. Е.М. Жуков. М.: «Советская энциклопедия», 1962. Т. 2. 1023 с.
- Шувалов А.А. Причины выбора представителями русского офицерского корпуса противоборствующей стороны в конце 1917 -начале 1918 г.//Вестник Брянского государственного университета. История. Литературоведение. Право. Языкознание. 2012. № 2 (2). С. 103-105.
- Щербаков А. Гражданская война. Генеральная репетиция демократии. М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2011. 640 с.