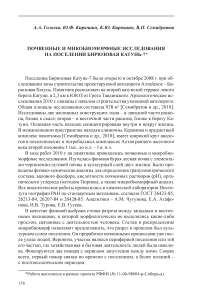Почвенные и мокобиоморфные исследования на поселении Бирюзовая Катунь-7
Автор: Гольева А.А., Кирюшин Ю.Ф., Кирюшин К.Ю., Семибратов В.П.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья
Статья в выпуске: XVII, 2011 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521739
IDR: 14521739
Текст статьи Почвенные и мокобиоморфные исследования на поселении Бирюзовая Катунь-7
Поселение Бирюзовая Катунь-7 было открыто в октябре 2008 г. при обследовании зоны строительства проектируемой автодороги Алтайское - Бирюзовая Катунь. Памятник расположен на второй катунской террасе левого берега Катуни, в 2,3 км к ЮЮЗ от Грота Тавдинского. Археологические исследования 2010 г. связаны с началом строительства указанной автодороги. Общая площадь исследования составила 928 м2 [Семибратов и др., 2010]. Исследованы две жилищных конструкции: одна - в западной части раскопа, ближе к скале; вторая - в восточной части раскопа, ближе к берегу Катуни. Основная часть находок сконцентрирована внутри и вокруг жилищ. В межжилищном пространстве находки единичны. Керамика и предметный комплекс памятника [Семибратов и др., 2010], имеет широкий круг аналогов в поселенческих и погребальных комплексах Алтая раннего железного века второй половины I тыс. до н.э. – I в. н.э.
В ходе работ 2010 г. на памятнике проводились почвенные и микробио-морфные исследования. Изучалась фоновая бурая лесная почва с элементами черноземно-луговой почвы и культурный слой двух жилищ. Были проведены физико-химические анализы для определения гранулометрического состава, валового фосфора, кислотности почвенных растворов (рН), органического углерода (методом Тюрина), а также микробиоморфный анализ. Все аналитические работы проводились в химической лаборатории Института географии РАН по стандартным методикам, согласно ГОСТ 26423-85, 26213-84, 26207-84 и 26428-85. Аналитики - А.М. Чугунова, Е.А. Агафонова, И.В. Турова, Е.В. Гусева.
В качестве фоновой выбрана стенка разреза между западным и восточными жилищами, в которой морфологически не выделялись какие-либо прослои, связанные с деятельностью человека. Состав и распределение микробиоморф позволяют предположить, что разрез в прошлом был культурным слоем поселения. Он проработан почвенными процессами уже после ухода людей. Вероятно, участок являлся периферией поселения или той его частью, где хозяйственная и бытовая деятельность людей была невелика. Фиксируются два пожара с периодом запустения между ними. Скорее всего, первый пожар связан по времени с поселением, а более поздний – с постпоселенческим периодом.
Следующая серия анализов была взята из западного жилища. Первые стадии освоения участка по составу микробиоморфной фракции определяются как нарушенный почвенный покров и появление фитолитов тростника, что возможно, связано с началом хозяйственной и бытовой активности. Наличие каких-либо прослоев, перекрытий, подстилок и т.п., связанных с жилищем, на ранних этапах формирования культурного слоя не прослеживается. Вероятно, здесь на первых порах была просто стоянка, а жилище появилось несколько позже.
Слой 60–65 см – это подстилка или перекрытие из дерева. Основная особенность слоя – растительная масса не горела, а разлагалась естественным путем. На древесине были травы, которые тоже не горели. Возможно, слой 50–55 см – разложившийся кирпич-сырец, поскольку кроме аморфной органики в нем мало других частиц. Перекрытие или новый пол (слой 40–50 см), сделанный из древесины (вероятно, включая ветви хвойных) и трав, сгорел. В этом основное отличие данного слоя от предыдущего, где нет признаков пожара.
После пожара участок восстановился, но, скорее всего, стал выглядеть иначе. Если в нижней части культурного слоя нет пыльцевых зерен, то в верхней они регулярно присутствуют во всех образцах. Это позволяет предположить, что ранее жилище было закрытого типа, и пыльца не попадала в слои. После пожара строение стало открытым, что позволило пыльцевым зернам осаждаться в толще формирующихся слоев. Далее фиксируется длительный этап роста почвы вверх за счет привноса мелкозема и постепенного погребения верхних горизонтов. Есть признаки одного или нескольких пожаров уже в период лесной стадии развития, но леса всегда восстанавливались.
Следующая серия анализов взята из восточного жилища. Контуры жилищного пятна хорошо фиксировались на фоне светлой супеси. Заполнение котлована четко выделялось в разрезе. Нижняя граница жилищной котловины совпадает с границей суглинистой и подстилающей песчаной толщ. В данном случае нет никаких исходных природных почвенных горизонтов, поскольку люди для жилища полностью проработали исходную почву, поэтому невозможно реконструировать природную среду. Можно предположить, что жилище было открытого типа, животная органика не использовалась, только растительная. Состав и распределение детрита и фитолитов заполнения жилища позволяют считать, что для стен использовался кирпич-сырец. А перекрытия делались из древесины, возможно, переслоенной мхом, тростником или травами.
Обилие древесного детрита в слое 60–70 см, при резком его уменьшении выше и ниже, позволяют предположить, что жилище перестраивалось. На начальном этапе (слои 70–90 см) дерево в больших количествах не использовалось. Этот слой, скорее всего, отражает период перестройки, может, более капитальной постройки уже с использованием древесины. Возможно, это был пол нового жилища. В этом случае слой 50–60 см – заполнение жилища, а слой 40–50см – его перекрытие из дерева.
Заключительный этап функционирования жилища связан с сильным пожаром. Жилище более не восстанавливалось. Начались процессы почвообразования, вырос лес. Когда участок зарос хвойным лесом, был сильный пожар. Потом все восстановилось. На современном этапе идет формирование бурой лесной гумусированной почвы. Общий макроморфологический облик изученных профилей и характер распределения органического углерода показывают, что за годы, прошедшие после забрасывания поселения, процессами почвообразования были полностью уничтожены культурные слои. На сегодняшний день вся толща является типичной бурой лесной олу-говелой почвой, сформированной на двучлене. Верхняя часть двучлена, где собственно и было поселение, – суглинистая толща, переотложенный тонкопылеватый материал делювиального генезиса. Подстилающий его крупнопылеватый песок, переходящий вверху в супесь, имеет аллювиальный генезис и связан с формированием речной долины. Периоды функционирования поселения и последующего почвообразования не сопровождались значимыми аллювиальными наносами, поскольку в толще культурного слоя и почв нет прослоев песчаного материала. Поселение не затапливалось в периоды половодья Катуни.
Состав микробиоморфной фракции образцов почв имеет ровный характер в верхней части, что не характерно для автоморфных почв. Данное распределение встречается в почвах синлитогенного генезиса, где постоянно происходит привнос сверху мелкозема в виде пыли. Мощность привносимого материала меньше интенсивности почвообразования. Таким образом происходит постепенный рост почвы вверх, нарастание мощности гумусированной толщи. Этот тип почвообразования типичен для прислоненных долин, что и наблюдается на участке поселения. Иными словами, за счет близости возвышенных участков идет постоянный привнос ветрами и склоновыми водами пылеватого материала, который прорабатывается корнями и включается в состав гумусового горизонта почвы. Так была сформирована вся верхняя (60–70 см) суглинистая толща.
На основании различий в кислотности-щелочности почвенных растворов двух жилищных котлованов можно предположить, что для строительства жилищ использовались различные материалы. При создании западного жилища какой-либо подщелачивающий строительный материал (например, известняк) не применялся, а при строительстве пола в восточном жилище использовался. Это может быть связано как с разным назначением жилищ, так и разновременностью их создания.
Среди исследованных объектов несколько выделяется участок раскопа в восточном жилище. Только в нем есть характерный для культурного слоя тренд накопления фосфора. Выделяется самый нижний образец из колонки культурного слоя. Все это, в совокупности с данными микробиоморф-ного анализа и щелочными значениями рН, позволяет предположить, что на полу была какая-то подстилка из трав. В западном жилище признаков подобной подстилки нет. Но наличие во всех образцах колонки накопле- ния культурного ровного количества пыльцевых зерен позволяет предположить, что жилище было открытого типа, возможно, в виде навеса или с широкими дверными проемами. Необходимо отметить, что во всех современных спорово-пыльцевых спектрах присутствуют зерна сосны (это естественно в современном ландшафте), но ни в одном образце культурного слоя таких зерен нет. Пыльца хвойных имеет хорошую сохранность и большую летучесть. Отсутствие ее в образцах может указывать на безлесный характер ландшафтов периода функционирования поселения. Значительные объемы древесного детрита в ряде образцов культурного слоя говорят о масштабных вырубках в регионе. Обживание территории сопровождалось значительной перестройкой ландшафта. Результаты химических анализов, включая величины валового фосфора, не указывают на длительный и интенсивный характер обживания территории. Поскольку картины содержания и распределения фосфора на всех трех участках сходны, можно говорить о том, что малые величины фосфора не случайны. Вероятно, люди жили здесь недолго или сезонно, т.е. участок использовался в каких-то целях, не связанных с постоянным проживанием.
Во всех трех разрезах есть признаки неоднократных (минимум двух) пожаров с некоторым интервалом. При этом следы раннего пожара связаны с заключительными стадиями функционирования поселения. Не исключено, что оба явления – пожар и последующее запустение – взаимосвязаны. Более поздний пожар (пожары?), скорее всего, имел место спустя длительный промежуток времени, горел выросший на участке лес, т.е. это была природная, а не природно-антропогенная катастрофа.