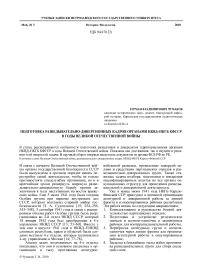Подготовка разведывательно-диверсионных кадров органами НКВД-НКГБ КФССР в годы Великой Отечественной войны
Автор: Чумаков Герман Владимирович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История. Филология
Статья в выпуске: 3 (108), 2010 года.
Бесплатный доступ
Великая отечественная война, разведывательно-диверсионные кадры, нквд-нкгб карело-финской сср
Короткий адрес: https://sciup.org/14749702
IDR: 14749702
Текст статьи Подготовка разведывательно-диверсионных кадров органами НКВД-НКГБ КФССР в годы Великой Отечественной войны
В связи с началом Великой Отечественной войны органы государственной безопасности СССР были вынуждены в срочном порядке начать перестройку своей деятельности, чтобы не только противостоять спецслужбам противника, но и в кратчайшие сроки развернуть широкую разведывательно-диверсионную борьбу против захватчиков в тылу наступавших на восток вражеских войск. Еще 5 июля 1941 года была создана Особая группа при наркоме внутренних дел СССР, которую возглавил старший майор госбезопасности П. А. Судоплатов [15; 254–256, 343–348]. 3 сентября 1941 года в связи с расширением объема работ Особая группа была реорганизована во 2-й отдел НКВД СССР, который 18 января 1942 года был преобразован в 4-е управление НКВД СССР [13; 53–60]. Вместе с тем еще в августе 1941 года в НКВД–УНКВД союзных республик, краев и областей были созданы местные 4-е отделы, которые подчинялись 4-му управлению в Москве [14; 77–78].
Анализ задач, возложенных на 4-е отделы, показывает, что они в основном сводились к организации в тылу противника агентурно- войсковой разведки, проведению диверсий силами и средствами партизанских отрядов и разведывательно-диверсионных групп. Также ставилась задача подбора, подготовки и внедрения квалифицированных агентов во все органы оккупационных структур для проведения разведывательной и диверсионной деятельности.
Уже в конце июня 1941 года НКГБ КарелоФинской ССР приступил к активной организации агентурной и диверсионной работы за линией фронта и в оккупированных районах республики. Эта работа велась по следующим направлениям:
Еще 23 июня начальникам Выборгского, Сортавальского, Яскинского, Суоярвского, Ре-больского, Калевальского, Кестеньгского, а 27 июня – Кексгольмского и Ухтинского районных отделов НКГБ были даны указания об оставлении агентуры для разведывательной и диверсионной работы на территории, захваченной войсками противника. Всего при отходе частей Красной армии в оккупированных районах (в том числе и в Петрозаводске) был оставлен 61 агент [10; 122]. Но, как показали дальнейшие события (быстрое наступление противника, эвакуационные мероприятия, недостатки в подготовке агентуры и отработке способов связи с ней, предательство отдельных агентов, переселенческие мероприятия оккупационных властей), свою деятельность эта агентура практически прекратила и существенной роли в разведывательной работе не сыграла.
Организатором разведывательно-диверсионной работы органов государственной безопасности Карелии в тылу врага в первые месяцы войны стал нарком госбезопасности (с июля 1941 года – нарком внутренних дел республики) Михаил Иванович Баскаков. Подготовкой разведгрупп и их переправкой в тыл занимались Виктор Петрович Пышкин, Александр Андреевич Волов, Алексей Степанович Ведешкин, Дмитрий Сергеевич Медников [12; 178].
Уже первый опыт проведения боевых операций в тылу противника показал настоятельную необходимость более тщательной подготовки разведчиков и диверсантов. Разведывательнодиверсионная борьба потребовала высокого профессионального уровня, политической зрелости и высокой нравственности всех сотрудников НКВД. Контрразведчики Финляндии имели серьезную подготовку и высокую квалификацию, проходили специальное обучение, и скрыться от них было сложно. На первый план выдвигалась задача вооружить всех, кто привлекался к служебной и боевой деятельности, знанием необходимой документации, нормативно-правовой базы, умением ориентироваться в незнакомой местности и т. д. Важность этой работы была обусловлена тем, что чекисты-разведчики действовали не только в прифронтовой полосе, но и в более глубоком тылу (до 100 км). Противостоять контрразведчикам Финляндии было достаточно трудно. Это были люди, получившую подготовку или прошедшие длительное специальное обучение в школах абвера и имевшие высокую квалификацию.
Решение этой задачи осложнялось тем, что в личном составе войск и органов НКВД в первые недели войны произошли серьезные изменения в возрастном и профессиональном составе. Кадровый личный состав уже в первые месяцы войны значительно обновился. Те, кто составляли его основу в довоенное время, ушли в действующую армию, в партизанские отряды, погибли в боях, прикрывая отходы Красной армии. Только Олонецкий пограничный отряд Карельского фронта с 19 июля по декабрь 1941 года потерял 254 убитыми и 475 ранеными бойцов и командиров, или более половины своего состава. Оставшийся личный состав был распределен по вновь созданным структурам: оперативной и войсковой разведки, особых отделов и военных трибуналов, отрядов особого назначения для действия в тылу врага и т. д. [9; 226]. Поскольку на разведчиков и диверсантов были возложены задачи исключительной важности, было необходимо в первую очередь провести обучение чекистских кадров.
Одной из серьезных проблем для граждан, проявивших желание участвовать в походах в тыл противника, являлось то, что в большинстве своем они не имели боевого опыта. Следовательно, наряду с боевой требовалась и серьезная морально-психологическая подготовка, связанная с воспитанием смелости, мужества, инициативы и выдержки.
С этой целью уже в начале июля 1941 года в НКГБ (далее НКВД) КФССР была организована специальная (особая) диверсионная школа. Совнарком республики 8 июля утвердил подготовленную разведотделом (РО) «Ориентировочную смету расходов по подготовке лиц специального назначения», в которой указывалось, что курсы рассчитаны на 7 дней (по 40-часовой программе), количество курсантов – 27 человек, преподавателей – 2 человека [11; 279]. В дальнейшем численность курсантов росла. Общее руководство школой было возложено на начальника 4-го отдела НКВД КФССР комбрига С. Я. Вершинина.
Учеба в школе велась как по военной, так и по специальной подготовке. Большое внимание уделялось подбору и обучению командиров разведывательно-диверсионных групп. Очень важно, что некоторые бойцы спецшколы были по национальности карелами, вепсами, финнами и хорошо владели финским языком.
15 октября 1941 года наркомом внутренних дел КФССР майором госбезопасности Баскаковым и начальником 4-го отдела НКВД комбригом Вершининым был подписан «Временный организационный расчет школы Особого назначения НКВД КФССР». В этом документе говорилось, что в школе утверждаются следующие должности и устанавливается следующий порядок: 1 начальник школы, 1 политрук, 1 старшина, 3 человека обслуживающего персонала, 4 начальника отрядов, 12 начальников групп, 132 курсанта, всего 154 человека. В школе было 4 отряда. В каждом отряде – 3 группы, всего 12 групп. Численность отряда вместе с начальником составляла 37 человек. Численность группы вместе с начальником группы – 12 человек [3; 12]. Школа имела две грузовые машины «ГАЗ» 1,5 т и «ЗИС» 3 т, катер с мотором «ГАЗ» и моторную лодку с мотором «ГАЗ» [3; 30].
В тот же день, 15 октября 1941 года, приказом № 184 нарком внутренних дел КФССР назначил начальником школы В. М. Федорова, политруком школы (по совместительству) – старшего оперуполномоченного, сержанта госбезопасности В. В. Голубева, старшиной школы – М. Булганина. В этом же приказе говорилось о том, что с 16 октября 1941 года вводятся ежедневные военные и специальные занятия по программе со всем свободным от оперативных заданий личным составом. Баскаков обязывает начальника 4-го отдела НКВД комбрига Вершинина лично руководить работой школы и систематически проверять военную и специальную подготовку бойцов [3; 11].
Обучение в школе проводилось с 10 до 22 часов по специальной программе, включавшей в себя изучение устава пехоты, боевого оружия, подрывного дела, топографии, самбо, основ медпомощи, организации разведки, основ партизанской тактики, методов работы финской контрразведки.
Большое внимание уделялось политической подготовке слушателей. За основу брались публикации в газетах. Приглашали для выступлений лекторов партийных органов. Политработники доводили до всех военнослужащих требования правительства о необходимости всемерного повышения бдительности [9; 234].
Подготовка по парашютному делу (теория и прыжки) осуществлялась с выездом в г. Онегу Архангельской области, при этом часть бойцов из-за страха поначалу отказывались прыгать с самолета. Радистов в первое время готовили на полугодовых курсах в Москве, но уже в 1942 году 8 девушек-радисток окончили курсы, организованные при 4-м отделе НКВД КФССР. В 1943 году было подготовлено 10 радистов, а в 1944-м – еще 13 [8; 12].
К концу 1941 года подготовку в школе закончили 196 человек, из которых было сформировано 15 диверсионных групп. Одновременно, помимо спецшколы, в районных отделах НКВД республики было скомплектовано еще 58 групп общей численностью 399 человек [11; 279].
В октябре 1941 года после организации 4-го отдела все диверсионные кадры, за исключением находившихся в ведении РО, были сведены в спе-цотряд школы особого назначения НКВД. Отряд имел свой номер и дислоцировался до конца войны в с. Шижня Беломорского района. Бойцов в спецотряд на добровольной основе отбирали районные отделы НКВД, преимущественно из числа молодежи. Особым распоряжением СНК КФССР эти лица считались «временно призванными для выполнения особых заданий, связанных с обороной страны». За ними даже официально сохранялись занимаемые должности и зарплаты. Помимо жителей Карелии в спецотряд набирались и жители соседних регионов – Архангельской и Вологодской областей, Коми АССР. К ноябрю 1942 года численность спецотряда составляла 87 человек. Однако на протяжении войны состав этого подразделения постоянно менялся. Например, только с мая по ноябрь 1942 года по различным причинам из отряда выбыли 77 человек [10; 123–124].
На начальном этапе войны 4-й отдел НКВД КФССР и подчиненная ему спецшкола были нацелены преимущественно на подготовку диверсионных кадров. Но уже к середине 1942 года перед ними ставятся задачи активизации и расширения агентурно-разведывательной деятельности в тылу противника.
Еще в марте 1942 года спецшкола особого назначения НКВД КФССР была реорганизована. Наиболее подготовленные бойцы были оставлены в составе спецотряда НКВД, предназначенного в первую очередь для обеспечения рейдов разведгрупп через линию фронта. Остальные бойцы были переведены в партизанские отряды.
Подготовка же разведгрупп стала проводиться индивидуально по специальным планам, утверждавшимся, как правило, в центральном аппарате НКВД–НКГБ СССР. За месяц до выхода на задание отобранные в группу разведчики переводились в прифронтовые населенные пункты (Сегежа, Руйга, Летний) на конспиративные квартиры, где под руководством оперативных работников проходили совместную подготовку. Отрабатывались задание и легенда каждого разведчика на случай захвата противником. Изготавливались необходимые документы на вымышленные фамилии. Изучалась обстановка в районе действия (маршруты движения, схемы расположения домов, списки жителей, рекомендательные письма, пароли для связи). Совершались тренировочные походы и сеансы радиосвязи [8; 16].
В связи с проведением массовой заброски разведгрупп в тыл противника в 1942 году появилась необходимость организовать подготовку разведчиков-радистов. В конце 1942 года нарком внутренних дел республики поручил создать школу разведчиков-радистов, в которую решили привлечь девушек-комсомолок. В декабре 1942 года школа начала работу. Первыми в ее состав вошли Ольга Захарова из деревни Колвасозеро, учительница Евдокия Сергеева из деревни Миккелицы Пряжинского района и другие. Опыта подготовки радистов никто не имел. Преподавать стал А. Н. Анисимов, который незадолго до войны закончил радиотехническое отделение Ленинградского морского техникума. Много времени уделялось практике работы с рацией. Занятия проводились не только в классе, но и на местности. Через некоторое время будущие радистки уже могли свободно принимать и передавать, расшифровывать и зашифровывать радиограммы с пятизначным цифровым текстом. Одновременно велась их подготовка как разведчиков [12; 184–186].
В подготовке разведчиков и диверсантов активно участвовали сотрудники 4-го отдела НКВД КФССР. Так, старший оперуполномоченный А. И. Батраков лично проводил подбор и подготовку агентуры для переправы в Кондопожский, Медвежьегорский и Заонежские районы с целью внедрения ее в разведывательные органы противника; старший оперуполномоченный В. Н. Кожин проводил подготовку агентуры по шифровальной работе. Система обучения строилась на принципе личного показа и повторения действий обучаемым. Подготовка была приближена к реальной боевой обстановке. Половина учебных занятий проходила в ночные часы. За короткий срок обучения курсанты должны были освоить топографию, спецподготовку, политическую, огневую, физическую и санитарную подготовку, инженерное дело. Также учились маскировке, переправляться через озеро с помощью плащ-палатки и охапки сухого мха, стрелять из винтовок, автоматов и пистолетов разных систем, приемам рукопашного боя. Важное место занимала лыжная подготовка. Организовывались тренировочные походы в лес длительностью 5 суток с целью физического укрепления бойцов и приобретения навыков хождения с компасом и картой, маскировки своих следов, умения вести разведку и уходить от преследования. Проводились лыжные соревнования бойцов. Изучали работу со снегоступами, учились, как правильно зимой разжечь костер, как уберечься от обморожения, оказать первую помощь при обморожении. Обучали подрывному делу (10 часов): способам взрывания, подрывным средствам (взрыватели с часовыми механизмами и английские магниты), использованию взрывчатой техники в тылу противника с помощью местного населения [5; 43–44об.].
Проводились и тактические занятия. По рапорту начальнику 4-го отдела НКГБ КФССР подполковнику госбезопасности В. И. Райман-никову можно представить особенности таких практических занятий: 12 января 1944 года в 8 утра отряд в количестве 19 человек вышел с места расположения отряда в п. Шижня в район Шуеварака Тунгудского района по маршруту Беломорск – Сосновец – Шуеварака. Отряд находился в зоне, где было возможно нападение противника, поэтому были выделены главный дозор и тыловое охранение. В Шуевараку прибыли в 19 часов. За время тактических занятий с 12 по 16 января 1944 года были отработаны следующие вопросы: связь разведывательных групп через тайник, организация засад и захват разведывательных групп противника; разгром гарнизона, подход и разведка гарнизона, захват языка; переход контрольной лыжни противника и запутывание следов; меры охранения на марше и привале; хождение по азимуту с использованием компаса и карты. Во время занятий личный со -став группы действовал быстро и умело. Занятия проходили живо и интересно [5; 39–39об.].
Осуществлялась и подготовка к парашютному делу (теория и прыжки). Совершались выезды в г. Онегу Архангельской области. Часть бойцов из страха отказывались прыгать. Нередко происходили и несчастные случаи в связи с тем, что парашют не раскрывался. Об этом, например, свидетельствует акт от 15 июля 1942 года, в котором содержатся сведения о смерти Д. М. Быкова при ознакомительном прыжке с парашютом [5; 36].
Велась ежедневная тренировка по радиосвязи, так как наличие устойчивой системы связи было необходимым условием успешной организации разведывательных операций, в ходе которых обеспечивалась быстрая и полная доставка полученной и обработанной информации. Но если проанализировать отчеты различных разведывательно-диверсионных групп, то можно заметить, что радиосвязь могла и не сработать в самый ответственный момент. Так, когда группа «Эфир» находилась на выполнении задания 23 мая 1943 года в Заонежском районе, связь оборвалась из-за отсутствия питания рации [6; 7]. Группа «Кама» находилась в Ведлозерском районе, связь оборвалась, и восстановить ее не удалось. Дальнейшая судьба группы неизвестна.
Изучению боевого оружия уделялось 18 часов: основные правила обращения с оружием, как метко поразить врага лопатой, окапываться и использовать местные предметы [5; 102].
В ноябре 1942 года на совещании оперативных работников 4-го отдела НКВД КФССР начальник 1-го отделения 4-го отдела младший лейтенант госбезопасности В. П. Пышкин прочел обстоятельный аналитический доклад на тему «Подготовка разведывательных кадров для работы в тылу противника» [1; 128]. В 1-м разделе – «Причина постановки вопроса» – В. П. Пышкин отмечал, что порученная 4-му отделу НКВД ответственная и важная работа по ведению разведки на временно оккупированной противником территории республики вовлекла часть оперативных работников в новую для них сферу деятельности. Большинству из них ранее не приходилось сталкиваться с разведывательной работой, и они знали о ней только по отрывочным сведениям, приходившим из самых разных источников. Многие из оперативного состава вначале даже не понимали основных принципов разведывательной работы. А некоторые, несмотря на проводившуюся инструктивную работу, допускали ошибки, имевшие роковые последствия для результатов работы и благополучия разведчиков. Это объяснялось главным образом тем, что опыт разведывательной работы не всегда был доступен сотрудникам, поставленным на это направление деятельности.
Также на совещании обсуждалась проблема «О системе в разведывательной работе». Этот вопрос рассматривался потому, что в среде оперативного состава, связанного с агентурноразведывательной работой, обсуждался вопрос о том, может ли быть систематизирована работа по разведке на территории противника. Некоторые сотрудники заявляли, что никакой системы в агентурно-разведывательной работе нет и быть не может, так как это ведет к возникновению трафаретности. Другие, наоборот, работали по трафарету, обучая разведчиков по готовому, хотя и непродуманному, штампу. Эти вопросы занимали тогда умы многих оперработников. Был сделан вывод, что трафаретность в худшем смысле этого слова может привести к провалу разведывательной операции и ненужной трате средств и времени. Однако на стадии подготовки разведчика нужных результатов можно добиться только в случае, если подготовка будет проведена по определенной, заранее разработанной схеме, так как разведчики должны одинаково хорошо знать все элементы трудной и многогранной работы разведчика. При рассмотрении вопроса «Система подготовки разведывательных кадров» отмечалось, что проверка знаний разведчиков на исходном для переброски в тыл противника положении и беседы с оперативными работниками свидетельствуют о том, что подготовка разведывательных кадров в то время (осень 1942 года) велась кустарным и непродуманным способом. Очень часто разведчики были поверхностно подготовлены к выполнению заданий. Поэтому был остро поставлен вопрос о необходимости повышения качества подготовки разведывательных кадров, об организации подготовительной работы по определенной продуманной программе. Указывалось, что в зависимости от времени, индивидуальных качеств объекта подготовки, особенностей задания учеба может проводиться в разных формах и объемах. Но во всех случаях обязательно, чтобы в период подготовки были тщательно проработаны следующие элементы: работа над личными качествами объекта подготовки; основные принципы поведения на территории противника; военнотопографические знания; политико-экономические положения на территории противника; основные методы контрразведывательной работы противника; методы выполнения задания; способ переправы и возвращения; способы связи с агентурой; политическая подготовка; инструктаж по заданию и линии поведения; экипировка и снабжение; работа с агентом по освещению контрразведывательного элемента по месту работы и связям [1; 129].
Подготовка разведчика - это весьма трудоемкий процесс, который требует от оперативного работника рационального использования имеющегося в его распоряжении времени. Из этого следует, что каждая явка (место встречи с будущим разведчиком) в период с момента вербовки до момента выброски должна быть тщательно продумана и подготовлена. Если оперативный работник усвоит, чему он должен научить разведчика, то подготовительная работа будет эффективной. Прекратятся пустые, ничего не дающие встречи, на которых не затрагивается ни одного конкретного и действительно важного вопроса.
Перед разведчиком еще в период подготовки должны ставиться задачи на применение находчивости, наблюдательности, памяти, общительности и т. д. Объект подготовки должен уметь по заданию оперативного работника очень подробно описать любой объект, собрать данные о каком-либо учреждении и т. д. Все это должно делаться так, будто разведчик находится в тылу врага, без посторонней помощи. Это приучит его быть само- стоятельным, пользоваться своими личными данными в интересах выполнения задания, избавит его от излишней скромности и застенчивости.
Например, в период подготовки разведчицы «Ш» было установлено, что она - человек застенчивый. Тогда после нескольких бесед ей было дано задание - собрать подробные данные о пожарной команде населенного пункта, где она проживала. Сначала девушка растерялась и стала просить дать ей совет, как это сделать. Ей было предложено действовать так, как она сама найдет нужным, поскольку она была предупреждена, что пожарная команда является оборонительным объектом. Через три дня будущая разведчица пришла на явку и подробно доложила о численном составе, руководстве и порядках пожарной команды, а также о питании и быте пожарников. На вопрос, как она получила эти данные, девушка сообщила, что после некоторого раздумья пошла в столовую пожарной команды, разговорилась с поваром и, проявив интерес к ее работе, узнала о количестве приготовленных обедов, количестве членов семей, питающихся в столовой, и т. д. Разговорившись с пришедшим в столовую бойцом пожарной команды, она уточнила и дополнила полученные сведения. Следующие учебные практические задания «Ш» смелее принимала к исполнению и хорошо их выполняла. Таким образом, разведчица стала более решительной, общительной, находчивой, научилась практически добывать данные в беседе, быть наблюдательной и запоминать нужную информацию [1; 129об.].
Вопрос о принципах поведения на территории противника часто совершенно выпадал из программ подготовки разведчиков. Оперативный работник ограничивался только напутственным пожеланием: «Иди, только смотри осторожнее, не засыпься». Каким образом действовать осторожнее, как избежать разоблачения, предоставлялось решать самим разведчикам, многие из которых ни разу не ходили в тыл и не имели практического опыта.
Участники ноябрьского совещания 1942 года пришли к выводу, что в период подготовки разведчик должен усвоить определенный порядок своих действий и поступков во вражеском тылу. К важнейшим вопросам, требовавшим особого внимания в процессе обучения разведчика, относились следующие:
-
1. Как и в какой период следует передвигаться по территории противника?
-
2. Как и в какое время нужно подходить к объекту разведки?
-
3. Как вести себя при встрече с местным населением, с представителями военной и территориальной администрации?
-
4. Где и как останавливаться на отдых, на ночлег, как его организовать?
-
5. Как пользоваться пищей, как разводить костры?
Факты из разведывательной практики свидетельствовали о том, что незнание этих правил приводило к трагическим результатам. Нередко разведывательные группы благополучно пересекали линию фронта, а затем должны были скрытно выдвигаться к объектам разведки. Однако они не всегда соблюдали это правило. Выходили днем на дороги и шли открыто. Это приводило к случайным встречам с военными и полицейскими патрулями, заканчивавшимися перестрелками.
Разведывательные группы были вынуждены уходить от преследования. Итог – невыполнение боевого задания.
Например, в начале 1942 года одна из наших разведгрупп преодолела большое расстояние по льду Онежского озера, благополучно прошла систему контрольных лыжниц и вышла к назначенной заданием деревне. У деревни разведчики залегли в засаду. Они видели, что по деревне ходят солдаты противника и местное население. Однако из-за морозной погоды у них не хватило терпения дождаться темноты. Один из разведчиков пошел в деревню днем и был схвачен финнами. Задание было провалено из-за того, что разведчики нарушили данное им указание – входить в деревню после тщательной проверки и подготовки. Если же разведчики действовали правильно и точно выполняли инструкции, то и результаты были гораздо лучше. У хорошо подготовленных агентов в трудную минуту самообладание не пропадает, а наоборот, возникает инициатива, помогающая найти верное решение.
Практика показывала, что без встречи с местными жителями часто было практически невозможно собрать нужные разведывательные данные. Но встреча с населением, если она плохо организована, могла привести к провалу, так как среди местного населения на оккупированной противником территории имелось определенное количество пособников оккупантов. Встретившийся с разведчиками местный житель по возможности не должен был понять, кто находится перед ним. А сам разведчик должен был постараться сойти за местного жителя, а также приучить себя к невозмутимому поведению при встрече с представителями финской администрации или военными. Если разведчик при встрече с этими лицами стушуется или будет вести себя неуравновешенно и нервничать, то обязательно обратит на себя внимание и вызовет проверку документов. Так, одна из разведывательных групп, возвращаясь зимним днем в маскировочных халатах из тыла противника, на подходе к линии охранения на берегу Онежского озера внезапно наскочила на финский пост. Положение было критическим. Тогда командир группы принял смелое решение выдать себя за финских солдат. Разведчики продолжили движение. Финны, видя, что к ним идут люди, не обнаруживающие враждебных выпадов, пропустили их на лед озера [1; 130–130об.].
Все это говорит о том, что при надлежащей тренировке разведчика еще в период подготовки он может приучить себя к тому, что встреча с людьми на территории противника не будет препятствием для выполнения разведывательного задания.
Вопрос организации отдыха и ночлега должен занимать важное место в подготовке разведчика. На практике имели место случаи, когда непродуманный отдых приводил к провалу. Нельзя, например, останавливаться на отдых в районе линии охранения, как правило, хорошо изученной противником. Нужно стремиться оторваться от этого места и уйти вглубь неприятельского тыла. Останавливаться на ночлег в населенных пунктах можно было только у лиц, надежность которых не вызывает сомнений.
Разведчик должен был знать, что, неосторожно употребляя пищу, он дает противнику улики и следы своего пребывания. Поэтому необходимо тщательно уничтожать путем закапывания в землю, утопления или сжигания остатков упаковки еды, так как даже по этим следам противник может получить характеризующие данные о разведчике. Умение разводить костры также имеет существенное значение для операции. Следовало иметь в виду, что в ряде районов, где действовали наши партизаны, противник устанавливал наблюдательные вышки с постами. Их задача состояла в обнаружении зарева или дыма костров. Даже курить на территории противника нужно было осторожно, так как ночью огонь папиросы виден очень далеко [1; 132].
Помимо вышеназванных проблем, требовавших особого внимания в процессе подготовки разведчиков, имелся еще ряд важных вопросов: как переходить дороги и форсировать водные препятствия? как скрывать или запутывать свои следы? как вести себя в зимнее время на контрольной лыжне? как добывать средства питания на территории противника? и другие. Для каждого конкретного случая вырабатывались точные правила поведения в тылу противника. Проработка их с разведчиками помогала не «засыпаться» и постоянно быть начеку.
Оперативный работник должен был научить разведчика обращению с личным оружием, гранатами. А если он давал карту и компас, то должен был объяснить, как ими пользоваться.
Часто разведчику поручалось установить наличие воинских частей и вооружения противника. Но на практике он не всегда мог отличить танкетку от танка, аэросани от автомобиля, пулемет от противотанкового орудия, полевое орудие от зенитного и т. д. Поэтому в период подготовки оперативный работник был обязан преподать разведчику краткие данные о строении армии противника, о знаках отличия и различия, о типах вооружения, имеющегося у противника.
Разведчик должен был также обладать знаниями о политико-экономическом положении на оккупированной противником территории. Оперативные работники были обязаны знакомить разведчиков с системой регистрации населения, документами, являющимися видами на житель- ство, правилами передвижения по населенным пунктам, между населенными пунктами, с контролем на коммуникациях, системой пропусков и их регистрацией. Разведчик должен был иметь представление об основных методах контрразведывательной работы противника.
В период подготовки разведчик должен был получить исчерпывающий инструктаж о способах и методах выполнения своего разведывательного задания. Тем не менее это не всегда учитывалось оперативными работниками.
Большое значение имел вопрос тренировки по наиболее трудным моментам задания. Так, при подготовке в мае 1942 года разведчика Со-жинского большая часть занятий была посвящена специальным вопросам: отработка всех возможных вариантов и деталей его проникновения в стан врага, разработка линии поведения при первом и последующих допросах в финской контрразведке, особенно в ходе возможного склонения его к сотрудничеству. Обращалось внимание на то, что к нему будут подсылать осведомителей и провокаторов. Поэтому надо отвечать обдуманно, не меняя своих показаний. Большое внимание уделялось тренировке зрительной памяти, умению сконцентрировать внимание на характерных приметах человека и запомнить их так, чтобы впоследствии можно было точно их восстановить. Особенно тщательно отрабатывались инициативные действия разведчика по изысканию способа передачи на нашу сторону информации о себе, линия поведения по изучению однокурсников в шпионско-диверсионной школе с целью склонения их в случае выброски на нашу территорию к явке с повинной [16; 183–191].
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что подготовка разведывательнодиверсионных сил в период стабилизации Карельского фронта претерпела серьезные качественные изменения. При подготовке разведчиков оперативные работники стали уделять внимание многим факторам, которых раньше не касались. Усвоив весь материал, преподаваемый оперативными работниками, разведчики могли уже с большей уверенностью идти в тыл врага.
Наиболее сложным видом разведки являлась агентурная, так как приходилось работать на контролируемой противником территории, часто под личиной изменников родины, от которых нередко отворачивались все честные люди. Поэтому большое внимание уделялось конспирации. В инструкции разведчика говорилось: «Вопросы конспирации должны быть в центре внимания, так как от них зависит успех выполнения задания. Вы должны быть осторожны на каждом шагу, но осторожность не должна переходить в трусость, ибо трусость, паникерство несовместимы со званием советского разведчика. Всякая попытка на сделку с врагом является предательством интересов Родины, советского народа и покроет имя труса величайшим позором. Ору- жие применяйте в крайнем случае, защищаясь, или чтобы покончить с собой».
Для усиления конспирации рекомендовалось придерживаться следующих правил: всю сеть агентуры должны знать только лица, допущенные к работе с ней; вербующий должен знать только тех агентов, которых завербовал лично; агенты не должны знать друг друга; личный состав не должен знать задач агента; связь с агентурой осуществляется строго конспиративно; материалы, касающиеся работы с агентурой, хранить в тайне, а при необходимости – сжигать [14; 151].
Разведчик должен быть надежным, поэтому вводился строгий учет агентуры, все данные тщательно проверялись. Перед операцией разрабатывалась легенда агента, она должна была выглядеть правдоподобно для противника, иначе провал был неминуем. Например: Тарасова Людмила Петровна, 1942 года рождения, уроженка деревни Шеломки Заонежского района, из крестьян-бедняков, русская, гражданка СССР, беспартийная, грамотная. Была направлена в тыл противника 28 августа 1942 года с разведывательным заданием из деревни Римское Медвежьегорского района. Задачи: перейти линию фронта и добровольно сдаться в плен. Легенда: бежала с советской стороны к родителям, проживающим по месту рождения. Должна заставить финнов поверить ей, добиться освобождения, получить возможность официально проживать у своих родителей, а затем приступить к сбору сведений о противнике (сбор данных военного характера, финских документов и прессы, выявление изменников и лиц из числа местных жителей, лояльно настроенных по отношению к Советскому Союзу). Разведчица действовала согласно легенде, но финны ей не поверили, так как это было распространенной версией советских разведчиков. Тарасову долго допрашивали (2 недели по 3 часа каждый день) и избивали, поэтому она созналась. Военно-полевой суд приговорил ее к расстрелу. В результате кассации получила пожизненное заключение в тюрьме Киндасвара, где собрала целый ряд сведений. Вернулась с территории противника 23 октября 1944 года. Таким образом, из-за неудачной легенда ход операции был нарушен [7; 41].
На курсах обучались не только мужчины, но и женщины в возрасте от 20 до 40 лет. В 1942 году курсы, организованные при 4-м отделе НКВД, окончили 8 девушек, в 1943-м – 10, в 1944-м – еще 13 [8; 12]. Большинство обучающихся были коммунистами и комсомольцами.
К разведработе привлекались и отдельные заключенные, осужденные за незначительные преступления, а также чекисты, арестованные в годы репрессий и подавшие заявления о направлении на фронт. Через отдел исправительнотрудовых колоний оформлялось освобождение, и они поступали в распоряжение НКВД КФССР.
Возможность использования этого контингента для диверсионной работы в тылу врага в июле 1941 года обосновал в рапорте на имя нар- кома госбезопасности КФССР М. И. Баскакова начальник контрразведывательного отделения НКГБ республики Я. Х. Каган. Он провел личные беседы с заключенными, подавшими заявления, и передал список заключенных ОИТК НКВД КФССР. Лица из списка были судимы первый раз, администрация лагеря не имела к ним замечаний и характеризовала их положительно. Например:
«Домашин Иннокентий Иннокентьевич, 1917 года рождения. До ареста литейщик Онегзавода, осужден за появление на работе в нетрезвом виде к 5 с половиной месяцам заключения. Конец срока заключения – 23 августа 1941 года. В РККА служил с 1937 по 1940 год. Знает в совершенстве винтовку, пулемет и все виды гранат. Командовал отделением. Умеет хорошо ориентироваться в лесу и в поле, пользоваться компасом. Считает свое заключение позорным пятном.
Тимошенко Михаил Трофимович, 1914 года рождения. До ареста работал стрелком ВОХР ББК, служил в РККА с 1936 по 1940 год с небольшим перерывом. Участник боев с финнами в 1939–1940 годах. По специальности – пулеметчик-связист. Метает гранату на рекордное расстояние.
Оскаров Акрам Самилович, 1911 года рождения. Башкир. Работал на Соломенском кирпичном заводе. Осужден на 4 месяца заключения за прогул. Участник боев с финнами в 1939–1940 годах, был в окружении с 18-й дивизией. За проявленную доблесть был представлен к награде, но награды не получил. Имеет специальность – пулеметчик 1-й номер. Был 3 раза ранен в боях».
Заключенные подавали заявление о добровольном вступлении в армию. Во время бесед с лейтенантом госбезопасности Каганом они категорически заявляли, что хотят искупить свою вину и не пожалеют жизни для Родины [4; 38–39].
Таким образом, подготовка разведчиков и диверсантов органами НКВД–НКГБ КФССР к 1943 году стала более продуманной и организованной. Однако результативность разведывательно-диверсионной деятельности, особенно в 1941–1942 годах, оставляла желать лучшего. С одной стороны, это объяснялось установлением финскими военными властями жесткого оккупационного режима на захваченной территории Карелии, поголовного контроля над всем местным населением. С другой стороны – отсутствием необходимого опыта и просчетами в организации обучения разведывательно-диверсионных кадров.
Итоги деятельности спецгрупп и отдельных разведчиков НКВД КФССР были подведены в справке «О деятельности разведывательно-диверсионных групп органов госбезопасности КФССР в тылу противника в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». Диверсионными группами было осуществлено 89 боевых выходов в тыл финских войск. В результате ими было разгромлено 7 гарнизонов противника, убито 467 солдат, офицеров и чиновников оккупационных властей; уничтожено 28 автомашин, 2 самолета, 10 складов; повреждено 62 моста. Кроме разведывательно-диверсионных групп в тыл финских войск для агентурной работы были направлены 233 человека. За эти результаты была заплачена высокая цена: при переправах погибли 22 разведчика, пропали без вести – 36, попали в плен – 109, вернулись обратно – лишь 45 человек [10; 133].
Список литературы Подготовка разведывательно-диверсионных кадров органами НКВД-НКГБ КФССР в годы Великой Отечественной войны
- Архив Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Карелия (далее -АФСБ РК.) Ф. 2. Оп. 1. Д. 92.
- АФСБ РК. Ф. 2. Оп. 1 Д. 120.
- АФСБ РК. Ф. 6. Оп. 1. Д. 9.
- АФСБ РК. Ф. 6. Оп. 1. Д. 9. Т. 1.
- АФСБ РК. Ф. 6. Оп. 1. Д. 10. Т. 1.
- АФСБ РК. КРО. Оп. 1. Д. 95.
- АФСБ РК. ФСДП КРО. Оп. 1. Д. 92.
- Авдеев С. С. Деятельность советских спецгрупп на Карельском фронте в тылу противника (1941-1944 гг.)//Карелия в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Петрозаводск, 2001. С. 9-22.
- Белозеров Б. П. Фронт без границ. 1941-1945 гг. (историко-правовой анализ обеспечения безопасности фронта и тыла Северо-Запада). СПб.: Агентство «РДК-принт», 2001. 320 с.
- Веригин С. Г. Деятельность разведывательно-диверсионных групп НКВД-НКГБ Карело-Финской ССР в тылу финских войск (1941-1944 гг.)//Органы безопасности Карелии: исторические очерки, воспоминания, биографии/Авт.-сост.: К. Ф. Белоусов, А. М. Беляев, С. Г. Веригин. Петрозаводск: Скандинавия, 2008. С. 121-133.
- Веригин С. Г. Карелия в годы военных испытаний: Политическое и социально-экономическое положение Советской Карелии в период Второй мировой войны 1939-1945 гг. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2009. 544 с.
- Голубев В. Незримый фронт//Чекисты Карелии. Петрозаводск: Карелия, 1986. С. 176-193.
- Попов А. Ю. НКВД и партизанское движение. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. 383 с.
- Попов А. Ю. Диверсанты Сталина. М.: Яуза: Эксмо, 2004. 512 с.
- Судоплатов П. Разные дни тайной войны и дипломатии. 1941 год. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. 382 с.
- Чижевский Т. А. Разведчик «Полярная звезда»//Чекисты Карельского фронта в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: Документальные очерки и воспоминания. Петрозаводск: Карелия, 1988. С. 183-191.