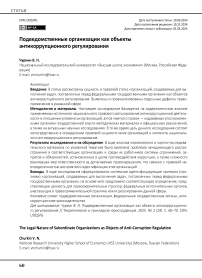Подведомственные организации как объекты антикоррупционного регулирования
Автор: Чуркин В.Н.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 2 (24), 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. В статье рассмотрены сущность и правовой статус «организаций, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами» как объектов антикоррупционного регулирования. Выявлены и проанализированы отдельные дефекты правоприменения в указанной сфере. Методология и материалы. Настоящее исследование базируется на содержательном анализе применяемых источников национального правового регулирования антикоррупционной деятельности в отношении упомянутых организаций, актов «мягкого права» - издаваемых уполномоченными органами государственной власти методических материалов и официальных разъяснений, а также на актуальных научных исследованиях. В то же время цель данного исследования состоит непосредственно в определении правовой сущности таких организаций в контексте национального антикоррупционного регулирования. Результаты исследования и их обсуждение. В ходе анализа нормативного и научно-исследовательского материала по указанной тематике была выявлена проблема ненадлежащего распространения в соответствующих организациях и среди их работников системы ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также сложности реализации мер ответственности за допускаемые правонарушения, что связано с правовой неопределенностью восприятия и идентификации этих организаций.
Подведомственные организации, федеральные государственные органы, антикоррупционное законодательство
Короткий адрес: https://sciup.org/14133159
IDR: 14133159
Текст научной статьи Подведомственные организации как объекты антикоррупционного регулирования
В текущих условиях нарастающего санкционного давления на отечественную экономику и стоящих в связи с этим задач по повышению эффективности использования бюджетных средств противодействие коррупции становится одним из ключевых направлений государственной политики, которое возводится в ранг национальных интересов в контексте целей обеспечения государственной и общественной безопасности.
Так, Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, особо подчеркивает запрос общества на усиление борьбы с коррупцией, с нецелевым использованием (хищением) бюджетных средств в органах публичной власти и государственного имущества посредством укрепления законности и правопорядка, а также искоренения самой коррупции1.
Подобный акцент на сферу публичного управления вполне логичен, ведь именно в ней наиболее велики коррупционные риски.
При этом публичный сектор экономики представлен многочисленными организациями с различной спецификой деятельности и кругом задач — например, это «организации, создаваемые для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами» или «организации, созданные для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами» (далее — подведомственные организации).
Методология и материалы
Настоящее исследование базируется на анализе применимых источников национального правового регулирования антикоррупционной деятельности в отношении подведомственных организаций, актов «мягкого права» — издаваемых уполномоченными органами государственной власти методических материалов и официальных разъяснений, а также на актуальных научных исследованиях.
Основные применяемые методы: формально-юридический метод и технико-юридический анализ.
Проведенное исследование упомянутых материалов с применением указанных методов позволило сформулировать системные идентифицирующие критерии (признаки) «организаций, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами» и предложить соответствующее определение.
Результаты исследования и их обсуждение
Деятельность подведомственных организаций во многом зависит от соответствующего федерального государственного органа (далее — ФГО), а значит, и реализация комплексной антикоррупционной политики преимущественно также находится в зоне ответственности ФГО, который призван участвовать в формировании единого «антикоррупционного контура». Это подтверждается как минимум четырьмя факторами:
-
1. Кадровый фактор: именно ФГО осуществляет кадровое обеспечение подведомственных организаций в части назначения руководителей, реализуя функции представителя нанимателя/работодателя (это проистекает от делегированных полномочий учредителя).
-
2. Организационно-экономический фактор: ФГО осуществляет координацию деятельности подведомственных организаций в части выполнения государственного задания (программы деятельности) и многих иных аспектов.
-
3. Финансовый фактор: финансирование деятельности подведомственных организаций осуществляется во многом за счет бюджетных средств (субсидий, в том числе целевых), выделяемых ФГО.
-
4. Антикоррупционный фактор: национальное законодательство в данной сфере закрепляет ведущую (превалирующую) роль ФГО в формировании системы противодействия коррупции в подведомственных организациях2.
Подобная взаимосвязь упомянутых организаций и ФГО порождает существенные коррупционные риски, подтверждая ранее приведенный тезис о единстве (совпадении) их «коррупционных контуров».
Такие риски могут реализовываться одновременно в нескольких плоскостях:
-
• в части распространенной практики использования так называемых «подснежников» — лиц, фактически осуществляющих трудовую деятельность в ФГО, но официально трудоустроенных в подведомственную организацию (очевидно, что в данной ситуации на подобных работников не распространяется система ограничений, запретов и обязанностей, установленных законодательством в сфере противодействия коррупции в отношении государственных служащих);
-
• в части имеющихся полномочий по реализации государственного управления в отношении подведомственных организаций и связанных с этим возможностей возникновения конфликта интересов у соответствующих сотрудников ФГО ввиду, например, осуществления иной оплачиваемой деятельности в подведомственных организациях (чтение лекций, выполнение научно-исследовательских работ и т. п.), а также с переходом в такие организации после увольнения с государственной службы. Отраслевая специфика деятельности подведомственных организаций, широта спектра решаемых ими задач и повышенная ответственность перед обществом в рамках обеспечения защиты национальных интересов, включая связанное с этим внимание правоохранительных органов, порождают необходимость самостоятельно принимать эффективные меры по противодействию коррупции.
При этом двойственная природа подведомственных организаций сказывается на правовом регулировании в контексте рассматриваемой темы.
Так, в рамках общего регулирования антикоррупционной деятельности подведомственные организации разрабатывают и применяют определенные меры по предупреждению коррупции, возможные варианты которых перечислены в ч. 2 ст. 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»3 (далее — Федеральный закон № 273-ФЗ), уведомляют в установленном порядке о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с бывшими государственными или муниципальными служащими, должности которых были включены в соответствующие перечни, несут ответственность за невыполнение указанных обязаннос-тей4, а также за незаконное вознаграждение от имени или в интересах юридического лица согласно ст. 19.28 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации5.
В рамках же специального регулирования, представленного в том числе на уровне правотворчества ФГО, на отдельные категории работников (как правило, преимущественно руководящий состав) таких организаций возлагаются дополнительные ограничения, запреты и обязанности, установленные в целях противодействия коррупции по аналогии с государственными и муниципальными служащими, а на сами организации — повышенные обязательства по разработке и принятию соответствующих мер.
Основой закрепления дополнительных требований в контексте регулирования трудовых отношений выступает ст. 349.2 Трудового кодекса Российской Федерации6, в п. 7.1 ст. 81 которой закрепляется в качестве основания для расторжения трудового договора по инициативе работодателя (увольнения «в связи с утратой доверия» со всеми вытекающими из этого последствиями) несоблюдение/наруше-ние/неисполнение соответствующими категориями работников подведомственных организаций упомянутых ограничений, запретов и обязанностей.
Предметно они закреплены в постановлении Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 568 «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом „О противодействии коррупции“ и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции»7 (например, запрет на получение в связи с исполнением трудовых обязанностей вознаграждений от физических и юридических лиц (подарков, ссуд и т. д.), определенные ограничения в части принятия наград, почетных и специальных званий, оплачиваемой деятельности, вхождения в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов ряда организаций и т. д.). Эти требования представлены также на уровне федерального законодательства:
-
• в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и/или пользоваться иностранными финансовыми инструментами, обязанность предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера как в рамках назначения на должность, так и на ежегодной основе в установленных случаях, принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, уведомлять об обращении каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, передавать ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в целях предотвращения конфликта интересов и т. д.);
-
• в Федеральном законе от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»8;
-
• в Федеральном законе от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и/или пользоваться иностранными финансовыми инструментами»9 и т. д.
На уровне же подзаконных актов, преимущественно принимаемых в виде указов Президента Российской Федерации, формируется нормативная «процессуальная» основа для соблюдения/исполне-ния соответствующими категориями лиц ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, посредством утверждения различных (типовых) порядков и положений10, детализируемых, с учетом специфики деятельности, на уровне ФГО их нормативными правовыми и иными актами. Далее акты адаптируются и внедряются уже в организациях в виде их локальных нормативных актов (ЛНА) с учетом статьи 8 Трудового кодекса Российской Федерации11.
Кроме того, в ведении ФГО находятся полномочия по определению перечня конкретных должностей в подведомственных организациях, при назначении на которые граждане и при замещении которых работники обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (а равно соблюдать иные ограничения и запреты, нести обязанности, установленные в целях противодействия коррупции).
Вместе с тем, как нами было отмечено ранее, отдельные дополнительные обязательства антикоррупционного характера могут возлагаться непосредственно на сами подведомственные организации — например, в части создания и ведения (наполнения) раздела, посвященного вопросам противодействия коррупции, официального интернет-сайта, разработки и утверждения ряда антикоррупционных стандартов в виде локальных нормативных актов (кодекса этики, антикоррупционной политики и т. д.), оценки (коррупционных) рисков и формирования по ее результатам соответствующего реестра (карты), обеспечения работы «горячей линии» для сообщений о коррупционных проявлениях в деятельности упомянутых организаций, проведения проверочных мероприятий на регулярной основе, внутреннего и внешнего обучения сотрудников12 и т. д. Здесь прослеживаются базовые элементы комплаенс-методо-логии, широко применяемой в организациях «частного сектора» экономики.
Таким образом, антикоррупционное нормативное регулирование в отношении подведомственных организаций в целом демонстрирует развитость и зрелость, охватывая все ключевые направления рисков в данной сфере.
Актуальным остается вопрос определения таких организаций в условиях отсутствия закрепленной в законодательстве дефиниции, ведь от правильного и однозначного определения статуса организации зависит распространение на нее и ее работников системы ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также возможность применения мер ответственности за допускаемые правонарушения, в том числе в рамках реализации воспитательной, охранительной, карательной и превентивной функций.
Так, в одном из немногих стратегических документов — Национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 47813, для руководителей «организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами» содержатся конкретные поручения (рекомендации).
В то же время «организации, созданные для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами» рефреном следуют сквозь федеральное антикоррупционное законодательство в тесной связке с другими субъектами — государственными корпорациями (компаниями), публично-правовыми компаниями, фондами и «иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов», что легко может ввести в заблуждение даже профильных специалистов.
При этом Генеральная прокуратура Российской Федерации в Памятке для предпринимателей о противодействии коррупции прямо подчеркнула, что «необходимо принимать во внимание различия в правовом статусе организаций, создаваемых на основании федеральных законов, и организаций, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами», в которых «вопросы реализации базовых положений нормативных правовых актов Российской Федерации о противодействии коррупции возложены федеральным законодательством на соответствующие государственные органы»14. Помимо негативных репутационных последствий от использования в официальном тексте ненадлежащих формулировок, в какой-то мере это также может повлиять и на оспариваемость предъявляемых к подведомственной организации (ее руководству) требований. С другой стороны, ошибочное невключение той или иной организации, фактически имеющей статус (признаки) «подведомственной», самим ФГО в соответствующий перечень выводит ее из правового контура государственной антикоррупционной политики в рассматриваемой части.
Презюмируя тождественность понятий «государственный орган» и «орган государственной власти»15 (несмотря на имеющуюся дискуссию по этому вопросу16) и относя, таким образом, к категории «федеральных государственных органов» Правительство Российской Федерации17, вопреки некоторым имеющимся подходам18 мы сознательно не затрагиваем в контексте исследуемой проблематики непосредственно «организации, созданные для выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации» (далее — организации Правительства РФ). У этого есть как минимум четыре причины:
-
• во-первых, указанный тип организаций, как правило, самостоятельно поименован в законодательстве;
-
• во-вторых, организации Правительства РФ отражены (перечислены) в закрытом перечне19, содержание которого в целом не вызывает дискуссий;
-
• в-третьих, среди организаций Правительства РФ много юридических лиц, имеющих самостоятельное специальное регулирование, в том числе относительно требований по внедрению систем вну-
- треннего контроля20 и далее комплаенса (речь идет об акционерных обществах, финансово-кредитных учреждениях (банках) и т. д.);
-
• в-четвертых, многие из организаций Правительства РФ имеют коммерческую корпоративную «природу» (при этом среди этих организаций встречаются и государственные корпорации, и публичноправовые компании, и государственные компании, и (внебюджетные) фонды, федеральные государственные унитарные предприятия, федеральные казенные учреждения и т. п.).
Таким образом, применяемая («супер») категория «организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации» значительно размывает понимание природы и сущности понятия подведомственных организаций, вбирая и смешивая в себе абсолютно различные типы субъектов, оставаясь поэтому за рамками нашего интереса. Такого же подхода, вероятно, придерживается и Генеральная прокуратура Российской Федерации, в Памятке для предпринимателей о противодействии коррупции однозначно разграничивающая «организации, созданные для выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации», «организации, создаваемые для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами» и «государственные корпорации, публично-правовые компании, государственные компании, в том числе созданные на основе федеральных законов»21.
В Национальном плане противодействия коррупции на 2016–2017 годы, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 года № 14722, содержалось поручение разработать критерии присвоения статуса «организаций, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами…» (органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления), а также разработать предложения в части нормативно-правового регулирования порядка приобретения организациями указанного статуса.
В итоге Министерством юстиции РФ в октябре 2016 года был разработан соответствующий зако-нопроект23, предполагающий дополнить ст. 1 Федерального закона № 273-ФЗ определением «организаций, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления». К сожалению, в данном случае разработчики пошли по простому пути перечисления преимущественно организационно-правовых форм соответствующих субъектов, отнеся к указанной категории государственные и муниципальные учреждения/унитарные предприятия, казачьи общества, внесенные в соответствующий реестр, акционерные и хозяйственные общества (прямо или косвенно контролируемые такими акционерными обществами) по правилу «50%+» акций, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также автономные некоммерческие организации и фонды с единственным учредителем в качестве Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального образования. До настоящего времени законопроект принят не был.
Кроме того, и сам указанный подход к определению соответствующих организаций представляется нам не вполне состоятельным по ранее упомянутой причине — так, акционерные общества в силу своей корпоративной «природы» и дополнительного специального регулирования в большей мере самостоятельно осуществляют противодействие коррупции в части имеющихся полномочий, в связи с чем их отнесение к подведомственным организациям полагается излишним.
Восполнить некий образовавшийся понятийный «пробел» стремятся сами правоприменители — так, на официальном сайте Администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской об- ласти под «организациями, создаваемыми для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами» понимаются федеральные бюджетные учреждения и унитарные предпри-ятия24. Прокуратура же Ульяновской области на своем сайте поясняет, что указанные организации «могут иметь различную организационно-правовую форму, в том числе государственного унитарного предприятия, государственного учреждения (автономного, бюджетного, казенного)», а определение таких организаций осуществляется ФГО самостоятельно, в том числе с учетом предмета и цели деятельности соответствующей организации, которыми могут быть содействие в реализации функций, возложенных на ФГО в установленной сфере25. Очевидно, указанные подходы к определению подведомственных организаций не являются системными и универсальными.
Проанализировав ряд уставов26 подведомственных организаций, включенных в соответствующие перечни ФГО, попытаемся выделить ключевые квалифицирующие признаки таких организаций:
-
• создаются на основании подзаконных актов (постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, иных актов);
-
• как правило, являются унитарными юридическими лицами (федеральные государственные унитарные предприятия (ФГУП), федеральные казенные предприятия (ФКП), федеральные казенные учреждения (ФКУ), федеральные государственные учреждения (ФГУ) и федеральные казенные образовательные учреждения (ФКОУ), федеральные автономные учреждения (ФАУ), федеральные государственные автономные учреждения (ФГАУ), федеральные государственные автономные образовательные учреждения (ФГАОУ), федеральные государственные бюджетные профессиональные образовательные учреждения (ФГБПОУ), федеральные бюджетные учреждения (ФБУ), федеральные государственные бюджетные учреждения (ФГБУ) и федеральные государственные бюджетные учреждения культуры (ФГБУК), федеральные государственные бюджетные научные учреждения (ФГБНУ) и федеральные автономные научные учреждения (ФАНУ), федеральные бюджетные учреждения здравоохранения (ФБУЗ) и др.)27;
-
• имеют особую устойчивую связь с Российской Федерацией — Российская Федерация выступает собственником имущества и учредителем, функции которого осуществляет соответствующий ФГО в установленном порядке28;
-
• целью является выполнение обязательного государственного задания (программы деятельности) и/или реализация задач в сфере ведения соответствующего ФГО, в том числе решение социальных задач, осуществление общественно значимых функций;
-
• распоряжаются в пределах установленной компетенции закрепленным имуществом, являющимся федеральной собственностью и находящимся на праве оперативного управления или хозяйственного ведения (целевой режим использования имущества);
-
• одним из источников финансирования (целевой) деятельности являются бюджетные средства (субсидии);
-
• учредитель осуществляет формирование и утверждение, а равно и финансирование государственного задания (при наличии), утверждение устава (ведомственным правовым актом ФГО), назначение руководителя и прекращение его полномочий (заключение и прекращение трудового договора с руководителем), контроль деятельности, иные полномочия, включая вопросы создания/ликви-дации филиалов и представительств (назначения их руководителей), реорганизации/ликвидации, изменения типа, может принимать участие в согласовании крупных сделок и сделок с заинтересованностью;
-
• не являются государственными корпорациями, государственными и публично-правовыми компаниями, иными организациями, созданными на основании федеральных законов.
В контексте регулирования антикоррупционной деятельности в отношении подведомственных организаций приоритетное значение приобретают именно функции учредителя «корпоративного» характера (организационно-распорядительные функции), а именно право назначать (заключать трудовой договор) и прекращать полномочия руководителей соответствующих организаций, то есть выступать в качестве представителя работодателя, что во многом обусловлено правовой конструкцией обязанности по представлению отдельными категориями лиц сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в установленном порядке согласно ч. 1 ст. 8 Федерального закона № 273-ФЗ, в соответствии с которой руководители подведомственных организаций обязаны представлять такие сведения представителю нанимателя (работодателю), то есть уполномоченному лицу собственника имущества и учредителя организации. А кто принимает упомянутые сведения, тот реализует и иные функции антикоррупционного характера, в том числе по контролю соблюдения соответствующими лицами ограничений и запретов, исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, следуя в том числе логике небезызвестного в профессиональных кругах Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона „О противодействии коррупции”»29.
Выводы
С учетом выделенных ранее ключевых квалифицирующих признаков «организаций, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами», принимая во внимание всё многообразие организационно-правовых форм и связанные с этим особенности правового регулирования деятельности различных организаций, обладающих признаками «подведомственности», предложим авторское определение в этой сфере, способное служить, по крайней мере, ориентиром для формирования соответствующих перечней ФГО в целях включения упомянутых организаций в единый антикоррупционный контур.
«Организации, создаваемые для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами» — юридические лица:
-
• учрежденные и наделенные имуществом Российской Федерацией, полномочия которой в качестве учредителя осуществляют федеральные государственные органы с установленной компетенцией в соответствующих сферах деятельности таких юридических лиц, включая участие в выполнении организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций;
-
• осуществляющие выполнение обязательного государственного задания (установленной программы деятельности) и/или решение социальных задач, реализацию публично значимых функций, в том числе за счет использования бюджетных средств;
-
• не являющиеся государственными корпорациями, государственными и публично-правовыми компаниями, организациями, созданными на основании федеральных законов.