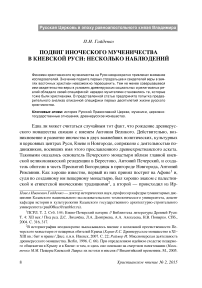Подвиг иноческого мученичества в Киевской Руси: несколько наблюдений
Автор: Гайденко Павел Иванович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Русская Церковь в эпоху равноапостольного Князя Владимира
Статья в выпуске: 2 (61), 2015 года.
Бесплатный доступ
Феномен христианского мученичества на Руси неоднократно привлекал вниманиеисследователей. Значение подвига первых страдальцев и свидетелей веры в зем-лях восточных христиан невозможно переоценить. Тем не менее совершавшеесяими свидетельство веры в условиях древнерусских социальных и религиозных ре-алий обладало своей спецификой: нередко мучителями становились те, которыетоже были христианами. В представленной статье предпринята попытка предва-рительного анализа описанной специфики первых десятилетий жизни русскогохристианства.
История русской православной церкви, мученики, церковно-государственные отношения, древнерусское монашество
Короткий адрес: https://sciup.org/140190091
IDR: 140190091
Текст научной статьи Подвиг иноческого мученичества в Киевской Руси: несколько наблюдений
ландии3. Нельзя сказать, что до них на Руси не было монахов и монастырей. И Повесть временных лет, и новгородское летописание, и знаменитое «Слово» Илариона, и Печерский патерик, и жития Феодосия Печерского и Антония Римлянина, как и фрагменты утраченного жития Антония Печерского, ясно указывают на то, что уже задолго до начала подвижнических трудов обоих русских Антониев в Киеве, Новгороде и, возможно, иных городских центрах присутствовали иноки, жизнь которых была нередко связана с деятельностью той или иной обители4.
Подобно тому как в Византии и Западной Европе коптский отшельник Антоний почитался родоначальником египетского иночества (и в целом всего иночества), хотя и до Антония Великого пустыни Египта уже были заселены монахами5, так и Антоний Печерский, а также воспитанные им его ближайшие приемники воспринимались современниками и многими поколениями русских христиан как отцы древнерусского монашества6. Во всяком случае, нельзя исключать того, что нареченное русскому подвижнику из Любеча при его постриге имя изначально отражало намерение афонитов со временем увидеть в Антонии насадителя иночества в землях восточных славян. К таковому умозаключению подводят слова преподобного Нестора. В своем Сказании о начале Печерского монастыря он сообщает, что после пострига, получив от афонского игумена научение «черническому образу», Антоний принял от своего наставника следующее назидание: «Да иди опять на Русь и буди бл(а)г(ослове)ние от С(вя)тыя Горы и мнози от тебе чернорисци будуть»7. Примечательно, что при характеристике Антония Печерского и его преемников Никона8 и Феодосия составитель Печерского патерика и Жития Феодосия применяет именование «великий»9, подобно тому, как назывался в церковной литературе основатель египетского монашества, Антоний Великий. Особенно отчетливо это сопоставление обнаруживается в отношении Антония Печерского: «И прошла о нем слава, как о Великом Антонии»10. Подобная характеристика прозвучала и в похвале преподобному Феодосию: «Радуйся, будучи наставником отцов печерских, ты сам следовал святых отцов учению, и нраву, и воздержанию, и божественному их молитве предстоянию, более же всего подражал Великому Антонию, основателю монашества, обычаем и житием уподобившись житию его и следуя его привычкам, стремясь от одного дела к другому, лучшему, обычные молитвы к Богу вознося как благоуханный аромат, как ладан благовонный, кадилом молитвенным!»11
Необходимо заметить, что рождение в IV в. монашества было связано с определенным кризисом христианского мира. По мере интеграции христиан в институты империи и в результате исчезновения или угасания феномена мученичества («мартириа», свидетельство веры через посредство перенесения страданий и смерти от рук язычников и иноверцев12) христианское сообщество испытывало крайне острую потребность в актуализации евангельских ценностей. Монашество, выразившееся в максималистском поиске частью христианского населения империи предельного совершенства посредством покаяния и отречения от земных благ теперь уже христианского мира, стало той силой, которая вскоре после своего возникновения стала восприниматься в церковном сознании как идеал, запечатленный уже в самом наименовании святых иноков — «преподобные», т.е. в высшей степениподобныеБогу13. Исполнение иноками довольно тяжелых обетов, являвших и в символическом, и в обычном понимании преодоление оков греха через добровольные страдание и покаяние, ставило монахов на одну ступень с мучениками. Однако в отличие от физического страдания «мученичество» монашества, благодаря словам Афанасия Александрийского, стало порой восприниматься как «мученичество совести», что требует определенных пояснений. Между тем подвиг монашества действительно призывает, а порой и вынуждает человека, принявшего обеты, как проходить через внутренние страдания, вызванные борьбой со своими несовершенствами, так и переносить внешние унижения, еще более отождествляющие инока со страдальцами и мучениками.
Древнерусские летописцы и агиографы многократно используют термин «мученик», «страдалец» или «мучения» и «страдания» в отношении целого ряда русских святых подвижников: Бориса и Глеба, а также преподобных Моисея Угрина, Кукши, Григория Чудотворца, Евстратия, Никона и др. Не менее примечательно установление хорошо прослеживающихся в древнерусском искусстве и архитектуре иконографических параллелей между иноческим и мучени- ческим подвигами14. С одной стороны, подобная оценка деятельности и места иночества в деле спасения мира оправдана и даже традиционна. С другой стороны, возникает не менее закономерный вопрос: насколько правомерно (канонично) отождествление страданий, выпадавших на долю того или иного монаха, с подвигом мученичества? Все же мученичество, в его первоначальном значении, есть смертные страдания, служащие свидетельством Христовой веры перед язычниками, иноверцами и отступниками.
В рассматриваемом отношении наиболее соответствует нормам греческой традиции понимания самый ранний пример мученичества как свидетельства веры через перенесение страданий и смерти — мученическая гибель варягов Феодора и Иоанна от рук киевских язычников15. Но необходимо заметить, что ни ранние летописные, ни раннее проложное сказания, донесшие известия о гибели варягов-мучеников, не позволяют сделать однозначного заключения ни о конкретном месте их мученичества, ни об именах варягов-христиан (Пролог упоминал лишь имя сына, Иоанна, которое, как и проложная дата мученической кончины тоже весьма сомнительно16), ни о месте погребения страдальцев, ни о распространенности почитания этой христианской семьи потомками. Полное «восстановление» имен варягов-мучеников произошло только в XV– XVI вв., в 4-й Новгородской и Никоновской летописях17.
Судя по всему, повествование, легшее в основу Летописного сюжета о варягах-страдальцах на Руси, возникло не позднее 90-х годов XI в., а во второй половине XII в. оно попало в Пролог, что, вероятно, объяснялось целью прославления этих лиц18. Тем не менее истории Русской Церкви не известно почитание первых мучеников в форме особого культа. Во всяком случае, ни Е.Е. Голубинскому, ни В.П. Васильеву не удалось проследить какие-либо ясные и убеди- тельные следы не только прославления, но и церковного литургического чествования этих святых в Древней Руси19. Впрочем, в историографии неоднократно высказывалось мнение о том, что обнаруженные под развалинами Десятинного храма остатки безвестных захоронений20 и знаменитая Турова божница, упоминающаяся в летописной статье 1146 г.21, были связаны с сохранением памяти о варягах Феодоре и Иоанне22. Однако приведенные исследователями доводы гипотетичны и встречают возражения если и не отвергающие данную версию полностью, то по крайней мере заставляющие существенно пересмотреть ее23. Например, необходимо принять во внимание имя Феодора, если один из мучеников действительно носил это имя, — одно из самых почитаемых среди святых Византии, которому только в Константинополе было посвящено 15 церквей и два монастыря24. Оказалось бы весьма удивительным, если бы и в Киеве имена Феодора Тирона и Феодора Стратилата не нашли своего отражения в церковном строительстве. И таковой храм, основанный в 1228 г.25, и одноименный ему монастырь существовали, и стали местом непродолжительного монашеского пристанища князя Игоря26. К тому же, учитывая, что термин «божница» чаще всего употреблялся в отношении латинских храмов, принадлежность этого храма к византийскому обряду также видится весьма дискуссионной. Наконец, в литературе высказывались и иные версии, допускавшие, что название храм мог получить как по имени, связанному с именем Тора27, так и по имени своего возможного основателя Тура или одноименного урочища28. Что же касается возможности возведения Десятинной церкви на месте легендарных страданий Феодора и Иоанна, то площадь обнаруженных захоронений такова, что позволяет говорить о наличии на этом месте не одной могилы, а целого кладбища, которое, скорее всего, принадлежало киевской дружинной элите29.
Что же касается анализа примеров мученичества или страданий среди монашества, ситуация видится еще более сложной. Действительно, древнерусские агиографы уже в Печерском патерике различали, с одной стороны, русских христиан и монахов, а, с другой — «иные языцы»: иудеев, мусульман, язычников, христиан латинского обряда30. Но далеко не во всяком случае это противопоставление становилось проповедью христианства в том смысле, как ее понимали древние мученики, поскольку сами мучители нередко тоже оказывались христианами. К тому же акцентирование внимания на месте происхождения или жизни тех или иных персон в средневековых текстах было совершенно обычным31: оно отражает специфику государственного устройства и этнической культуры людей того времени — широкую систему прав городских общин и некоторых групп населения, сохранявших следы племенной памяти или по крайней мере различавших друг друга по этническому происхождению32.
В описываемом отношении заслуживают внимания страдания венгра Моисея Угрина. Родной брата Георгия, любимца св. Бориса «паче меры», погиб- шего вместе со своим князем на Альте33, Моисей, согласно патериковому сказанию, входил в ближайшее окружение св. князя Бориса. После гибели своего господина Моисей нашел пристанище у Предиславы, одной из сестер Ярослава Мудрого. Вместе с ней волею обстоятельств он оказался в плену в Польше, будучи вывезен в обозе короля Болеслава. Там на него обратила внимание некая молодая знатная вдова. Юный Моисей пробудил в ней столь сильные страстные чувства, что она пробовала добиться внимания и ответной любви Моисея на протяжении шести лет. Молодому человеку пришлось пережить не только всевозможные издевательства и оскорбления, но и периоды, когда богатая вдова пробовала добиться его расположения ласками, дарами и даже посредничеством короля Болеслава. Свой отказ Моисей объяснял любовью к Христу. Как только представился случай, молодой человек принял постриг от некоего афонского инока. Так и не достигнув желаемого, женщина приказала оскопить Моисея. Затем, после того как Болеслав внезапно умер, случился мятеж, вдова была убита. А Моисей ушел в Печерский монастырь, «нося на собе мученическыа раны и венець исъповеданиа»34.
Моисей Угрин, как удачно заметила Л.А. Ольшевская, проходит испытание любовью35, причем жестокой и страстной женской любовью. Насколько реален и историчен агиографический образ вдовы, неспособной обуздать свои страсти и даже манипулирующей волей короля Болеслава, сказать трудно. Однако составитель сказания не был одинок в своем взгляде на женщин. Моление Даниила Заточника не без злого юмора представляет женщину в еще более ужасном виде. Учитывая статус Даниила, — надо полагать, женщину свободную и потому еще более отталкивающе коварную:
«Нет ничего на земле лютее женской злобы. Сперва из-за жены предок наш Адам из Рая изгнан был; из-за жены пророка Даниила в ров ввергли, где львы ему ноги лизали, о злое острое оружие диавола и стрела, летящая с ядом»36.
Вопрошание Кириково, отразившее вопросы духовнической практики в Новгороде, в значительной мере подтверждает не только наличие негатив- ной оценки женщины и мнения о ущербности и нечистоте перед мужчиной ее природы, но и тот факт, что нравы, царившие в девической и женской среде, были порой крайне далеки от христианских идеалов. Во всяком случае, судя по ряду вопросов, прозвучавших в упомянутом каноническом своде, с женщинами были связаны как блудные грехи, измены, колдовство, так и убийства37. Об остроте проблемы можно судить по тому, что Вопрошание ясно свидетельствует, что найти для будущего священника достойную партию было непросто, а интимная брачная жизнь в священнических и диаконских семьях нередко представляла серьезные проблемы для духовников необузданностью чувств и невоздержанностью супругов в удовлетворении брачных желаний38 .
Так или иначе, но мученические страдания и «исповеднический венец» Моисея были результатом не свидетельства веры перед иноверцами39, но желания молодого человека сохранить верность иноческим обетам40. Т.е. действия мучителей, как знатной юной польской вдовы, так и самого христианского короля Болеслава, потакавшего капризной пани, в большей мере могут квалифицироваться как моральные и канонические, а не вероучительные отступления. Нечто подобное читается в истории еще нескольких печерских иноков: пле- ненного половцами и проданного иудею Евстратия41; пережившего половецкий плен многотерпеливого Никона Черноризца42; убитого язычниками преподобного Кукши, чья история — едва ли ни самая краткая в Патерике43. Истории всех перечисленных печерских святых представлены в Послании епископа Симона к Поликарпу и объединены как идейно (мученичеством), так и композиционно (в тексте они представлены единым блоком). Правда, среди них выделяется история преподобномученика Евстратия.
Действительно, в той части, которая касается последних недель его жизни, житие Евстратия ставит вопросы, требующие пояснения. Патериковый рассказ сообщает, что, взятый половцами в плен, Евстратий был продан в рабство корсунским евреям. В этом же городе он и пострадал, распятый на кресте и про-боденный копьем44. Преступление это вызывает ряд недоумений. Дело в том, что вплоть до XIII в. Херсонес оставался территорией Византии, где обращение в рабство монахов было недопустимым явлением. Что же касается евреев, то они, как и язычники, вообще не имели права обладать рабами-христианами45. Учитывая то обстоятельство, что покупка рабов так или иначе была публичным актом, вызывает удивление не только невмешательство в данную ситуацию византийских властей (в Патерике оно объясняется тем, что глава города был иудей), но и молчание самой христианской общины Херсонеса, в том числе местного епископа. Однако последовавшее вскоре наказание местных иудеев, если сведения о нем не были преувеличением агиографа, санкционированное, согласно рассказу, василевсом, дает основание полагать, что кем-то все же была составлена и отправлена в Константинополь жалоба. Иное дело, что имя ее автора осталось неизвестным. Так или иначе, но почитание преподобного Ев- стратия как мученика сложилось вскоре после смерти инока, и инициаторами его прославления стали жители города46. Поэтому можно сделать вывод, что ответственность за выпавшие на долю Евстратия мучения лежит в том числе и на христианской общине Корсуни. Несомненно, история Евстратия должна рассматриваться в контексте антииудейской полемики конца XI – начала XII вв. Тем не менее, сама историческая и историко-бытовая канва истории Евстратия примечательна и крайне драматична, если учесть, что события разворачивались на «христианских» территориях.
Но наиболее интересными для анализа и наблюдения видятся страдания и мученический подвиг еще нескольких монахов: князя-инока Игоря47, а также печерских насельников Григория Чудотворца48, Феодора и Василия49. Драма их жизни, страданий и смерти во многом раскрывается в том, что все они были мучимы и погибли от рук либо киевской толпы, либо князей50, не защищенные ни княжеским судом, ни митрополитом, ни игуменом, ни братией монастырей. Едва ли можно отрицать и тот факт, что виновники страданий и гибели мучеников были христианами. Это подводит к крайне неприглядному вопросу: сколько стоила жизнь инока? Нельзя не заметить и того, что виновники гибели монахов не понесли какой-либо прямой ответственности ни за причиненные им страдания, ни даже за совершенные убийства. Отмщение совершал лишь Господь. И такое пренебрежение к монашеству хорошо просматривается не только со стороны князей, но и со стороны рядового населения.
Изложенные выше соображения можно рассматривать как лишь один из подходов к проблеме исследования мученичества в Древней Руси. Однако уже первые наблюдения позволяют сделать вывод, что выпадавшие на долю древнерусского монашества испытания и страдания чаще всего наступали вследствие деятельности и поступков людей, также принадлежавших к христианской среде. Мученичество на Руси порой принципиально отличалось от мученичества в исходном его понимании, поскольку принятые страдальцами испытания были вызваны не религиозными разногласиями, а обычной человеческой жадностью и жестокостью, повлекшими за собой преступные деяния, и в значительном числе случаев никак не могут рассматриваться вполне как преследование за веру. В этом отношении подвиг и лик ряда печерских отцов более близок к подвигу и церковному лику святых Бориса и Глеба.
Список литературы Подвиг иноческого мученичества в Киевской Руси: несколько наблюдений
- Асеев Ю.С. Архитектура Древнего Киева. Киев: Будiвельник, 1982. 160 с.
- Афанасий Александрийский, свт. Житие Антония Великого//Православная электронная библиотека. URL: lib.pravmir.ru/library/readbook/54 (дата обращения: 23.04.2015).
- Бартош А.Е. Херсонес и Тмутаракань -места духовного подвига преподобных отцов печерских//Софiя: Культурологiчний журнал. 2005. № 1. С. 136-145.
- Беспахотная Е.П. Антоний Великий //Православная энциклопедия. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2001. Т. 2. С. 662-663.
- Васильев В.П. История канонизации русских святых//Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. М., 1893. Кн. 3(166). 256 с.
- Войтенко А.А. Антоний Великий//Православная энциклопедия. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2001. Т. 2. С. 659-662.
- Войтенко А.А. Культ св. Антония Великого в византийском Египте//Византийский временник. М.: Наука, 2013. № 72(97). С. 147-163.
- Вопросы Кирика, Саввы и Ильи, с ответами Нифонта, епископа Новгородского, и других иерархических лиц//Русская историческая библиотека. Т. 6: Памятники канонического права. Ч. 1: Памятники XI-XV в. СПб., 1880. Стб. 21-62.
- Вопрошание Кириково (Перевод)//Мильков В.В., Симонов Р.А. Кирик Новгородец: учёный и мыслитель/Памятники древнерусской мысли: исследования и тексты. Вып. 7; . М.: Кругь, 2011. С. 413-428.
- Вь тьж днь ськазание и страсть и похвала стюю мчнкоу бориса и глеба ги блгсви оче//Успенский сборник XII-XIII вв./ИРЯ АН СССР; . М.: Наука, 1971. С. 42-58.
- Гайденко П.И. Священная иерархия Древней Руси (XI-XIII вв.): Зарисовки власти и повседневности. М.: Университетская книга, 2014. 212 с.
- Гайденко П.И., Москалёва Л.А., Фомина Т.Ю. Церковь домонгольской Руси: иерархия, служение, нравы. М.: Университетская книга, 2013. 150 с.
- Гайдуков Н.Е., Днепровский Н.В. Типология и структура комплексов, включающих пещерные храмы юго-западной Таврики//Пещерные церкви и монастыри Византии и Руси. Материалы международной научнопрактической конференции. Саранск: Саранское духовное училище, 2011. С. 19-22.
- Герасименко Н.В. Антоний Великий //Православная энциклопедия. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2001. Т. 2. С. 663-664.
- Голубинский Е.Е. История канонизации святых в Русской церкви. М., 1903. 597 с.
- Гордиенко Э.Л. Избранные святые новгородской монументальной живописи в системе богослужения XI -начала XIII в.//Древняя Русь: Вопросы медиевистики. 2014. № 1. С. 5-13.
- Данилевский И.Н. Повесть временных лет: Герменевтические основы изучения летописных текстов. М.: Аспект-Пресс, 2004. 383 с.
- Житие Феодосия Печерского//Памятники литературы Древней Руси: XI -начало XII века/cост. и общ. ред. Л.А. Дмитриева и Д.С. Лихачёва. М.: Художественная литература, 1978. С. 305-392, 456-458.
- Каргер М.К. Древний Киев: Очерки по истории материальной культуры древнерусского города: В 2 т. Т. 2: Памятники киевского зодчества X-XIII вв./ИА АН СССР; . М., Л.: Изд-во АН СССР, 1961. 661 с.
- Киево-Печерский патерик//Библиотека литературы Древней Руси. Т. 4: XII век/под ред. Д.С. Лихачёва, Л.А. Дмитриева, А.А. Алексеева, Н.В. Понырко. СПб.: Наука, 2004. С. 296-489, 641-667.
- Клосс Б.М. Житие Федора Варяга и его сына//Письменные памятники истории Древней Руси: Летописи. Повести. Хождения. Поучения. Жития. Послания/Аннотированный каталог-справочник; . СПб.: Русско-Балтийский информационный центр «БЛИЦ», 2003. С. 213-214.
- Костромин К.А. Развитие антилатинской полемики в Киевской Руси (XI -сер. XII вв.): Страницы истории межцерковных отношений. Saarbrken: Sanktum, 2013. 149 с.
- Литаврин Г.Г. Киево-Печерский патерик о работорговцах иудеях в Херсоне и о мученичестве Евстратия Постника//Литаврин Г.Г. Византия и славяне. СПб.: Алетейя, 2001. С. 478-495.
- Лопухина Е.В., М.В.П. Евстратий //Православная энциклопедия. М.: ЦНЦ «ПЭ», 2008. Т. 17. С. 329-330.
- Лукин П.В. Сказание о варягах-мучениках в начальном летописании и Прологе: Текстологический аспект//Древняя Русь: Вопросы медиевистики. 2009. № 4(38). С. 73-96.
- Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 2: История Русской Церкви в период совершенной зависимости её от Константинопольского патриарха (988-1240)/науч. ред. А.В. Назаренко. М.: Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1995. 704 с.
- Мильков В.В. Первый ученый Руси: жизнь, творчество, идейное своеобразие воззрений. К 900-летию Кирика Новгородца//Россия XXI век. 2010. № 6. С. 90-123.
- Мильков В.В., Симонов Р.А. Кирик Новгородец: учёный и мыслитель/Памятники древнерусской мысли: исследования и тексты. Вып. VII. М.: Издво Кругь, 2011. 544 с.
- Михайлов К.А. Киевский языческий некрополь и церковь Богородицы десятинная//Российская археология. 2004. № 1. С. 35-45.
- Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях: Междисциплинарные очерки культурных, торговых, политических связей IX-XII вв. М.: Языки русской культуры, 2002. 784 с.
- Никитенко М.М. Пещеры Киевской Лавры: их истоки и миссия//Византийский временник. М.: Наука, 2005. № 64(89). C. 181-188.
- Никулина Е.Н. Агиология: курс лекций. М.: Изд-во ПСТГУ, 2008. 312 с.
- Ольшевская Л.А. «Прелесть простоты и вымысла..»//Ольшевская Л.А., Травников С.Н. Древнерусские патерики. М.: Наука, 1999. С. 233-252.
- Остатки дворца св. кн. Владимира//Вера и разум. 1911. № 18 (сентябрь). Кн. 2. С. 845-856.
- Память и похвала Иакова мниха князю Владимиру Святославичу//Памятники общественной мысли Древней Руси. Т. 1: Домонгольский период/сост., автор вступ. ст. и коммент. И.Н. Данилевский. М.: РОССПЭН, 2010. С. 282-288.
- Панченко А.А. Кровавый навет//Христовщина и скопчество: фольклор и традиционная культура русских мистических сект. М.: ОГИ, 2004. С. 161-168.
- Петрухин В.Я. К дискуссии о евреях в Древней Руси: национальный романтизм и «улыбка Чеширского кота»//Ab Imperio. 2003. № 4. C. 653-658.
- Пивоварова Н.В. Фрески церкви Спаса на Нередице: Иконографическая программа росписи. СПб.: Дмитрий Буланин, 2002. 256 с.
- Раймер И. Миссионерская деятельность древнерусского монашества. Berlin: Logos Verlag, 1996. 256 с.
- Слово Даниила Заточника, которое он написал своему князю Ярославу Владимировичу//Памятники общественной мысли Древней Руси: В 3 т. Т. 1: Домонгольский период/сост., авт. вступ. ст. и коммент. И.Н. Данилевский. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. С. 154-161.
- Слово о Законе и Благодати митрополита Илариона//Памятники общественной мысли Древней Руси. Т. 1: Домонгольский период/сост., автор вступ. ст. и коммент. И.Н. Данилевский. М.: РОССПЭН, 2010. С. 174-190.
- Смолич И.К. Русское монашество 988-1917. Жизнь и учение старцев. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 1999. 608 с.
- Тальберг Н. История Русской Церкви. Джорданвиль, 1959. 924 с.
- Тихомиров М.Н. Древнерусские города. СПб.: «Наука», 2008. 350 с.
- Франклин С., Шепард Д. Начало Руси. 750-1200/под ред. Д.М. Буланина. СПб.: Дмитрий Буланин, 2000. 624 с.
- Харин Е.С. Древнерусское монашество в XI-XIII вв.: быт и нравы/Дисс. к.и.н. Ижевск: Удм. гос. ун-т, 2007. 185 с.
- Шахматов А.А. Как назывался первый русский святой мученик?//Известия Императорской академии наук. 4 серия. 1907. № 9. С. 261-264.
- Шевченко Ю.Ю. Христианские пещерные святыни. Т. 2: Пещерные святыни христианской Руси: генезис, функционирование, контекст/Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера); отв. ред. К.В. Чистов. СПб.: Наука, 2010. 639 с.
- Этингоф О.Е. Византийские иконы VI -первой половины XIII века в России. М.: Индрик, 2005. 768 с.