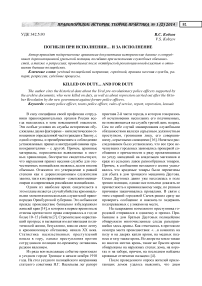Погибли при исполнении... и за исполнение
Автор: Кобзов Владимир Серафимович
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Общие аспекты теории и истории государства и права
Статья в выпуске: 1 (2), 2014 года.
Бесплатный доступ
Автор приводит подкрепленные архивными документами исторические данные о сотрудниках дореволюционной уральской полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также о репрессиях, проводимых после октябрьской революции новой властью в отношении бывших полицейских.
Уездный полицейский исправник, городовой, правила несения службы, рапорт, репрессии, судебные процессы
Короткий адрес: https://sciup.org/14118855
IDR: 14118855
Текст научной статьи Погибли при исполнении... и за исполнение
В силу специфики своей профессии сотрудники правоохранительных органов России всегда находились в зоне повышенной опасности. Эти особые условия их службы исторически обусловлены двумя факторами – нигилистическим отношением определенной части граждан к Закону, с одной стороны, и пренебрежением к соблюдению установленных правил и инструкций самими правоохранителями – с другой. Причем, архивные материалы, периодически выявляемые в местных хранилищах, бесстрастно свидетельствуют, что нарушения правил несения службы для отечественных полицейских являлись делом вполне обычным. Относится это утверждение в равной степени как к дореволюционным служителям закона, так и к их преемникам – советским милиционерам и современным российским полицейским.
Одним из наиболее ярких свидетельств в этом плане является случай убийства криминальными элементами нескольких служителей правопорядка Оренбургской губернии. Это небывалое прежде происшествие буквально взбудоражило жителей края [14], в котором в первое время после отмены крепостного права совершалось в год не более 10–15 убийств [7]. Стремительно нараставший прогресс и вызванная им активизация политической жизни, безусловно, внесли свою лепту в криминогенную обстановку начала ХХ века. Статистика насильственных преступлений пошла в гору, однако преступления против сотрудников полиции по-прежнему оставались редким явлением.
Из ряда вон выходящее событие произошло в уездном городе Троицке в начале ноября 1910 года. На стол уездного полицейского исправника статского советника Н.Г. Васильева лег рапорт пристава 2-й части города, в котором говорилось об исчезновении нескольких его подчиненных, не появляющихся на службе третий день подряд. Сам по себе случай манкирования служебными обязанностями являлся серьезным должностным проступком, грозившим лицу, его совершившему, серьезными санкциями [16]. Начатым расследованием было установлено, что все трое исчезнувших городовых занимались проверкой сообщения о причастности к ряду прокатившихся по уезду нападений на владельцев магазинов и краж из сельских лавок разнообразных товаров. Причем, в сообщении негласного агента указывалось что краденые товары были перевезены для сбыта в дом троицкого мещанина Даутова. Семья Даутовых давно уже находилась в поле зрения полиции, однако все попытки доказать ее причастность к криминальному миру, по разным причинам заканчивались провалами. В связи с этим старший городовой Сычев решил сразу же проверить сообщение и наконец-то задержать подозреваемых с уликами на месте.
На задержание возможного преступника городовой отправился в одиночку и пропал. Прибывшие в дом братьев Даутовых полицейские обнаружили многочисленные следы разыгравшейся здесь драмы. Как отмечалось в протоколе осмотра места происшествия: «…в комнатах на полу и на дверях капли крови, на медных подносе и тазу также кровь. Во дворе на земле также во многих местах кровь, такие же брызги крови обнаружены на наружных степах дома, на воротах и на заборе, причем, на последнем найдены кровяные отпечатки пальцев» [4].
После проведенного опроса жителей прилегающих домов удалось выяснить, что днем раньше усадьбу братьев Даутовых посещали еще двое городовых – Данилов и Канаев, которые так же исчезли. Тщательный осмотр показал, что в доме совершено тройное убийство, однако ни тел, ни вещей убитых на месте обнаружено не было. Скрылись и подозреваемые.
Семья Даутовых, состоявшая из пятерых мужчин и семи женщин, пользовалась в городе дурной славой. Глава семьи Гатаулла Даутов за совершение тяжкого преступления был осужден к отбыванию каторжных работ. Его сыновья: Сабиржан, Мухумжан, Галимжан и Мухамеджан имели большой вес в преступном мире и считались «отмороженными», т. е. готовыми на любые действия насильственного характера. Женщины занимались сбытом краденого и служили прикрытием при совершении ограблений и разбойных нападений. Но полицейским за все время нахождения клана Даутовых в разработке, задержать их не удавалось. Преступники каждый раз уходили от облав, скрываясь на заимках и в кочевьях соседнего Кустанайского уезда.
Исчезли подозреваемые и на этот раз. Начались поиски, в ходе которых 11 ноября 1910 года в старом колодце заброшенной заимки были обнаружены тела трех городовых. На убитых отсутствовала форменное обмундирование и оружие, которое преступники полагали использовать для совершения других преступлений. По этой причине поиски подозреваемых приняли еще более интенсивный характер.
Принятые полицией меры вскоре принесли желаемые результаты. Двое из разыскиваемых братьев были ликвидированы при задержании, третий, Мухамеджан, арестован казаками в поселке Варненском [12]. О четвертом брате, причастном к убийствам городовых, и его подельнике Ситникове, было получено сообщение, что они проживают в одном из постоялых дворов Челябинска. На задержание преступников 1 декабря из Троицка прибыли пристав 2-й части Чикрызов [3] и младший городовой Сушков
Приехав в Челябинск, Чикрызов совершил ошибку, не сообщив о цели своего приезда уездному исправнику М.И. Новосельцину и приставу 1-й части И.П. Лепихину. За помощью же он обратился к полицейскому надзирателю 1-й части А.А. Мордвинцеву, который на задержание взял с собой городового Соколова. Городовой зашел в околоток случайно, поэтому не имел оружия. На время задержания Соколов взял револьвер у другого сотрудника.
Здесь была допущена вторая ошибка – незнакомое оружие, тем более приобретавшееся по причине дороговизны у сомнительных производителей, могло в нужное время подвести. Городовой Соколов оружия не проверил и спокойно отправился на место проведения задержания.
Третий просчет Чикрызова заключался в нарушении инструкции, предписывавшей полицейским проводить предварительную подготовку силового задержания.
Тем не менее, группа полицейских и информатор, прибыли к постоялому двору Гервека, что располагался по Мастерской улице. Информатор указал, в каком номере остановились разыскиваемые. Пристав Чикрызов без промедления сразу же бросился в указанный номер, за ним последовал полицейский надзиратель Мордвинцев. В номере оказались двое мужчин и женщина. Один, как позднее было установлено, был некто Ситников, другой – разыскиваемый Даутов. Оправившись от шока, вызванного неожиданным появлением полицейских, преступники набросились на них. В первую очередь они попытались отобрать револьвер у Мордвинцева, а когда тот произвел предупредительный выстрел, бросились бежать.
Увидев убегавшего, находившийся во дворе городовой Сушков выстрелил в Ситникова, но промахнулся. Ответный выстрел преступника оказался точнее – пуля попала в грудь пристава. Стоявший рядом Соколов попытался применить оружие против второго убегавшего, но дешевый револьвер системы «велодог», дал осечку [19]. В итоге смертельно раненого Чикрызова увезли в городскую больницу, где он через час скончался. Преступники же благополучно ушли. Задержать удалось лишь женщину.
Причиной гибели пристава Чикрызова стали два фактора – презрение к закону со стороны криминалитета и нарушение полицейским инструкции по задержанию преступников. Впрочем, как позднее стало известно, трое погибших в Троицке городовых, также допустили грубейшие нарушения всевозможных инструкций.
За долгие годы мы привыкли к констатации сухих фактов, оставляя вне поля внимания личности, их предшествующую жизнь и последующую судьбу. Не стали исключением и фигуранты нашего дела. Пристав Чикрызов, старший городовой Сычев, городовые Данилов и Канаев. Должности, фамилии… А кто они, погибшие при исполнении? Забыты, словно никогда и не появлялись на этом свете.
За долгие годы занятия историей, пришлось неоднократно убеждаться в том, что информация как таковая живет своей жизнью и никогда не исчезает бесследно. Просто ее нужно найти. Необходимо желание, время, иногда финансовые затраты. Так и в данном деле. Путем длительных поисков удалось восстановить часть необходимых сведений. Сохранившаяся далеко не полная подшивка политико-общественной, литературной, бытовой и экономической, беспартийной газеты «Казак» за 1910–1913 годы, и справочные книжки Оренбургской губернии позволили дать ответ на некоторые вопросы.
Оказалось, что пристава Чикризова звали Степаном Васильевичем. Основное время его служебной карьеры пришлось на Оренбург, где он занимал должность помощника пристава 2-й части города [1, с. 28]. Он был «не имеющим чина», проще говоря, классным чиновником не являлся, что напрямую сказывалось на размере его денежного содержания. Семья пристава была многодетной, поэтому получаемого жалования было недостаточно для ее содержания. Добросовестного служаку выдвинули на должность пристава уездного Троицка, куда он прибыл в конце 1908 года. Из его пятерых детей старший сын был устроен в местную мужскую гимназию, двое младших определены в начальное училище, младшие дочери находились на попечении матери. Казалось, что все складывалось лучшим образом, но внезапная гибель пристава разрушила семейное благополучие.
Известие о гибели пристава вызвало в городе бурную реакцию. Жители города искренне скор-били по поводу его трагической гибели. Как писала местная газета: «4 декабря в Троицк привезено для погребения тело покойного пристава 1-й части С.В. Чикризова.. Погиб еще один труженик долга, исполнитель закона… За короткое время он сумел снискать любовь и уважение общества, отличаясь чуткостью к нуждам людей» [8]. На похороны, состоявшиеся 7 числа, пришли жители без различия сословной принадлежности и вероисповедания. Траурная процессия растянулась от монастырской церкви до приходского кладбища. Еще раньше, 3 декабря, состоялась панихида по убитым полицейским чинам в Оренбурге. «В Оренбургском кафедральном соборе в присутствии г-на губернатора, прокурора, начальника губернского жандармского управления, множества чиновников губернского правления, чинов городской и уездной полиции, – сообщала пресса, – отслужена панихида по бывшему помощнику пристава г. Оренбурга Степану Васильевичу Чикрызову и трем городовым, недавно убитым в Троицке. Чинами городской полиции послана Троицкому исправнику сочувственная телеграмма с просьбой возложить на гроб покойного венок» [15].
Не забыли семью погибшего пристава и городские власти. Как сообщалось в местной прессе «…в одно из ближайших заседаний Троицкой городской Думы предположено предоставить семейству покойного Чикрызова в бесплатное пользование квартиру в одном из городских зданий пожизненно» [9].
После этого происшествия, как и полагается, начались «разборы полетов». Уездный полицейский исправник Н.В. Васильев за упущения по службе был отстранен от должности, на его место прислали из губернского центра коллежского асессора М.Г. Волженцева [1, с. 110].
В начале января 1911 года на место убитого пристава «…назначили полицейского надзирателя Миасского завода Михайлова» [10]. На этом посту пристав И.Н. Михайлов пробыл до Февральской революции, когда его как «царского сатрапа» уволили без выходного пособия. Исчез в вихре революции и след полицейского надзирателя 1-й части г. Челябинска А.А. Мордвинцева. Хочется надеяться, что его как «бывшего» просто изгнали из полиции, и он смог выжить.
В советской литературе факты репрессий против сотрудников царских органов правопорядка тщательно скрывали, и даже появился миф о «бескровной февральской революции». Только в начале нового столетия известным стал факт массовых убийств полицейских Петрограда «свободными гражданами революционной России». Подобного рода массовые акции на Урале прежде выявлены не были. В одной из последних работ по истории милиции Временного правительства сообщалось лишь об единичных фактах насилия над служителями Закона [17]. Однако это не означает, что репрессий в последующее время не было. В период демократической революции их просто изгоняли со службы и клеймили позором за притеснения «революционеров». Последующая власть оказалась менее гуманной. В 1918–1919 годах на головы бывших чинов жандармерии и полицейских служащих обрушились невиданные репрессии. Сведения о них выявил в фондах Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ) и в жанре хроники опубликовал С.С. Балмасов [2].
В подготовленном исследовании он приводит многочисленные факты зверских расправ над бывшими служителями Закона. Все выявленные случаи привести в статье невозможно, да и в этом нет необходимости – с ними можно ознакомиться, взяв в руки книгу. Приведем лишь некоторые из имевших место в рассматриваемый период кровавых оргий.
Вот свидетельство мещанки г. Красноуфимска Пермской губернии А.И. Ивановой, приведенное С.С. Балмасовым: «Мой муж, Василий
Николаевич Иванов, служил вахмистром при Пермском губернском жандармском управлении. Минувшей осенью (1918. – В.К.), в начале сентября, муж мой был уведен каким-то солдатом, сказавшим, что его вызывает Чрезвычайная следственная комиссия, где он и был арестован… Через неделю … узнала, что муж мой был утоплен в Каме. При этом он предварительно был совершенно раздет и несколько раз погружался в воду, из которой его каждый раз вынимали и некоторое время морозили на открытом воздухе… Одновременно с мужем таким же способом были подвергнуты истязаниям еще 10 человек» [2, с. 69].
«Муж мой, Александр Васильевич Топорков, до Октябрьской революции служил в городе Воронеже помощником полицмейстера, – свидетельствовала другая невольная жертва революционного эксперимента – Анна Александровна Топоркова, – службу он эту оставил в последних числах июня 1917 г. и уехал в Пермь, где устроился на работу в одну из артелей. 28 августа 1918 г. он был арестован. В чрезвычайке мне сказали, что он, бывший полицейский, отправлен на общественные работы в Кизель, но в ноябре прошлого года я узнала, что мой муж расстрелян в числе других 37 человек».
Судьбу вышепоименованных служащих полиции разделил и житель Перми В.А. Шаврин, прослуживший около 10 лет в жандармерии. И таких «шавриных» оказалось немало…
Как правило, сведения о расстрелах местные советские власти скрывали. Однако в дни «красного террора», объявленного в ответ на убийство председателя питерского ЧК Урицкого, списки расстрелянных стали публиковаться в печати. Вот один из таких списков, помещенных на страницах «Известий Пермского губернского исполнительного комитета». Среди 44 человек, казненных по постановлению губчека были: штаб-ротмистр Лебель Г.С., начальник Кизеловской каторжной тюрьмы Бурмакин Д.А., помощник начальника тюрьмы Пашкин В.П., жардармский подполковник Чердынцев А.Н., жандармский полковник Егоров Н.Ф., охранник Котласской охранки Ткачев Е.Е., пристав Усолья Безенкович Г.П., полицейский урядник Фадеев И.О., помощник пристава Клуш И.А., бывшие жандармы Кузнецов П.Е., Казаков И.М., Дробнин А.К., Федосеев И.А., Федотов Ф.П., полицейский исправник Скуев [5].
В октябре того же года «Известия» опубликовали очередной список расстрелянных врагов революции, среди которых оказались: жандармский полковник Знамеровский П.Л., штаб-ротмистр Самарцев Л.В.; бывшие служащие Отдельного корпуса жандармов Терешко М.В.,
Некрасов Н.С., Богдангович С.П; полицейские Порошин В.Д., Топорков А.В., Гладких В.И., Левин Г.Ф., Гусев А.И., Печенкин А.И., Неверов В.Г., Спиридонов Н.Ф., Янов С.Д., Утробин Н.И., Лякомцев Д.А. [6].
Подобного рода репрессиям бывшие служители органов правопорядка подвергались и в других районах Урала. Не стала исключением и Челябинская губерния [20]. Буквально сразу с момента своего создания, Челябинское губчека стало рассылать специальные сводки о розыске лиц, объявленных контрреволюционерами. В число разыскиваемых помимо сотрудников контрразведки армии Колчака, попали и лица, принимавшие участие в гражданском управлении, в том числе бывшие сотрудники царской полиции и народной милиции периода Временного правительства. В частности, в розыске значились: бывший начальник милиции 2-го района г. Троицка Веденеев С.Д., бывшие жандармские офицеры Баскаков С.Н., Архипов П.М., Кутузов А.Г., Мальков Н.М., Носов В.Ф. и другие [11].
Фактов массовых расстрелов бывших офицеров Отдельного корпуса жандармов и полицейских на территории Челябинской губернии не выявлено. Имели место лишь отдельные судебные процессы в отношении бывших сотрудников колчаковской контрразведки и военной милиции, причастных к репрессиям против сторонников пролетарской власти. В частности, в августе 1920 года в губернском центре состоялся процесс над сотрудником военной милиции и контрразведки поручиком И. Гаспинасом, прежде работавшим помощником машиниста депо Челябинска [18]. Привлекались к ответственности и начальник уголовно-розыскного бюро Челябинска Л. Агапов и Е.И. Снежков, обвинявшиеся в преследованиях местных большевиков во время службы в колчаковской милиции.
Однако это не означает, что большевики отказались от преследования своих бывших оппонентов и противников, сложивших оружие и ничем уже не угрожавших укрепившейся власти. С самого начала своего создания архивная служба советской Республики оказалась в ведении ЧК и ее правопреемника ОГПУ–НКВД. Скромные архивные служащие тщательно изучали периодику, делопроизводственную документацию дореволюционных учреждений, воспоминания участников революционного движения и гражданской войны. Изучали и подробно выписывали фамилии бывших полицейских, сотрудников милиции периода Февральской революции, гласных городских Дум и служащих земских учреждений. Фамилии «бывших» заносились в специальные «Списки-справочники», которые имели подзаголовки. К примеру, «Список-справочник на лиц, служивших в контрразведке белых армий» или «Списки-справочники на контрреволюционный элемент, проходящий по архивным материалам» [13].
Велись специальные учеты на бывших членов мелкобуржуазных и антисоветских партий, на купцов и торговцев, церковнослужителей, участников белого движения… «Списки-справочники…» ежегодно пополнялись. В случае обнаружения и задержания фигуранта в ориентировки вносились соответствующие коррективы. В 30-е годы прошлого столетия они становились основанием для уголовного преследования советских граждан. Кроме того, при назначении на ответственные должности в советско-партийном и профсоюзном аппарате в обязательном порядке делался запрос в соответствующее управление НКВД о наличии компрометирующего материала. Если обнаруживалось, что претендент на должность, либо его родственники проходили по учетам НКВД, то дальнейшая судьба выдвиженца складывалась весьма печально. За отцов- полицейских по полной страдали их дети-комсомольцы 20-40-х годов ХХ века. В лучшем случае им давался отвод, в худшем – возбуждалось уголовное дело, и они становились участниками мифических антисоветских групп.
Опасной профессия полицейского остается и в новом тысячелетии. Полицейские и военнослужащие внутренних войск МВД России нередко гибнут при выполнении служебного долга.
10 ноября 2013 года в Челябинске был открыт мемориал погибшим полицейским, созданный по инициативе совета ветеранов правоохранительных органов области. На установленных по сторонам памятника стеллах выбиты фамилии погибших при исполнении служебного долга не только в советское время, но и некоторых служителей закона дореволюционного времени. Список этот далек от совершенства в плане полноты, но отрадно уже то, что в этом списке есть и фамилии погибших троичан. Наконец-то на деле прекратилось разделения погибших на «наших» и «не наших», или царских сатрапов, как именовали дореволюционных стражей правопорядка в недавние времена.
Список литературы Погибли при исполнении... и за исполнение
- Адрес-календарь и справочная книжка Оренбургской губернии на 1908 год. -Оренбург, 1908.
- Балмасов С. С. Красный террор на Востоке России в 1918-1922 гг. -М.: Посев, 2006.
- В сохранившихся документах существуют разночтения в написании фамилии -Чикрызов и Чекрызов.
- ГАОО. -Ф. 10. -Оп. 4. -Д. 408. -Л. 4 об.
- Известия Пермского губернского исполнительного комитета Совета рабочей армии и крестьянских депутатов. -1918. -№ 175. -11 сентября.
- Известия Пермского губернского исполнительного комитета Совета рабочей армии и крестьянских депутатов. -1918. -№ 198. -9 октября.
- К примеру, по данным губернаторского отчета за 1868 год, в губернии было совершено 13 преднамеренных убийств и зафиксировано всего 14 случаев нанесения побоев со смертельным исходом. См.: Справочная книжка Оренбургской губернии на 1870 год. -Оренбург, 1869. -С. 55.
- Казак. -1910. -16 декабря.
- Казак. -1911. -1 января.
- Казак. -1911. -15 января.
- ОГАЧО. -Ф. 287. -Оп. 1. -Д. 39. -Л. 16-54; 25-287.
- ОГАЧО. -Ф. Р-10. -Оп. 1. -Д. 107. -Л. 45.
- ОГАЧО. -Ф. Р-87. -Оп. 1. -Д. 60.
- Оренбургская губерния по реформе 1865 г. была разделена на две -собственно Оренбургскую и Уфимскую. В Оренбургскую вошли Оренбургский, Орский, Верхнеуральский, Троицкий и Челябинский уезды с населением более 850 тыс. человек. В составе губернии находились и земли одноименного казачьего войска.
- Оренбургские епархиальные ведомости. -1910. -6 декабря.
- Кобзов В. С. Впрок ли урок? (Размышление по поводу, учит ли чему история)//Юридическая теория и практика. -2006. -№ 2. -С. 116-120.
- Кобзов В. С., Романов В. И. Народная милиция Урала в период Февральской революции: моногр. -Челябинск, 2010.
- Советская правда. -1920. -№ 224. -25 августа.
- Форменное обмундирование, снаряжение и оружие полицейские обязаны были приобретать за собственный счет. В связи с тем, что их денежное содержание было незначительным, полицейские обычно приобретали оружие по принципу «Чем дешевле -тем лучше».
- Челябинская губерния была образована 3 сентября 1919 г. в составе Челябинского, Троицкого, Кустанайского и Миасского уездов. В декабре 1920 года в губернию вошел и Верхнеуральский уезд.