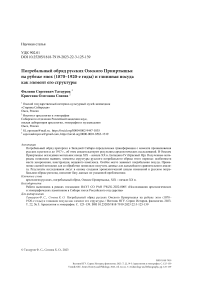Погребальный обряд русских Омского Прииртышья на рубеже эпох (1870-1920-е годы) и глиняная посуда как элемент его структуры
Автор: Татауров Ф.С., Сопова К.О.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Археология Евразии
Статья в выпуске: 3 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
Погребальный обряд претерпел в Западной Сибири определенные трансформации с момента проникновения русских в регион и до 1917 г., об этом свидетельствуют результаты археологических исследований. В Омском Прииртышье исследован могильник конца XIX - начала ХХ в. Евгащино IV (Красный Яр). Полученные материалы позволили выявить элементы структуры русского погребального обряда этого периода: особенности места захоронения, конструкции, вещевого комплекса. Особое место занимает погребальная посуда. Применение единой методики для ее обработки позволило получить данные для дальнейшего сравнительного анализа. Результаты исследования лягут в основу создания хронологической шкалы изменений в русском погребальном обряде региона, пополнят базу данных по указанной проблематике.
Археология русских, погребальный обряд, омское прииртышье, xix - начало xx в
Короткий адрес: https://sciup.org/147240206
IDR: 147240206 | УДК: 902.01 | DOI: 10.25205/1818-7919-2023-22-3-125-139
Текст научной статьи Погребальный обряд русских Омского Прииртышья на рубеже эпох (1870-1920-е годы) и глиняная посуда как элемент его структуры
К началу ХХ в. погребальный обряд русского православного населения России в сложившемся виде существовал уже не одно столетие, однако в различных регионах страны он имел свои специфические черты. Локальные традиции сохранялись и передавались из поколения в поколение.
Русские переселенцы, придя в Западную Сибирь в конце XVI в., принесли в этот регион свою культуру, которая постепенно менялась под воздействием местных природных и этнических факторов, переселенческих волн XIX в., революционных событий в начале ХХ в. и установления в этот период советской власти.
Погребальный обряд как часть культуры оказался подвержен влиянию указанных процессов, что подтверждается результатами археологического изучения некрополей. В 2020 – 2021 гг. в Омском Прииртышье Ф. С. Татауровым исследован могильник Евгащино IV (Красный Яр). Он представляет собой заброшенную часть кладбища ныне не существующей д. Красный Яр в Большереченском районе Омской области. Деревня была основана в 1776 г. служилыми людьми. На момент переписи населения 1926 г. в ней проживало 393 чел.: 189 мужчин и 204 женщины, в основном русские [Список населенных мест…, 1928, с. 8]. В 1970 - е гг.
данный населенный пункт был ликвидирован как «неперспективный» в рамках соответствующей государственной политики. По обнаруженному археологическому материалу некрополь датируется 1870 – 1920 гг.
Цель исследования – на основе полученного материала выявить основные элементы структуры русского погребального обряда указанного периода в Омском Прииртышье. Задачи исследования: проанализировать место и особенности захоронения, погребальный вещевой комплекс, произвести системный анализ коллекции погребальной посуды, обнаруженной на памятнике.
Обращаясь к рассмотрению погребального обряда русских Западной Сибири, следует признать высокую степень изученности проблематики. Исследован ряд как городских: Тара, Кузнецкий острог, Томск, Тобольск и др., так и сельских некрополей: в Омском Прииртышье это памятники Ананьино I и Изюк I; в Нижнем Прииртышье – Горноправдинский некрополь; в Верхнем Притомье – могильник у с. Ильинского под Новокузнецком. Написаны работы [Татаурова, 2010; Зайцева, Кениг, 2014; Ширин, 2011; Бердников, 2011], в которых реконструируется планиграфия кладбищ, прослежена эволюция обрядовых практик в ретроспективе, на основе материальных элементов смоделирована схема этапов погребального обряда.
Обобщив результаты исследования погребальных комплексов Западной Сибири XVII – XIX вв., Ф. С. Татауров отследил социальные признаки в погребальном обряде и на основании этого сделал следующие выводы: выбор погребальной конструкции (колоды или гробы) не несет в себе социально маркирующих черт, оба типа погребальных конструкций применялись на протяжении указанного периода. Социально дифференцирующую нагрузку несли следующие элементы: место захоронения относительно центра кладбища (церкви); наличие или отсутствие надмогильного сооружения (склепа); наперсные кресты как исключительный атрибут священства; кресты-тельники из драгоценных металлов; одежда из дорогих привозных тканей (шелка, атласа, бархата); форменная одежда (мундир); аксессуары костюма (пуговицы, позумент, украшения из дорогих материалов) [Татауров, 2018, с. 156].
Для некрополей XIX – начала ХХ в. по материалам Верхнего Приобья А. А. Воробьёвым-Исаевым выявлены следующие закономерности православных захоронений: 1) грунтовый способ захоронения, концентрация могил группами на территории кладбища, рядность в их расположении; 2) наличие дощатых гробов, скрепленных гвоздями и скобами, или долбленых колод; 3) наличие на дне колоды отверстия, стружек, подушки под головой, наполненной березовыми листьями, или березового веника; 4) хоронили вытянуто, на спине, головой на запад; 5) руки клали скрещенными на груди; 6) умершего обряжали в специальную погребальную одежду или обычную – повседневную, праздничную; 7) наличие атрибутов веры (нательного креста, иконок, писания); 8) отсутствие украшений из металлов (кроме меди) и бытовых предметов; 9) наличие монет в грунтовой яме или на крышке гроба (колоды); 10) если присутствует надмогильное сооружение, то, как правило, это помост и покрытие из толстых плах [Воробьёв-Исаев, 2008, с. 193].
Место и особенности захоронения
Некрополь расположен на краю высокого мыса, образованного коренной террасой западного берега р. Иртыш. Ближайшие дома д. Красный Яр находились в 150–200 м от памятника. Могильное поле окружено рвом шириной до 2,5 м, глубиной до 0,6 м, такая четко определенная граница предопределила высокую плотность захоронений. Подобная ситуация отмечается и на некрополях Прииртышья XVII–XVIII вв.: Изюк I и Ананьино I [Татаурова, 2010, с. 155; Этнографо-археологические комплексы…, 2016, с. 40]. Нередки случаи, когда могилы располагались ярусами. В заполнении могильных ям встречено большое количество костей из разрушенных погребений. Равнодушное отношение к более ранним захоронениям на сельских кладбищах Прииртышья в некоторых местах сохраняется и в настоящее время. По свидетельству Л. В. Татауровой, в ходе этнографических наблюдений за современным погребальным обрядом в д. Кукарка Седельниковского района Омской области зафиксировано изъятие более ранних костяков в ходе копки современных ям 1.
Глубина погребений сильно варьируется: детские – от 35 до 160 см, взрослые – от 110 до 170 см. Как и на более ранних некрополях, отсутствует единый стандарт глубины могильных ям. В частности, на могильнике комплекса Изюк I (Большереченский район Омской области), который относится к концу XVII - XVIII в., глубина от современной дневной поверхности взрослых могил в среднем от 60 до 135 см; детских – от 20 до 95 см [Татаурова, 2010, с. 228 – 231]. Указанный памятник расположен на противоположном от Евгащино IV берегу Иртыша, в 10 км к северу. На могильнике комплекса Ананьино I (XVII – XVIII вв.) глубина захоронений не превышала 50 см [Этнографо-археологические комплексы…, 2016, с. 40 – 60].
Все могильные ямы, для которых удалось зафиксировать границы, имеют овальную или прямоугольную форму, с вертикальными стенками. Большинство захоронений ориентировано по линии «запад - восток». Однако встречаются ориентации на северо - запад - юго-восток, в паре случаев костяки внутри погребальных конструкций лежали головой на восток. Отсутствие строгой ориентации захоронений характерно для всех деревенских кладбищ XVIII – XIX вв. без церкви [Татаурова, 2010, с. 75].
По типам погребальных конструкций могилы разделяются на захоронения в деревянных долбленых колодах (домовинах) и гробах из досок, сбитых железными гвоздями. Из 133 захоронений некрополя Евгащино IV 72 в гробах, из них 21 взрослых; 61 в колодах, из них 16 взрослых. Встречены ситуации, когда в погребениях, залегающих на одном уровне вплотную друг к другу, гробы соседствовали с колодами.
На русских памятниках более раннего времени единообразие в использовании погребальных конструкций также отсутствует. В Тобольске, на втором городском кладбище в XVII в., в колодах хоронили преимущественно детей, а для взрослых изготавливали гробы из досок [Балюнов, Данилов, 2013, с. 51–52]. На Горноправдинском некрополе второй половины XVIII – XIX в. в 29-ти случаях зафиксированы захоронения в колодах, в 6-ти – в гробах [Зайцева, Кениг, 2014, с. 24]. На некрополе Умревинского острога второй половины XVIII – XIX в. из 23 захоронений 16 в колодах, 3 в гробах [Воробьёв-Исаев, 2006, с. 53]. В комплексе Изюк I из 261 погребения было всего два гроба, одно детское захоронение в люльке, остальные 258 захоронений – в колодах [Татаурова, 2010, с. 56].
Соответственно, мнение о том, что гробы пришли на смену колодам [Кремлева, 1999, с. 517], неверно. Как видно из представленных материалов, оба вида погребальных конструкций продолжали использоваться как минимум до 30-х гг. ХХ в. Это подтверждается и собранными в близлежащем с. Евгащино этнографическими данными, показывающими, что использование долбленых колод для погребения практиковалось до середины XX в. [Та-таурова, 2010, с. 90, 91].
Форма колод, зафиксированная на некрополе Евгащино IV, в основном шестиугольная, с расширением в верхней трети (в районе локтей скелета). Их внутреннее обустройство можно разделить на два типа: с подголовником в виде оставленного выше дна деревянного выступа у короткой стенки колоды у головы и без него. Такое деление характерно для этого типа погребальных конструкций и на ранних памятниках [Там же, с. 86].
Гробы в основном трапециевидной формы, сужающиеся к ногам скелета, с плоской крышкой. Однако в ряде детских захоронений они представляют собой прямоугольные ящики. Отдельно стоит отметить хорошо сохранившийся гроб в форме объемной трапеции, по форме близкий к некоторым современным образцам.
В пяти случаях дно гроба (4 эпизода) или колоды устлано стружкой, в двух случаях стружка только под головой, еще в одном – под головой и ногами. По одному разу под головой встречены солома и опилки, в одном случае под голову положены веник и горсть зерна. Практика использования стружки, соломы в обустройстве погребального ложа была широко распространена в похоронном обряде русских, а также отмечена А. И. Бобровой у коренного населения Среднего Приобья в период его христианизации [Воробьёв-Исаев, 2008, с. 193].
В трех случаях внутреннее пространство гроба специально засыпано землей или глиной, хотя крышка оставалась целой. Подобная практика отмечена в материалах памятника Изюк I, где половина взрослых погребений внутри колоды засыпана землей; среди детских захоронений таких случаев меньше. Это связывается с сезонными (зимними) погребениями [Татау-рова, 2010, с. 197–246].
По результатам изучения места и особенностей захоронений на некрополе Евгащино IV можно сделать следующие выводы. Кладбище было устроено на специально оборудованном месте, при этом плотность захоронений на могильном поле очень высока. Детские погребения в основном менее глубокие, чем взрослые. Ориентация З – В соблюдалась нестрого. Гробы и колоды представлены практически в равном количестве. В единичных случаях дно гроба или колоды выстилалось стружкой или опилками.
Погребальный вещевой комплекс
Обнаруженные в могилах предметы можно разделить на три основные группы: погребальная посуда, нательные кресты и элементы костюма (одежда, пуговицы).
Коллекция погребальной глиняной посуды включает в себя 79 археологически целых сосуда.
Керамика в могилы ставилась как возле ног, так и возле головы, в отдельных случаях слева или справа от гроба (колоды). Из 38 взрослых погребений сосуды присутствовали в 12 (31,6 %), из 95 детских – в 56 (59 %), целые сосуды все поставлены на дно.
В типовом разнообразии наиболее часто встречаются крынки (33 шт.) и горшки (19 шт.). Кроме того, обнаружены такие типы посуды как: банки – 11 шт., миски – 9 шт., один кувшин и одна глиняная подставка, на которой стоял горшок. Интересными представляются сосуды переходной формы от горшка к крынке – 6 шт.
Керамика как массовый материал требует строгой и единой системы обработки. Качественный сравнительный анализ предполагает использование сопоставимых критериев. При обработке коллекции керамики применялась методика В. Ф. Генинга для характеристики пропорций сосудов. Для группировки по размерам лучшие результаты дает среднеарифметическое определение каждого параметра [Генинг, 1973]. Вычислены высотный, высотно-горловинный, широтно-горловинный указатели, указатель профилировки шейки, высотный указатель тулова, плечика, выпуклости плечика и ширины днища сосудов. Наиболее часто встречающиеся указатели форм внутри разных типов посуды представлены в табл. 1.
Определив соотношения отдельных параметров сосудов, мы получили данные, необходимые для описания погребальной керамики.
Внутри типов посуды проанализирована морфология венчиков по классификации В. Ю. Коваля [2014].
Крынки (см. рисунок, 1 ). По способу производства большинство крынок (15 шт.) относятся к раннекруговой керамике. Она изготавливалась на 1–3 этапах развития функции гончарного круга – формовалась скульптурной лепкой, при этом внешняя поверхность таких крынок заглаживалась [Бобринский, 1978, с. 37 – 51]. Целиком сформованы вытягиванием на гончарном круге 12 крынок, 6 сосудов выполнены в технике ручной лепки.
Группировка по признаку режима обжига выявила, что 29 крынок относятся к керамике с обжигом в восстановительной среде. Она создавалась при ограничении свободного доступа кислорода. Для такой керамики характерен темно-серый, черный цвет поверхности и излома.
Четыре крынки обожжены в горнах со свободным доступом воздуха – в окислительной среде, и имеют красноватый, светло-коричневый цвет черепка.
Указатели формы сосудов могильника Евгащино IV по методу В. Ф. Генинга [1973]
Indicator of the shape of the pottery of the Evgenashino IV burial ground according to the method of V. F. Gening [1973]
Таблица 1
Table 1
|
Тип посуды |
ФА |
ФБ |
ФВ |
ФГ |
ФД |
ФЕ |
ФЖ |
ФИ |
|
Крынки |
1,21 |
4,26 |
0,78 |
0,07 |
0,93 |
0,35 |
0,37 |
0,23 |
|
Горшки |
0,97 |
2,3 |
0,77 |
0,78 |
0,9 |
0,46 |
0,35 |
0,31 |
|
Банки |
1,2 |
2,42 |
0,81 |
–0,05 |
1,03 |
0,34 |
0,38 |
0,12 |
|
Миски |
0,49 |
0,11 |
1,03 |
0,27 |
0,55 |
0,41 |
–0,28 |
0,6 |
|
Кувшин |
1,02 |
2,85 |
1,98 |
–3,25 |
0,55 |
0,5 |
–0,05 |
0,33 |
Примечание : ФА – указатель высотности; ФБ – высотно-горловинный; ФВ – широтно-горловинный; ФГ – профилировка шейки; ФД – высотный указатель тулова; ФЕ – высотный указатель плечика; ФЖ – указатель выпуклости плечика; ФИ – указатель ширины дна.

Типы керамической посуды и разнообразие морфологии венчиков Могильник Евгащино IV:
1 – крынка и варианты профилировки венчиков крынок; 2 – горшок и варианты профилировки венчиков горшков; 3 – банка и варианты профилировки венчиков сосудов баночной формы; 4 – миска и варианты профилировки венчиков мисок; 5 – сосуд переходной формы от горшка к крынке и варианты профилировки венчиков сосудов; 6 – кувшин и профилировка венчика
Types of pottery and a variety of morphology of its edge Burial ground Evgashino IV:
1 – milk jar and variants for profiling of its edge; 2 – pot and variants for profiling of its edge; 3 – jar and variants for profiling of its edge; 4 – bowl and variants for profiling of its edge; 5 – vessel of transitional shape from a pot to a milk jar and variants for profiling of its edge; 6 – jug and its edge profiling
Большинство крынок (17 шт.) находилось в детских погребениях (15 расположены в детских могилах у ног и 2 – возле головы). Во взрослых погребениях обнаружено только 6 крынок. Остальные 10 крынок найдены в заполнении раскопа вне могильных ям.
В двух взрослых захоронениях у головы обнаружены крынки с дополнительной обработкой поверхности в виде небрежного полосчатого лощения. В трех взрослых и в одной детской могиле - полностью лощеные сосуды. Остальные экземпляры без дополнительной обработки поверхности.
Морфологический анализ венчиков позволил выявить типичные классы для погребальных крынок памятника Евгащино IV. Это вертикальные венчики с круглым или заостренным «чистовым» краем, иногда слегка отогнутым (угол отклонения не более 15º) и вертикальные венчики с небольшим отогнутым наружу устьем (см. рисунок, 1 ).
Проведя анализ размера отдельных деталей сосудов, мы выявили наиболее характерные параметры формы внутри типа: высокие крынки, с высоким и широким горлом, с вытянутым туловом, высокими слабовыпуклыми плечиками и очень широким дном.
Горшки (см. рисунок, 2 ). Большинство (12 шт.) вытянуты из цельного куска глины на гончарном круге. Стенки сосудов равномерной толщины и имеют волнообразное рифление -горизонтальные следы ротации от гончарного круга. Четыре горшка выполнены методом скульптурной лепки с последующей доработкой венчика на гончарном круге, и три сосуда полностью выполнены вручную лепным способом. По способу обжига 11 горшков относятся к керамике восстановительного обжига и 8 - окислительного.
В качестве дополнительной обработки поверхности для горшков характерно покрытие глазурью: один покрыт снаружи глазурью зеленого цвета, обнаружен в детском погребении в районе ног; 6 горшков покрыты глазурью коричневого цвета, встречены как в детских, так и во взрослых погребениях. Примечателен сосуд, покрытый коричневой глазурью с нагаром по венчику и плечикам с внешней стороны горшка. Он был поставлен возле ног в детском погребении. Наличие нагара с внешней стороны сосуда - явный признак его активного использования в быту для приготовления пищи. Горшки без дополнительной обработки поверхности обнаружены как в детских, так и во взрослых погребениях. Примечательны два горшка очень низкого качества производства. В составе глиняного теста обоих - большое количество органики, они выполнены методом ручной лепки с неровным краем венчика, для них характерна большая толщина стенок. Один такой сосуд в детском погребении, другой -во взрослом. Всего в детских погребениях найдено 12 горшков, во взрослых - три горшка, и четыре горшка обнаружено в заполнении раскопа.
Морфологический анализ венчиков горшков показал, что преобладают два класса венчиков среди этого типа: 1) сосуды с плавно изогнутым в наружную сторону венчиком с закругленным краем (варианты различаются несколько расширенным краем и очень малой высотой венчика); 2) вертикальные венчики с округлым краем (см. рисунок, 2 ).
Анализ параметров деталей горшков выявил, что большинство горшков из коллекции можно описать следующим образом: это горшки средней высоты, средние по высоте горла и широкие по широтно-горловинному указателю, со слабопрофилированной шейкой, округлым туловом, высоким и слабовыпуклым плечиком, широким дном.
Банки (см. рисунок, 3 ). Для этой посуды характерно ручное лепное производство путем наращивания лент или жгутов. Девять сосудов изготовлено именно таким способом, и только два доработаны на круге. Все найденные банки обожжены в восстановительной среде. Дополнительная обработка поверхности не характерна, только несколько сосудов имеют следы хаотичного заглаживания. Большинство банок (8 шт.) низкого качества производства, с наличием большого количества примесей органики в тесте. Несмотря на качество изготовления, это единственная форма, у которой присутствует декор. Встречаются сосуды (две банки) с вдавленным орнаментом прямоугольной формы концентрического размещения и одна банка с вдавленным округлым орнаментом. У двух сосудов - вдавленный орнамент в виде прочерченного креста на плечике.
Все сосуды этого типа обнаружены возле детских погребений в области ног, только один сосуд находился рядом с головой. Венчики банок вертикальные с округлым, слегка отогнутым краем (см. рисунок, 3 ).
Параметры сосудов баночной формы: средние и высокие, со средним по высоте и широким горлом, с наклоненной внутрь или слабопрофилированной шейкой, с округлым или вытянутым туловом, высоким, слабовыпуклым плечиком, с очень широким дном.
Миски (см. рисунок, 4 ). Все миски сформованы вытягиванием на гончарном круге. На дне сосудов следы среза с круга нитью или струной. Обожжены в окислительной среде.
Отличительная особенность этого типа погребальной посуды – покрытие глазурью коричневого, терракотового или зеленого цвета как внутри сосуда, так и снаружи. Одна миска орнаментирована гребенчатым вдавленным орнаментом вокруг плечика. Эта миска обнаружена рядом с погребением взрослого. Четыре миски – рядом с детскими могилами, остальные – в общем заполнении раскопа. Венчики мисок вертикальные, округлые, либо отогнутые наружу (см. рисунок, 4 ).
Анализ размерных характеристик выявил, что это низкие, с очень низким и широким горлом, со среднепрофилированной шейкой, приплюснутым туловом, высоким и слабовыпуклым плечиком, среднедонные.
Наиболее интересными из погребальной керамики могильника Евгащино IV представляются сосуды, которые мы относим к переходной форме от горшка к крынке (см. рисунок, 5 ). Для них характерна высокая шейка, обычно свойственная крынкам, но при этом они имеют большой диаметр основания шейки и тулова – типичные для горшковидных форм. Этот тип посуды имеет большее морфологическое разнообразие в оформлении края венчика. Встречаются как отогнутые наружу, прямоугольной формы венчики, так и загнутые внутрь, округлые и вертикальные с утолщением (см. рисунок, 5 ). Все сосуды этого типа – восстановительного обжига и лепного производства. Дополнительная обработка поверхности отсутствует. Посуду переходной формы отличает низкое качество изготовления и присутствие органических примесей в тесте, что не характерно для горшков и крынок, найденных на памятнике.
Из всего разнообразия типов посуды, обнаруженных на памятнике, в единственном экземпляре представлен кувшин (см. рисунок, 6 ). Зафиксирован возле взрослого погребения, у ног. Изготовлен вытягиванием из цельного куска глины на гончарном круге и обожжен в восстановительной среде. На дне фиксируются следы среза нитью с круга. Покрыт глазурью коричневого цвета. Венчик кувшина прямой, шейка слегка отогнута наружу (см. рисунок, 6 ). По своим размерным характеристикам кувшин средней высоты, со средневысоким и широким горлом, со среднепрофилированной шейкой, присплюснутым туловом, с высоким, слабовыпуклым плечиком, широкодонный.
Мы видим большое типовое разнообразие глиняной посуды, использовавшейся в погребальном обряде русского населения Омского Прииртышья конца XIX – начала XX в. Большинство сосудов обнаружено в детских погребениях. В целом это изделия высокого качества, часто покрытые глазурью, со следами бытового использования.
Традиция, связанная с опусканием в могилу глиняной посуды, в Сибири фиксируется с XIX в. Посуда с углями использовалась при окуривании умершего, его жилища и гроба до совершения похорон, сопровождала покойного до кладбища, использовалась при окуривании могилы и помещалась в могилу вместе с гробом у ног или головы погребенного [Воробьёв, 2001, с. 506]. На некрополе Евгащино IV в 36 случаях из 79 внутри сосудов обнаружены угли (в двух случаях с золой), в одном – щепа. В одном случае уголь найден под гробом, в двух случаях – рядом.
По мнению исследователей, опускание посуды в могилу – черта древнейшего, дохристианского обряда тризны [Панова, 2004, с. 155]. Разные его вариации встречаются практически во всех восточнославянских культурах [Славянские древности, 1995, с. 527]. Горшок как атрибут культа предков [Там же, с. 527 – 528] и огонь как защитная грань между миром живых и миром мертвых [Славянские древности, 2004, с. 517] сочетаются в этом обряде. Сюда же можно отнести связь с древней практикой трупосожжения; идеей домашнего очага, переносимого в загробный мир [Воробьев, 2001, с. 508; Мамонтова, 2012, с. 92].
Отдельного упоминания заслуживает находка половинки фаянсовой тарелки в одном из детских погребений. На обратной стороне предмета – клеймо «К. П. Чеканова», что позволяет датировать время ее производства 1846–1870 гг. [Сауков, Мергенева, 2020, c. 284].
Второй инвентарной группой по количеству находок стали нательные крестики. Они обнаружены в 60 захоронениях из 133 (в 17 взрослых и 43 детских). Распределение крестов по типам, согласно типологии В. И. Молодина [2007, c. 38–87], представлено в табл. 2.
Таблица 2
Распределение нательных крестов по типам
Distribution of pectoral crosses by type
Table 2
|
Тип креста |
Количество |
|
Тип 1 |
20 |
|
Тип 4 |
2 |
|
Тип 5 |
9 |
|
Тип 6 |
3 |
|
Тип 7 |
5 |
|
Тип 8 |
12 |
|
Тип 13 |
6 |
|
Фрагменты / неопределимые |
3 |
Тип 13 отсутствует в типологии В. И. Молодина, он был выделен И. Д. Кромм и И. М. Бердниковым на основании материалов из памятников Омского Прииртышья: Изюк I и Ананьи-но I, а также Крестовоздвиженского некрополя в г. Иркутске [Кромм, Бердников, 2012, с. 225]. По мнению авторов, такие крестики можно датировать второй половиной XIX в. [Там же, с. 224, 225].
Большинство крестов медные, лишь два предмета изготовлены из серебра. Прямые аналоги можно встретить в материалах Крестовоздвиженского некрополя в Иркутске [Бердников, 2012б, с. 147]. Одиннадцать крестов покрыто эмалью синего цвета.
В целом такое распределение крестов 1–7 типов характерно для русских могильников Сибири, в качестве примеров назовем Изюк I [Кромм, Бердников, 2012, с. 224], Илимский острог [Молодин, 2007, с. 38 – 87], Спасский некрополь Иркутска [Бердников, 2012а, с. 166]. Значительное количество крестов 8-го и 13-го типов объясняется поздним временем существования памятника, на могильниках XVII–XVIII вв. подобных предметов не выявлено [Кромм, Бердников, 2012, с. 224 – 225]. Они изготовлены методом штамповки, а не отлиты, характеризуются невысоким качеством, в отличие от культового литья «старообрядческих» форм, и, вероятно, их распространение в среде православных является немаловажным хронологическим маркером эволюции данного элемента религии как таковой.
Кроме крестов к культовой медной пластике относятся находки трех карманных складней. Первый был обнаружен в захоронении пожилой женщины. Лежал в раскрытом виде чуть ниже ключиц. На нем изображена икона «Великомученица Параскева Пятница с избранными Святыми». Великомученица держит в правой руке восьмиконечный крест, а в левой – свиток. На створках изображены святые с указанием имен. На прямоугольном завершении складня – образ «Спаса Нерукотворного». По особенностям иконографии икону можно датировать XVIII–XIX вв. 2
Образ Параскевы Пятницы у православных славян основан на персонификации пятницы как дня недели и культе святой Параскевы [Славянские древности, 2004, с. 631].
Второй складень был обнаружен в захоронении взрослого мужчины между ключиц. Боковые створки не сохранились. На предмете изображена достаточно редкая икона «Преподобный Тихон Луховский». Преподобный представлен в образе старца в монашеском куколе с посохом в руке. Канонизирован в 1570 г., почитался как чудотворец в Верхнем Поволжье. Географически это регион от Кажирова (совр. Костромской области) и окрестностей Ветлуги (совр. Нижегородской области) до сел совр. Заволжского района, Вичуги, окрестностей Луха (совр. Ивановской области) и окрестностей Нерехты (совр. Костромской области) 3. Можно сделать вывод о том, что какая-то часть переселенцев, избравших в XIX в. для проживания д. Красный Яр, были родом из этих земель.
От третьего предмета сохранилась только центральная часть. Он был обнаружен вне захоронений, в ходе сбора подъемного материала под берегом вдоль некрополя. Представляет собой часть складня деисусного чина, на внутренней стороне которого изображена Богоматерь Агиосоритисса, или Боголюбская икона Божьей Матери. На внешней стороне предмета – восьмиконечный крест на голгофе, по сторонам которого расположены копье и трость. Буквы титулатуры вокруг креста затерты, однако по аналогиям с нательными крестиками можно прочитать там следующие надписи: ЦРЬ (царь) СВЫ (славы) ИС (Иисус) ХС (Христос) СНЪ (сын) БЖИ (божий) <…> К (копье) Т (трость) МЛ (место лобное) РБ (рай бысть). Общерусское почитание иконы Боголюбской Богоматери начинается в последней трети XVII в [Православная энциклопедия, 2002, с. 459 – 463]. Изображение на складне соответствует первому варианту первого иконографического извода, распространенному в конце XVII – XVIII в., который точно копирует древний образец, где кроме образа Богородицы другие святые на иконе отсутствуют [Там же].
Медные иконы и складни на Руси появились в XI–XII вв. в подражание византийской традиции [Гнутова, 1993, с. 16]. После церковного раскола в XVII в. они стали атрибутом старообрядчества, окончательно запрет на них был закреплен указами Петра I от 1722 и 1723 гг. «О воспрещении употреблять в церковных и частных домах резные и отливные иконы» [Савина, 1993, с. 48]. Ситуация изменилась во второй половине XIX в., когда был снят запрет на производство и продажу медных икон и складней, это привело к бурному росту отрасли и появлению большого количества литейных мастерских [Там же, с. 50].
Кроме медных образков в одном детском погребении обнаружена бумажная икона Тихвинской Божьей Матери, поставленная в изголовье внутри гроба. Широкое распространение подобные предметы получили во второй половине XIX в. [Тарасов, 1995, с. 253 – 254].
Интересна находка в одной из могил фрагмента бумаги с изображением купола храма, обрамленного растительным орнаментом. Предмет находился между челюстей (во рту) скелета.
В одном случае на черепе погребенного обнаружен след от бумажного венчика с надписью «Спаси и Сохрани». Эти изделия стали широко внедряться в погребальную практику только после указов Святейшего Синода 1870 – 1871 гг. [Воробьёв-Исаев, 2008, с. 196].
Обращаясь к погребальному костюму, можно сделать вывод, что специальную одежду для погребения изготавливали редко. Зафиксировано три случая использования савана, все в детских погребениях. В двух случаях (в одной детской и одной взрослой могилах) лицо покойного было накрыто тканью. При этом обнаружены фрагменты одежды, которую можно отнести к праздничной: шелковый платок в одном из взрослых женских погребений, брюки из плотной ткани во взрослом мужском погребении, в 20 захоронениях найдены пластмассовые пуговицы от мужских и женских рубах. В четырех – кожаные чирки – традиционная погребальная обувь русского населения Омского Прииртышья в XVII–XVIII вв. [Богомолов, Та-таурова, 2014].
В семи взрослых женских захоронениях на черепе сохранились волосы, собранные в прическу – две косы, заплетенные с боков и уложенные «корзиночкой». Подобная форма погре- бальных причесок известна как в погребальном обряде XVII–XVIII вв., так и по результатам этнографических наблюдений [Татаурова, 2010, с. 182, рис. 56].
Заключение
Изучение основных элементов структуры русского погребального обряда в Западной Сибири второй половины XIX – начала ХХ в. долгое время считалось задачей этнографов, а не археологов. Однако, несмотря на этнографические исследования трех последних десятилетий, «проблематика традиционных форм погребально-поминальной обрядности русских Западной Сибири в настоящее время остается относительно слабо изученной» [Межевикин, 2019, с. 274].
По материалам некрополя Евгащино IV прослежены основные элементы структуры погребального обряда конца XIX – начала ХХ в. Омского Прииртышья. Как и на более ранних памятниках, кладбище устраивалось на огороженном месте близ поселения, плотность захоронений могильного поля очень высока. Детские погребения в основном неглубокие в отличие от взрослых. Ориентация З – В для могил и умерших соблюдалась нестрого. Зафиксирована равнозначность использования гробов и колод. Случаи выстилания дна гроба или его части стружкой или опилками единичны.
Погребальный инвентарь разнообразен, ключевое место в нем занимают керамические сосуды. Вероятно, их наличие в могилах является отголоском древнейшего обряда тризны, распространенного у всех восточных славян. Значительная часть сосудов высокого качества производства, со следами бытового использования, лишь десяток предметов низкого качества: банки и переходные формы от горшка к крынке, которые могут являться специальной погребальной посудой. Косвенно это подтверждается изображениями крестов на некоторых из них.
Коллекция нательных крестов, собранных на памятнике, отражает процесс перехода от «старообрядческих» форм культового литья к штампованным изделиям невысокого в целом качества, что является немаловажным хронологическим маркером эволюции данного элемента православной религии как таковой. Сюда же можно отнести появление в погребальном обряде печатных бумажных икон, венчиков и т. п. При этом одновременное использование меднолитых образков в качестве предметов личного благочестия позволяет говорить о длительном сохранении некоторых «старообрядческих» черт в повседневной религиозной практике, проникновении их в среду всех русских православных. В качестве погребального костюма использовалась «праздничная» одежда, наличие савана и специальной погребальной обуви встречается редко. Стоит отметить сохранение форм женских погребальных причесок на некрополях Омского Прииртышья.
Материалы проведенных исследований пополнят базу данных по погребальному обряду русских Западной Сибири второй половины XIX – начала ХХ в., и позволят выстроить хронологическую шкалу его изменения от времени прихода русских в регион и до современности.
Список литературы Погребальный обряд русских Омского Прииртышья на рубеже эпох (1870-1920-е годы) и глиняная посуда как элемент его структуры
- Балюнов И. В., Данилов П. Г. Археологи открывают тайны Софийского собора // Наследие Тюменской области. 2013. № 1 (3). С. 50-53.
- Бердников И. М. Некрополи Иркутска XVIII-XIX вв. Результаты археологических исследований // Культура русских в археологических исследованиях: Сб. науч. тр. Омск, 2011. С. 275-282.
- Бердников И. М. Кресты-тельники из раскопок некрополя Спасской церкви города Иркутска // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012а. Т. 11, № 7. С. 164-178.
- Бердников И. М. Нательные кресты, иконы и образки из раскопок Крестовоздвиженского некрополя (г. Иркутск) // Изв. Иркут. гос. ун-та. Серия: Геоархеология. Этнология. Антропология. 2012б. № 1 (1). С. 138-165.
- Бобринский А. А. Гончарство Восточной Европы. М.: Наука, 1978. 274 с.
- Богомолов В. Б., Татаурова Л. В. Погребальная кожаная обувь русских Омского Прииртышья XVII-XVIII вв. // Культура русских в археологических исследованиях: Сб. науч. тр. Омск; Тюмень; Екатеринбург: Магеллан, 2014. Т. 2. С. 7-18.
- Воробьев А. А. Сосуды с углями из русских погребений Верхнего Приобья и Барабы как объект археолого-этнографического изучения // Историко-культурное наследие Северной Азии: итоги и перспективы изучения на рубеже тысячелетий. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2001. С. 506-508.
- Воробьёв-Исаев А. А. Духовная сторона православного обряда погребения по археологическим источникам // Культура русских в археологических исследованиях: Сб. науч. ст. Омск, 2008. С. 192-201.
- Воробьёв-Исаев А. А. Погребальные памятники российского освоения верхнеобского региона XIX - начала ХХ в.: Дис. … канд. ист. наук. Новосибирск, 2006. Т. 2. 94 с.
- Генинг В. Ф. Программа статистической обработки керамики из археологических раско пок // СА. 1973. № 1. С. 114-135.
- Гнутова С. В. Медная мелкая пластика Древней Руси (типология и бытование) // Русское медное литье: Сб. ст. М., 1993. Вып. 1. С. 7-20.
- Зайцева Е. А., Кениг А. В. Погребальная обрядность русского старожильческого населения Нижнего Прииртышья XVIII-XIX вв. (по материалам раскопок могильника Горноправдинский) // Культура русских в археологических исследованиях: Сб. науч. ст. Омск; Тюмень; Екатеринбург: Магеллан, 2014. Т. 2. С. 23-27.
- Коваль В. Ю. Первичная статистическая фиксация массового керамического материала на памятниках эпохи Средневековья (X-XVII вв.) и раннего железного века лесной зоны Восточной Европы (методические рекомендации) // Археология Подмосковья: Материалы науч. семинара. М., 2014. Вып. 10. С. 489-572.
- Кремлева И. А. Похоронно-поминальные обычаи и обряды // Русские. М.: Наука, 1999. С. 517-533.
- Кромм И. Д., Бердников И. М. Выявление возможности датирования ставрографической коллекции Омского Прииртышья методом сравнительного анализа с материалами из некрополей г. Иркутска // Вестник Ом. гос. ун-та. 2012. № 4. С. 222-226.
- Мамонтова О. С. Керамика как элемент похоронного обряда русского населения Алтая XIX - первой четверти ХХ в. // Вестник Том. гос. ун-та. История. 2012. № 362. С. 91-92.
- Межевикин И. В. Источники по изучению динамики погребально-поминальной обрядности русских Западной Сибири // Вестник Ом. гос. ун-та. Серия: Исторические науки. 2019. № 4 (24). С. 271-281.
- Молодин В. И. Кресты-тельники Илимского острога. Новосибирск: Инфолио, 2007. 248 с.
- Панова Т. Д. Царство смерти. Погребальный обряд средневековой Руси XI-XVI веков. М.: Радуница, 2004. 181 с.
- Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 2002. Т. 5. 751 с.
- Савина Л. Н. К истории производства и бытования медного художественного литья в XIX - начале ХХ века // Русское медное литье: Сб. ст. М., 1993. Вып. 1. С. 48-55.
- Сауков Г. Н., Мергенева К. Н. Фаянсовая посуда уральских производителей XIX - начала XX века из Раскопа городской усадьбы (Курган, ул. Куйбышева, 21): информационные возможности вещественного источника // Роль вещественных источников в информационном обеспечении исторической науки: Сб. ст. / Под ред. Д. М. Бондаренко, Д. Н. Масложенко. М., 2020. С. 273-290.
- Славянские древности: Этнолингвистический словарь. М.: Международные отношения, 1995. Т. 1. 584 с.; 2004. Т. 3. 689 с.
- Список населенных мест Сибирского края. Новосибирск: Сов. Сибирь, 1928. Т. 1: Округа Западной Сибири. 824 с.
- Тарасов О. Ю. Икона и благочестие: очерки иконного дела в императорской России. М.: Прогресс-культура, 1995. 498 с.
- Татауров Ф. С. Русские погребальные комплексы Западной Сибири XVII - первой половины XIX в. как источник для реконструкции социально-культурного облика русского сибиряка // Вестник Том. гос. ун-та. История. 2018. № 56. С. 151-157. https://doi.org/10.17223/1998-8613/56/20
- Татаурова Л. В. Погребальный обряд русских Среднего Прииртышья XVII-XIX вв. По материалам комплекса Изюк I. Омск: Апельсин, 2010. 284 с.
- Ширин Ю. В. Погребальный обряд христианских кладбищ Притомья XVII-XVIII вв. // Культура русских в археологических исследованиях. Междисциплинарные методы и технологии. Омск: Омский филиал РГТЭУ, 2011. С. 416-422.
- Этнографо-археологические комплексы народов Тарского Прииртышья: могилы, могильники, погребальный обряд и мир мертвых в свете этноархеологических работ. Омск: Наука, 2016. 294 с.