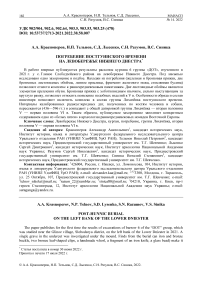Погребение постгуннского времени на левобережье Нижнего Днестра
Автор: Красноперов А.А., Тельнов Н.П., Лысенко С.Д., Разумов С.Н., Синика В.С.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Рубрика: Археология
Статья в выпуске: 14, 2022 года.
Бесплатный доступ
В работе впервые публикуются результаты раскопок кургана 6 группы «ДОТ», изученного в 2021 г. у с. Глиное Слободзейского района на левобережье Нижнего Днестра. Под насыпью исследовано одно захоронение в подбое. Находки из погребения (железная и бронзовая пряжки, две бронзовых листовидных обоймы, лепное пряслице, фрагмент железного ножа, стеклянная бусина) позволяют отнести комплекс к раннесредневековым памятникам. Две листовидные обоймы являются элементам крепления обуви. Бронзовая пряжка с хоботковидным язычком, сильно выступающим за круглую рамку, позволяет относить появление подобных изделий к V в. Особенности обряда и состав инвентаря позволяют включить комплекс в состав группы Лихачёвка постгуннского времени. Интервалы калиброванных радиоуглеродных дат, полученных по костям человека и собаки, пересекаются (436-596 гг.) и совпадают с общей датировкой группы Лихачёвка - вторая половина V - первая половина VI в. Таким образом, публикуемое захоронение заполняет конкретным содержанием одно из «белых пятен» в археологии раннесредневековых номадов Восточной Европы.
Левобережье нижнего днестра, курган, погребение, группа лихачёвка, вторая половина v - первая половина vi в
Короткий адрес: https://sciup.org/14125264
IDR: 14125264 | УДК: 902/904, | DOI: 10.53737/2713-2021.2022.38.58.007
Текст научной статьи Погребение постгуннского времени на левобережье Нижнего Днестра
А.А. Красноперов, Н.П. Тельнов, С.Д. Лысенко, С.Н. Разумов, В.С. Синика
МАИАСП № 14. 2022
Под юго-западной стенкой входной ямы в заполнении на глубине —0,88 м от R 0 был обнаружен скелет собаки, лежавший на левом боку, позвоночник по линии север—юг (шейные позвонки на севере). Череп отсутствовал (рис. 2: 1 )1. Вероятно, обезглавленная собака была оставлена грабителями.
Погребальная камера трапециевидной в плане формы размерами 1,9—2,1 × 0,9 м и глубиной —2,25 м от R 0 была устроена к западу от входной ямы. Вдоль западной стенки камеры были зафиксированы остатки стоявшей на ребре плахи шириной до 0,3 м, возможно, от гробовища.
Погребение ограблено в древности. На дне входной ямы в южном углу были обнаружены череп, кости конечностей и таза, рёбра взрослого человека, сложенные там грабителями. Отдельные кости стоп были зафиксированы в южной части камеры. Возможно, первоначально погребённый был уложен вытянуто на спине головой на север.
Состав и расположение инвентаря. Среди костей человека у южного угла входной ямы были найдены фрагмент железного ножа (6) и стеклянная бусина (8). В придонном заполнении южной части камеры обнаружены две пряжки (2, 3), лепное пряслице (1), железная пластина (7) и две бронзовые листовидные обоймы (4, 5).
Описание находок
-
1. Пряслице лепное усечено-биконическое. Тесто с примесью шамота. Цвет светлокоричневый, чёрный. Поверхности заглаженные. Высота пряслица 25,5—27,3 мм, диаметр по ребру — 41 × 39 мм. Диаметры верхней и нижней плоскостей 29 × 28 мм и 30 × 29 мм. Диаметр отверстия 7,5 мм (рис. 2: 4 ).
-
2. Бронзовая пряжка с рамкой округлой формы и с массивным бронзовым язычком. Сечение кольца овальное. Язычок подпрямоугольный в сечении, со скруглённой спинкой; на конце сечение овальное; сечение петли — сегментовидное. Диаметр пряжки 26,5 мм. Размеры сечения в центре до 5,5 × 5,8 мм, с боков — 4 × 5 мм; размеры сечения перекладины, к которой крепится язычок, 2 × 2,5 мм. Длина язычка 38 мм, высота по петле — 16 мм. Размеры сечения язычка до 10 × 8 мм, в месте изгиба — 6 × 5 мм. Диаметр петли 8 мм. Размеры сечения основания петли 3,4 × 2,7 мм, в нижней части — 3,6 × 2 мм (рис. 2: 7 ).
-
3. Железная арочная пряжка с прямой перекладиной и с бронзовым язычком. На спинке язычка ближе к концу расположена продольная бороздка. Длина пряжки 17 мм, ширина — 18 мм, диаметр сечения — 3—4 мм. Длина язычка 20 мм, ширина — до 3,5 мм, толщина — до 2 мм. Диаметр петли около 7,5 мм. С двух сторон к пряжке прикипели фрагменты ткани (рис. 2: 8 ).
-
4. Бронзовая листовидная обойма. Верхний край раскован в узкую пластину и петлевидно загнут внутрь. Изделие крепилось к основе при помощи одной заклёпки, расположенной в центре «листа». Нижний край петли в месте крепления заклёпки слегка расширяется. Внешние края «листа» волнисто зазубрены. Нижняя часть пластины украшена двумя группами из двух параллельных линий, образующих треугольник вершиной вниз. На верхней части «листа», ниже петли, расположены две насечки, также образующие треугольник вершиной вниз. Общая длина изделия 22,5 мм. Длина «листа» 17,5 мм, ширина — 15 мм. Толщина «листа» до 0,8 мм, в верхней части — до 1,7 мм. Ширина дужки 2,6 мм, в месте заклёпки — до 4,8 мм. Толщина дужки 0,7 мм. Ширина изгиба петли 5,5 мм. Длина заклёпки 4 мм. Диаметр заклёпки 2 мм, диаметр шляпки — 3 мм (рис. 2: 5 ).
МАИАСП № 14. 2022
-
5. Бронзовая подовальная обойма. Верхний край раскован в узкую пластину и петлевидно загнут внутрь. Изделие крепилось к основе при помощи одной заклёпки, расположенной в центре овала. Нижний край петли в месте крепления заклёпки слегка расширяется. Общая длина изделия 18,3 мм. Длина овала около 15 мм, ширина — 9,6 мм. Толщина овала до 1,3 мм, в верхней части — до 2 мм. Ширина дужки 3,6 мм, в месте заклёпки — до 4 мм. Толщина дужки до 1,7 мм. Ширина изгиба петли 7 мм. Длина заклёпки 4,4 мм. Диаметр заклёпки 2 мм, диаметр шляпки — 2,8 мм (рис. 3: 6 ).
-
6. Фрагмент лезвия железного ножа. Лезвие клиновидное в сечении. С правой стороны к лезвию прикипело дерево от ножен (?). Длина фрагмента 44 мм, ширина — до 19 мм, толщина по спинке — до 7 мм (рис. 2: 9 ).
-
7. Круглая железная пластина—накладка. В центре с одной стороны находится ступица с отверстием, в котором расположен фрагмент заклёпки. Края изделия с двух сторон выкрошены. Реконструируемый диаметр изделия около 50 мм. Толщина пластины 2—3 мм. Диаметр ступицы около 10 мм, высота над уровнем пластины — до 4,5 мм. Диаметр заклёпки около 3 мм (рис. 2: 10 ).
-
8. Приплюснуто-сферическая бусина из белого непрозрачного стекла. Диаметр бусины около 4 мм, высота — около 3 мм. Диаметр отверстия около 0,7 мм. Бусина рассыпалась во время прорисовки (рис. 2: 3 ).
Погребение постгуннского времени на левобережье Нижнего Днестра
Стратиграфия кургана
Курган 6 группы «ДОТ» был сооружён в один приём над единственным основным погребением (рис. 1). Насыпь полностью уничтожена плантажной распашкой. Первоначальный её диаметр, судя по пятну выделявшегося на фоне чернозёма более светлого грунта с примесью материкового суглинка, не превышал 8—10 м. Установить первоначальную высоту насыпи не представляется возможным.
Анализ данных и датировка комплекса
Материалы из кургана 6 группы «ДОТ» у с. Глиное при первом ознакомлении внешне весьма невыразительны. Погребальное сооружение представлено подбоем. Подобные конструкции (в различных вариациях) широко использовались носителями различных археологических культур бронзового и раннего железного века Северного Причерноморья, а также народами средневековья и Нового времени.
Некоторые сохранившиеся после ограбления находки (фрагмент лезвия железного ножа, лепное пряслице, стеклянная бусина, круглая железная пластина—накладка, железная арочная пряжка) не являются индикаторами культурной принадлежности погребения и не могут быть использованы для определения времени его совершения. Единственное, что необходимо отметить, что железные предметы исключают датировку комплекса бронзовым веком или предскифским временем.
Значительно более информативны с точки зрения культурно-хронологической атрибуции захоронения обнаруженные в нём бронзовые листовидная и подовальная накладки. Несомненно, это распределители обувных ремешков2 (рис. 2: 5, 6 ). Накладки этой группы (форма щитка изменчива (рис. 3: А: 9—17 ; 4: Д: 1; 5: В: 3, 4, Г: 2, 3, Е: 2, Ж: 7 ) известны в двух конструктивных сочетаниях: самостоятельные (как в комплексе Глиное/ДОТ 6/1), или соединенные кольцами по две—три штуки (рис. 4: А: 1, 4, Б: 1, В: 1, Г: 2, Д: 1 ; 5: А: 2, 3, 8, 9, 14, 15 ). Также похожие накладки использовались парами в качестве щитков пряжек (рис. 3: А:
А.А. Красноперов, Н.П. Тельнов, С.Д. Лысенко, С.Н. Разумов, В.С. Синика
МАИАСП № 14. 2022
1—8 ). По имеющимся (сохранившимся после разрушения/ограбления) находкам обувной набор должен соответствовать типу Комар-II-23, то есть состоять из основного и подпятного ремней, закреплённых с помощью подвижных обойм (Комар 2010: 108, рис. 3: 8 ) (рис. 3: А: 18 ; 4: Г: 4 ). Причём, судя по имеющейся источниковой базе, хронология такого типа крепления обуви продолжительная (рис. 3: Б—И ; 4; 5). Из приведенных А. В. Комаром степных и крымских комплексов (Комар 2010: рис. 3: 3 , 4, 9, 10; 8: 3, 6, 7 ; 14: 28—30, 37 ) по форме щитка накладок находкам из погребения Глиное/ДОТ 6/1 на левобережье Нижнего Днестра примерно соответствуют изделия из следующих комплексов постгуннского и раннегеральдического времени: Христофоровка, курган 7, погребение 12 (Комар 2010: рис. 14: 37 4 —54 ) (рис. 3: Д ) в Побужье; Лихачевка, курган 6 (Обломский 2004: рис. 2: 5, 6 ) (рис. 5: А ); Ново-Подкряж, курган 3, погребение 3 (Костенко 1979: табл. 9: 4 ; 1986: табл. 20: 9, 10 ) (рис. 5: В ) в Поднепровье; Наташино, курган 17, погребение 1 (Баранов 1990: рис. 395: 20, 21, 24 ) (рис. 3: Б ) в Крыму; Сивашовка, курган 3, погребение 2 (Комар, Кубышев, Орлов 2005: рис. 12: 19 ; 13: 13 ) (рис. 3: Г ) в Приазовье; Авиловский I, курган 1 (Синицын 1954: рис. 3: 3 ) (рис. 3: Ж ), Зиновьевка (Рыков 1929; Комар 2010: рис. 8: 5—8 ) (рис. 3: Е ); Иловатка, курган 3, погребение 2, насыпь (Смирнов 1959: рис. 7: 9, 11 ) (рис. 3: З ) в Поволжье. Но также они обильно представлены на Кавказе в синхронных комплексах: Мокрая Балка, катакомба 37 (Афанасьев, Рунич 2001: рис. 55: 6, 7 ) (рис. 5: Г ), катакомба 107, погребение 1 (Афанасьев, Рунич 2001: рис. 119: 10 ) (рис. 3: И ), катакомба 119 (Афанасьев, Рунич 2001: рис. 137: 8 ) (рис. 5: Ж ); Кугульские восточные склепы, склеп 1 (Рунич 1979: рис. 9: 2—8 ) (рис. 5: Е ); Холмский I, курган 3, погребение 2 (Кондрашев, Пьянков, Хачатурова 2017: рис. 4: 3 ); Абинский III, курган 2, погребение 14 (Кондрашев, Пьянков, Хачатурова 2017: рис. 5: 5 ); Мачты (Луначарка-2, Аликоновский), катакомба 3, погребение 1 (1991); Острый Мыс-1, катакомба 3, погребение 16. Большая часть из перечисленных найдены вместе с элементами геральдических гарнитур.
Более узко датировка комплекса на основании археологических данных определяется по большой пряжке (рис. 2: 7 ).
Несмотря на полтора века изучения, такая изменчивая категория находок как пряжки даже в лучших работах долгое время описывалась суммарно (Амброз 1992: 12). К настоящему времени на уровне конкретных признаков хорошо изучены только пряжки сарматского времени (Малашев 2000). Очень важным следствием работы В.Ю. Малашева является вывод, что вещи не эволюционируют целиком — их признаки имеют самостоятельную динамику развития: меняется язычок; потом язычок долгое время остается постоянным, но изменяется форма щитка; затем, при сохранении язычка и щитка, меняется сечение рамки; затем снова изменяются форма щитка и одновременно язычок. Конкретное время появления имеет не «целая» вещь, а ее часть, и дату вещи определяет совокупность признаков (Малашев 2000: 209).
Пряжки более позднего времени изучены значительно хуже. Они описаны «в целом», часто не конкретно, со ссылками на рисунок или рисунки, или абстрактную совокупность
МАИАСП № 14. 2022
Погребение постгуннского времени на левобережье Нижнего Днестра пряжек7. Конкретные ссылки на датировки и их обоснования редки. Работа по выявлению значимых признаков только начата (Габуев, Хохлова 2012: 22—23; Малашев, Гаджиев, Ильюков 2015: 98—100). Самые общие признаки обозначены А. К. Амброзом, но не прямо, а в сопоставлении с пряжками IV в.: «Они развились из хоботковых пряжек IV в. Рамка утолщена спереди не так резко, как в IV в., но шип выступает вперед далеко за рамку. У мелких пряжек варьирует в основном обойма. Прямоугольные встречаются от квадрата до узкого вытянутого по оси пряжки прямоугольника. Круглые обычно имеют по сторонам три заклепки. Редки также треугольные щитки» (Амброз 1989: 31, 47; 1992: 1; Мастыкова 2009: 57—58).
Известные типологии пряжек оперируют «целыми» предметами и очень нечеткие. Так, типология А. И. Айбабина непоследовательна. Автор выделяет группу пряжек «с овальной или сегментовидной рамкой» (Айбабин 1990: 27), но уже через два варианта, на третьем, рамка оказывается круглой (Айбабин 1990: 28), хотя для круглых предусмотрен самостоятельный таксономический раздел (Айбабин 1990: 29). Особенности язычков практически не учтены, и из текста совершенно не ясно, по какой причине. Среди экземпляров VII—VIII вв. приведена пряжка I—II в. (Айбабин 1990: рис. 40: 22 ).
В хронологии черняховской культуры Е.Л. Гороховского (1988) круглорамчатые пряжки не представлены, этот период еще только выявляется (Петраускас 2018: рис. 12: 13, 14 ). Перечисленные хронологические схемы опираются на мнение Я. Тейрала (напр.: Айбабин 1990: 29; Амброз 1992: 49, 61, 71; Петраускас 2018: 24), который, в свою очередь, руководствуется общеисторическими основаниями: пряжки таких форм связаны с «гуннскими» комплексами и должны датироваться периодом гуннской активности, отмеченной в письменных источниках (Tejral 1973: 21). Немногочисленные монетные находки этого времени учитываются как дополнение (Tejral 1973: 14, 17, 18), в том числе из плохо документированных изъятий после грабительских раскопок керченских склепов с несколькими погребенными, которые к 1973 г. были опубликованы выборочно и тезисно (Tejral 1973: 15—16). В целом, археологическая хронология пост—сарматского времени полностью зависима от письменных источников (Комар 2000: 24, 33; 2013: 694—695) (основания хронологии по письменным источникам обобщены: Bona 1991; Harhoiu 1998). Расчёт на «горизонтальную аналитическую типологию» (Строков 2009: 304), традиционно сопровождаемый ссылками на А.В. Богачева (1990; 1992), не работает. В публикациях невозможно найти ответ на ключевой вопрос: отдельные элементы пряжек (формы щитков, язычков и др.) не важны по объективным причинам, или просто не учтены авторами? (Комар 2000: 46). Решить эту проблему в рамках данной публикации невозможно, однако текущее состояние изученности данной категории находок объективно ограничивает наши возможности датировать узко погребение Глиное/ДОТ 6/1.
В то же время нельзя не отметить, что к настоящему времени намечена динамика эволюции пряжек: вначале их рамки сравнительно тонкие, а язычки приостренные; в дальнейшем пряжки становятся массивными, обоймы начинают изготавливать из массивных пластин, массивными становятся и язычки (Ахмедов 2009: 146; Габуев, Хохлова 2012: 23—24). Наиболее заметный признак — форма язычка, который может быть «гладким», с площадкой (разной ширины), ступенькой и выступающей петлей, вертикально срезанным без выступающей петли (наш случай). По хронологии Я. Тейрала последний вариант встречается во всех периодах D (360/370 — 470/480 гг.), но в D2/D3 (430/440 — 470/480 гг.) — с зооморфными язычками, в D1 (360/370 — 400/410 гг.) — в сочетании с овальными рамками, и только в D2 (380/400 — 440/450 гг.) — с рамками круглой формы; но известен и позже.
А.А. Красноперов, Н.П. Тельнов, С.Д. Лысенко, С.Н. Разумов, В.С. Синика
МАИАСП № 14. 2022
Однако еще А.К. Амброз предупреждал, что «на Западе дата 453 г. имеет реальную основу. А на Восточную Европу распространять эту дату преждевременно: известно, что изгнанные гунны отступили к востоку, и степи столетиями оставались владением кочевников, среди которых сменялись главенствующие племена. Таким образом, дата битвы при Недао не может определять конца гуннских древностей в Восточной Европе, и те, кто механически переносят эту дату с Запада, делают это без всякого основания» (Амброз 1989: 30, 35, 44).
В нашем случае это означает, что обоснованно сузить дату погребения Глиное/Дот 6/1 на основании археологических данных в интервале V — начала VI в. мы, видимо, не сможем.
Ввиду неординарности захоронения, в начале 2022 г. в Киевской радиоуглеродной лаборатории было проведено датирование органических образцов.
Первая дата была получена по кости человека: Ki—20448; 1520±30 BP (рис. 6: 1 ), калиброванные интервалы — 1σ — 542—596 гг., 2σ — 436—637 гг. (OxCal v4.4.4 Bronk Ramsey 2021; Reimer et al. 2020).
Вторая дата была получена по кости собаки: Ki—20449; 1550±40 BP (рис. 6: 2 ), калиброванные интервалы — 1σ — 436—573 гг., 2σ — 426—596 гг. (OxCal v4.4.4 Bronk Ramsey 2021; Reimer et al. 2020).
Обе эти даты являются корректными, поскольку их калиброванные интервалы практически совпадают на достаточных отрезках и по первой сигме (542—573 гг.), и по второй (436—596 гг.). При этом более ранняя дата, полученная по кости собаки, не вызывает удивления. В данном случае она, очевидно, стала следствием «эффекта резервуара» (Кузьмин 2017: 157—158), который чаще всего отмечается для животных, регулярно питающихся рыбой и морепродуктами8.
Таким образом, наиболее вероятным временем совершения захоронения, судя по обоим калибровочным графикам, является интервал 530—570 гг. до н.э. или вторая треть VI в. до н.э. Однако, судя по археологическим данным, погребение было совершено в V в., поскольку характерных находок первой половины VI в. и более позднего времени, по нашему мнению, в нём нет. При этом вторая и третья четверть V в. до н.э. включается в калиброванные интервалы обеих радиоуглеродных дат.
Культурная атрибуция погребения
Исходя из хронологии, комплекс должен быть вписан в одну из групп памятников постгуннского времени9 Восточной Европы. Проблема осложняется тем, что для этого периода мы располагаем сведениями письменных источников о многочисленности населения северочерноморских степей, но при этом констатируем почти полное отсутствие конкретных археологических памятников (Комар 2004: 172).
Чаще всего для характеристики периода «после гуннов» и до распространения геральдических гарнитур используется термин «шиповское время», однако эта группа (Амброз-II) не исчерпывает всего разнообразия погребальных обрядов и наборов инвентаря. В самих «шиповских» комплексах традиции гуннской культуры продолжают сохранятся (Обломский 2015: 294), но характеризуются новыми явлениями (Засецкая, Казанский 2007: 117). Другие, очевидно, отличаются по инвентарю и обряду, но до сих пор не систематизированы (из последних находок: Иванов, Кутуков 2019).
Часть комплексов на границе степи/лесостепи была выделена и описана
МАИАСП № 14. 2022
Погребение постгуннского времени на левобережье Нижнего Днестра
Е.Л. Гороховским (1988д: 93, 176—177, 316—318), И.О. Гавритухиным (2004) и А.М. Обломским (2004). А.В. Комар дал четкую характеристику ряда степных и крымских памятников, выделив горизонт Лихачевки (Комар 2004), синхронный горизонту Шипово10. Вначале к этому кругу были отнесены шесть комплексов: Старая Сарата, погребение 7 (Сергеев 1961: 131—133, рис. 6; табл. I: 18—24 ) (рис. 5: Д ) на левобережье Среднего Прута; Сахарная Головка в Крыму; Ново-Подкряж, курган 3, погребение 3 (рис. 5: В ); Константиновград (рис. 5: Б ); Лихачевка, курган 6, погребение 1 (рис. 5: А ); Животинное, погребение 4 (последние четыре в Поднепровье)11. Он же проанализировал находки (в том числе редкие для этих погребений, но распространенные в других комплексах «шиповского» времени), и рассмотрел круг «смежных» памятников, прежде всего кавказских и Дюрсо (Комар 2004: 189—192).
С выделением группы не согласился только М.М. Казанский (2020: 92, прим. 2) в атрибуции комплексов из Бабичей, Животинного и Сахарной Головки12. Первый из указанных (Гавритухин 2004: рис. 3: 1 ) он относит то к кочевникам (Казанский 2020: 96), то к пеньковской культуре (Казанский 2018: 93; 2020: 91, прим. 1). Обкладка седла позволяет пропустить это возражение, а кочевнические комплексы могут находиться глубоко в лесостепной/лесной зоне (Перещепина, Арцыбашево). Сложнее с Сахарной Головкой (Борисова 1959: 187—189, табл. II: 6—8 , рис. 11; Амброз 1989: рис. 39: 16—20 ), в принадлежности которой горизонту Лихачёвки он отказывает на основании того, что комплекс был исследован в некрополе оседлого населения и не содержит вещей, характерных только для степняков (Казанский 2020: 91, прим. 1). Но кочевнические погребения в пределах могильников оседлого населения Крыма (Беляус, Усть-Альма) М.М. Казанскому известны (Нейзац). Хотя для основной группы Лихачевка не характерно наличие конской узды13.
Важно замечание М.М. Казанского, что датировка именно постгуннским временем не обязательна (вещи появляются в более раннее, еще гуннское, время: Засецкая, Казанский 2007: 108, 110, прим. 10), а также отмеченная им общая динамика хронологии (Казанский 2020: 92).
Состав находок из кургана Лихачёвка 6 в разных изданиях различается. В публикации И.А. Зарецкого (рис. 5: А: 13—25 ) отсутствует ссылка на наконечник ремня (Зарецкий 1888: табл. II: 7 ) (рис. 5: А: 16 ). В найденном А.М. Обломским отчете он упоминается в перечне находок из погребения (Обломский 2004), но в коллекции не сохранился, и потому нарисован не был. По И.А. Зарецкому в могиле находился сосуд (Зарецкий 1888: табл. I: 2 ) (рис. 5: А: 13 ), но А.М. Обломским, судя по сломам, в фондах ГИМ был обнаружен сосуд (Зарецкий 1888: табл. I: 1 ) (рис. 5: А: 7 ) из другого кургана. Не полностью убеждает и
А.А. Красноперов, Н.П. Тельнов, С.Д. Лысенко, С.Н. Разумов, В.С. Синика
МАИАСП № 14. 2022
безоговорочное отнесение части предметов к скифскому времени (Гавритухин 2004: 209; Обломский 2004: 222). В коллекции их не было, псалий (рис. 5: А: 25 ) может быть скифским трехпетельчатым, но, учитывая коррозию, он изначально мог быть и Г-образным с многогранным окончанием. Отметим, что для могил рассматриваемого круга характерно двухуровневое расположение находок. Датировка пряжек и серег обоснована А.М. Обломским; наконечник (рис. 5: А: 10, 16 ) относится к группе наконечников с сечковидным расширением. Наиболее близкий экземпляр был обнаружен в Константиновграде (Гавритухин 2004: 211, рис. 3: 15—17 ) (рис. 5: Б: 3 ), в погребении (если это погребение) того же горизонта второй половины V — первой половины VI в. Из кавказских памятников наиболее интересна катакомба 119 (рис. 5: Ж ) могильника Мокрая Балка, где были найдены серьга (рис. 5: Ж: 1 ) того же типа, что в Лихачевке (рис. 5: А: 6, 19, 20 ), плохо прорисованная пряжка, которая может относиться к V в. или к VI в., имитация (?) двупластинчатой фибулы (рис. 5: Ж: 3 ), тисненая серебряная позолоченная фольга (ленчик седла?) (рис. 5: Ж: 4 ), и неопределенные «два бронзовых предмета» (рис. 5: Ж: 8 ) — псалии с многогранниками и лопастью группы «понтийской» узды по И.Р. Ахмедову (1997а; 1997б: 262; 2001; 2005; 2009: 160)14, датирующиеся второй половиной V — началом VI в. до н.э. Ложка—ситечко из этого комплекса (рис. 5: Ж: 2 ) относится к V в. (Мастыкова 2009: 88). Но и в этом случае уверенно сузить датировку только до второй половины столетия и исключить из хронологии весь V в. нельзя.
Кроме хронологии, существенное сходство комплексов внутри группы Лихачёвка заключается в погребальном обряде: подкурганные в узких ямах, ориентировка в северный сектор, наличие бытовых предметов (керамики, пряслиц (рис. 2: 4 ; 5: Д: 1 )). При этом, в отличие от «шиповской группы», традиции гуннской эпохи практически не прослеживаются (Комар 2004: 192).
Суммируя изложенное, следует отметить, что на основании археологических данных группу Лихачёвка можно датировать второй половиной V — первой половиной VI в. Этот отрезок времени полностью включается в интервал пересечения калиброванных радиоуглеродных дат (436—596 гг.) погребения Глиное/Дот 6/1 на левобережье Нижнего Днестра, которое отнесено к данной группе и датировано на основании круглорамчатой пряжки с массивным язычком V в. Важно, что в это время (не ранее второй трети столетия) подобные пряжки только начали использоваться, но период их бытования, как показывает радиоуглеродное датирование, охватывает и начало/первую половину VI в.
Заключительные положения
В 2021 г. на левобережье Нижнего Днестра у с. Глиное в кургане 6 группы «ДОТ» было исследовано раннесредневековое погребение. Оно, судя по сохранившимся находкам и радиоуглеродным датам, было совершено в постгуннское время и относится к горизонту Лихачевка, общая датировка, как представляется, определяется второй половиной V — первой половиной VI в.
В это время в степях Восточной Европы обитало население, которое исследователи связывают, как правило, с известными по письменным источникам кутригурами и болгарами (Комар 2004: 169—172; Казанский 2020: 117—119), но разнообразие обрядов и находок значительно шире. В настоящее время в нашем распоряжении находится слишком мало достоверно зафиксированных археологически и хотя бы относительно узко датированных
МАИАСП № 14. 2022
Погребение постгуннского времени на левобережье Нижнего Днестра комплексов этого периода. В частности, в Северо-Западном Причерноморье, помимо комплекса Глиное/ДОТ 6/1 на левобережье Нижнего Днестра, ранее было изучено только одно упомянутое выше погребение 7 у с. Старая Сарата на левобережье Среднего Прута. Поэтому вопрос о культурной и, тем более, этнической принадлежности захоронений этого времени можно будет решать только при значительном увеличении источниковой базы.
Тем не менее, публикуемое погребение заполняет конкретным содержанием одно из «белых пятен» в археологии раннесредневековых номадов Восточной Европы.
Список литературы Погребение постгуннского времени на левобережье Нижнего Днестра
- Айбабин А.И. 1990. Хронология могильников Крыма позднеримского и раннесредневекового времени. МАИЭТI, 4—87.
- Айбабин А.И. 1999. Этническая история ранневизантийского Крыма. Симферополь: ДАР.
- Айбабин А.И., Хайрединова Э.А. 1996. Новый комплекс с пальчатыми фибулами с некрополя у с. Лучистого. МАИЭТ V, 85—93.
- Амброз А.К. 1989. Хронология древностей Северного Кавказа. Москва: Наука.
- Амброз А.К. 1992. Боспор. Хронология раннесредневековых древностей. БС 1, 6—108.
- Арсеньева Т.М., Безуглов С.И., Толочко И.В. 2001. Некрополь Танаиса. Раскопки 1981—1995 гг. Москва: Палеограф.
- Атавин А.Г. 1996. Погребения VII — начала VIII вв. из Восточного Приазовья. В: Сташенков Д.А. (отв. ред.). Культуры Евразийских степей второй половины I тысячелетия н.э. Самара: СОИКМ, 208—265.
- Афанасьев Г.Е., Рунич А.П. 2001. Мокрая балка. Вып. 1. Дневник раскопок. Москва: Научный мир.
- Ахмедов И.Р. 1997а. К истории раннесредневековой узды (горизонт Шипово-Сахарная Головка). В: Айбабин А.И. (ред.). Международная конференция «Византия и Крым» (Севастополь, 6-11 июля 1997 г.): Тезисы докладов. Симферополь: Крымское отделение института востоковедения им. А.Е. Крымского НАН Украины, 14—16.
- Ахмедов И.Р. 1997Ь. Уздечный набор из могильника Заречье 4. В: Демиденко С.В., Журавлев Д.В. (ред.). Древности Евразии, 261—268.
- Ахмедов И.Р. 2001. Псалии в начале эпохи Великого переселения народов. В: Сташенков Д.А. (отв. ред.). Культуры Евразийских степей 2 половины I тыс. н.э. (из истории костюма). Т. 2. Самара: СОИКМ, 220—251.
- Ахмедов И.Р. 2005. Конский убор из некрополей Цебельдинской долины (к истории сложения «понтийского» стиля узды в эпоху Великого переселения народов). Труды ГИМ 145. II Городцовские чтения, 240—253.
- Ахмедов И.Р. 2007. Инвентарь мужских погребений. РСМ 9. Восточная Европа в середине I тысячелетия н.э., 137—185.
- Ахмедов И.Р. 2009. Новые материалы к истории престижной узды Восточной Европы гуннского и постгуннского времени. В: Фурасьев А.Г. (науч. ред.). Гунны, готы и сарматы между Волгой и Дунаем. СПб: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 152—166.
- Баранов И.А. 1990. Таврика в эпоху раннего средневековья. Киев: Наукова Думка.
- Берлизов Н.Е., Пьянков И.В., Богачук Е.О. 2015. Случайные находки эпохи раннего железа и средневековья из окрестностей г. Новороссийска. В: Схатум Р.Б., Улитин В.В. (ред.). V «Анфимовские чтения» по археологии Западного Кавказа. Культурные взаимодействия народов Западного Кавказа в древности и средневековье. Материалы международной археологической конференции. Краснодар: Вика-Принт, 24—37.
- Богачев А.В. 1990. Опыт эволюционно-типологической группировки раннесредневековых пряжек лесостепного Поволжья. Препринт. Свердловск: УрО АН СССР.
- Богачев А.В. 1992. Процедурно-методические аспекты археологического датирования. Самара: [б/и]. Борисова В.В. 1959. Могильник у высоты «Сахарная головка». ХСб V, 169—190.
- Воронов Ю Н. 2003. Могилы Апсилов. Пущино: ОНТИ ПНЦ РАН.
- Габуев Т.А. 2014. Аланские княжеские курганы V в. н.э. у с. Брут в Северной Осетии. Владикавказ:
- Издательско-полиграфическое предприятие им. В.А. Гасиева. Габуев Т.А., Хохлова О.С. 2012. Дробная датировка курганов могильника Брут 1 (Северная Осетия). РА (4), 16—25.
- Гавритухин И.О. 2004. Днепровские ингумации второй половины V—VI вв. В: Горюнова В.М., Щеглова О.А. (отв. ред.). Культурные трансформации и взаимовлияния в Днепровском регионе на исходе римского времени и в раннем средневековье. Санкт-Петербург: Петербургское востоковедение, 208—220.
- Гороховский Е.Л. 1988а. Хронология черняховских могильников лесостепной Украины. В: Баран В.Д. (отв. ред.) Труды V Междунар. конгресса археологов—славистов 4. Киев: Наукова Думка, 34—46.
- Гороховский Е.Л. 19886. Хронология ювелирных изделий первой половины I тыс. н.э. лесостепного Поднепровья и Южного Побужья. Дисс... канд. ист. наук. Научный архив Института археологии НАН Украины. Ф. 12. № 685.
- Даскалов М. 2012. Колани и коланни украси от VI—VII век (от днешна България и съседните земи). София: Крафт хаус.
- Дьяченко А.Н. 2009. Абганерово. В: Скрипкин А.С. (ред.). Археологическая энциклопедия Волгоградской области. Волгоград: ВолГУ, 10—11.
- Гросу В.И. 1990. Хронология памятников сарматской культуры днестровско-прутского междуречья. Кишинев: Штиинца.
- Срмолш О.Л. 2006. Археолопчш дослщження античного некрополя Джург-Оба (Керч) в 2005 рощ. Дрогобицький краезнавчий зб1рник Х, 11—44.
- Зарецкий И.А. 1888. Заметка о древностях Харьковской губернии Богодуховскаго уезда слободы Лихачёвки. Харьковский сборник 2, 229—246.
- Заседателева С.Н. 1980. Отчет о работе археологической экспедиции краеведческого музея в 1980 г. Орск. 1981. Архив Института археологии РАН. Р—1. № 8855.
- Засецкая И.П., Казанский М.М. 2007. Морской Чулек и история понтийских степей в постгуннскую эпоху. В: Засецкая И.П., Казанский М.М., Ахмедов И.Р., Минасян Р.С. Морской Чулек. Погребения знати из Приазовья и их место в истории племен Северного Причерноморья в постгуннскую эпоху. Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж, 101—121.
- Иванов А.А., Кутуков Д.В. 2019. Раннесредневековые погребения из раскопок поселения Балка Хреева-3 на Тамани. ДБ 24, 287—295.
- Казанский М.М. 2018. Престижные находки и центры власти постгуннского времени в Поднепровье. Stratum plus (4), 83—118.
- Казанский М.М. 2020. Древности степных кочевников постгуннского времени (середина V — середина VI в.) в Восточной Европе. МАИЭТ XXV, 90—167.
- Комар А.В. 2000. Актуальные проблемы хронологии материальной культуры гуннского времени Восточной Европы. Степи Европы в эпоху средневековья 1, 19—54.
- Комар А.В. 2004. Кутригуры и утигуры в Северном Причерноморье. В: Куковальская Н.М. (отв. ред.) ССб, 169—200.
- Комар А.В. 2008. Кочевники Восточной Европы VI—IX вв. В: Досымбаева А.М. (ред.). Тюркское наследие Евразии VI—VIII вв. Астана: Kul Tegin, 191—216.
- Комар А.В. 2010. Детали обуви восточноевропейских кочевников VI—VII вв. В: Пескова А.А., Щеглова О.А. (ред.). Славяно-русское ювелирное дело и его истоки. Материалы Международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Гали Фёдоровны Корзухиной (Санкт-Петербург, 10—16 апреля 2006 г.). Санкт-Петербург: Нестор-История, 94—115.
- Комар А.В. 2013. Кочевники восточноевропейских степей второй половины VI — первой половины VIII в. В: Досымбаева А., Жолдасбеков М. (ред.). Западный Тюркский каганат. Атлас Астана: Service Press, 671—737.
- Комар А.В., Кубышев А.И., Орлов Р.С. 2006. Погребения кочевников VI—VII вв. из СевероЗападного Приазовья. Степи Европы в эпоху средневековья 5, 245—374.
- Кондрашев А.В., Пьянков А.В., Хачатурова Е.А. 2017. Одиночные раннесредневековые погребения в курганах Западного Закубанья. Из истории культуры народов Северного Кавказа 9, 64—73.
- Костенко В.И. 1979. Сарматы в междуречье Орели и Самары. Курганные древности степного Поднепровья III—I тыс. до н.э. 3, 124—139.
- Костенко В.И. 1986. Сарматы Самарско-Орельского междуречья III в. до н.э. — IV в. н.э. Днепропетровск: [б/и].
- Красноперов А.А. 2012. Полихромные предметы с перегородчатой инкрустацией в Прикамье («догуннский» стиль перегородчатых инкрустаций). В: Воронцова А.М., Гавритухин И.О. (ред.).
- Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и великого переселения народов 3. Тула: Государственный музей-заповедник «Куликово поле», 218—254.
- Кузьмин Я.В. 2017. Геоархеология: естественнонаучные методы в археологических исследованиях. Томск: Томский государственный университет.
- Майко В.В. 2020. Сугдея в конце VII — первой половине Хв. Симферополь: Колорит.
- Малашев В.Ю. 2000. Периодизация ременных гарнитур позднесарматского времени. В: Гугуев Ю.К. (отв. ред.). Сарматы и их соседи на Дону. Ростов-на-Дону: Гефест, 194—217 (МИАД 1).
- Малашев В.Ю., Гаджиев М.С., Ильюков Л.С. 2015. Страна маскутов в западном Прикаспии. Курганные могильники Прикаспийского Дагестана III—V вв. Махачкала: Мавраевъ.
- Мастыкова А.В. 2009. Женский костюм Центрального и Западного Предкавказья в конце IV — середине VIв. н.э. Москва: Институт археологии РАН.
- Обломский А.М. 2006. Раннесредневековое трупоположение у с. Лихачевка Полтавской области. В: Горюнова В.М., Щеглова О.А. (отв. ред.). Культурные трансформации и взаимовлияния в Днепровском регионе на исходе римского времени и в раннем средневековье. Санкт-Петербург: Петербургское востоковедение, 221—227.
- Обломский А.М. 2015. Гл. 14. Хронология верхнедонских памятников середины первого тысячелетия н.э. В: Обломский А.М. (ред.). Острая Лука Дона в древности. Археологический комплекс памятников гуннского времени у с. Ксизово (конец IV — Vвв.). Москва: ИА РАН, 291—295 (РСМ 16).
- Орлов Р.С., Рассамакин Ю.Я. Новые памятники VI—VII вв. из Приазовья. В: Приходнюк О.М. (отв. ред.). Материалы I тыс. н.э. по археологии и истории Украины и Венгрии. Киев: Наукова думка, 102—116.
- Петраускас О.В. 2018. Могильник та поселення черняхiвськоl культури Велика Буга1вка в системi старожитностей середнього Подшпров'я. Археолог1я (2), 22—41.
- Приходнюк О.М., Фоменко В.М. 2006. Ранньосередньовiчнi поховання кочовиюв iз с. Христофорiвка МиколаЛвсько! области Музейш читання. Матер1али наукових конференщй 2002—2003 рр. Кшв: Музей юторичних коштовностей Украши, 133—144.
- Рунич А.П. 1979. Раннесредневековые склепы Пятигорья. СА (4), 232—247.
- Рыков П.С. 1929. Поздне-сарматское погребение в кургане близ с. Зиновьевки, Саратовской губ. Саратов: [б/и].
- Саханев В.В. 1914. Раскопки на северном Кавказе в 1911—12 годах. ИИАК 56, 40, 75—219.
- Сергеев Г.П. 1961. Археологические исследования музея в 1958 г. Труды [Государственного историко-краеведческого музея МССР]. Вып. I. Кишинёв: Картя молдовеняскэ, 129—136.
- Синицын И.В. 1954. Археологические памятники в низовьях реки Иловли. Ученые записки Саратовского государственного университета 39, 218—253.
- Смирнов К.Ф. 1959. Курганы у сел Иловатка и Политотдельское Сталинградской области. В: Древности Нижнего Поволжья (Итоги работ Сталинградской археологической экспедиции). Т. I, 206—322 (МИА 60).
- Строков А.А. 2009. Ременные гарнитуры гуннской эпохи Азиатского Боспора. БИ XXI, 303—319.
- Хайрединова Э.А. 2003. Обувные наборы V—VII вв. из Юго-Западного Крыма. МАИЭТ X, 125—160.
- Belinskij A.B., Harke H. 2018. Ritual, society and population at Klin-Yar (North Caucasus). Excavations 1994—1996 in the Iron Age to early medieval cemetery. Bonn: Habelt-Verlag.
- Bona I. 1991. Das Hunnenreich. Budapest; Stuttgart: Theiss.
- Harhoiu R. 1998. Die frühe Völkerwanderungszeit in Rumänien. Bukarest: Editura Enciclopedica.
- Reimer et al. 2020: Reimer P., Austin W., Bard E., Bayliss A., Blackwell P., Bronk Ramsey C., Butzin M., Cheng H., Edwards R., Friedrich M., Grootes P., Guilderson T., Hajdas I., Heaton T., Hogg A., Hughen K., Kromer B., Manning S., Muscheler R., Palmer J., Pearson C., van der Plicht J., Reimer R., Richards D., Scott E., Southon J., Turney C., Wacker L., Adolphi F., Büntgen U., Capano M., Fahrni S., Fogtmann-Schulz A., Friedrich R., Köhler P., Kudsk S., Miyake F., Olsen J., Reinig F., Sakamoto M., Sookdeo A., Talamo S. 2020. The IntCal20 Northern Hemisphere radiocarbon age calibration curve (0— 55 cal kBP). Radiocarbon 62.
- Tejral J. 1973. Mähren im 5. Jahrhundert. Praha: Academia.