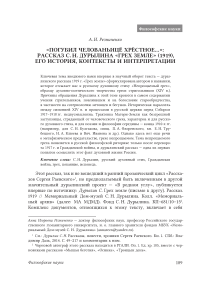«Погубил челованьицё хрёстное...»: рассказ С. Н. Дурылина «Грех земле» (1919), его история, контексты и интерпретации
Автор: Резниченко Анна Игоревна
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 1 (72), 2017 года.
Бесплатный доступ
Ключевая тема вводимого нами впервые в научный оборот текста - дурылинского рассказа 1919 г. «Грех земле» сформулирована автором в названии, которое отсылает нас к русскому духовному стиху «Непрощаемый грех», образцу духовно-поэтического творчества ереси стригольников (XIV в.). Причины обращения Дурылина к этой теме кроются в самом содержании учения стригольников, повлиявшем и на богословие старообрядчества, в частности на сотериологию нетовцев и бегунов. Историческая параллель между симонией XIV в. и процессами в русской церкви перед Собором 1917-1918 гг. недвусмысленна. Трактовка Матери-Земли как безгрешной заступницы, страдающей от человеческого греха, характерна и для русского духовного стиха, и для поэзии и философии середины - конца 1910-х гг. (например, для С. Н. Булгакова, свящ. П. А. Флоренского, кн. Е. Н. Трубецкого, Н. А. Клюева и Вяч. Иванова и др.). Однако здесь нет еще речи о метафизическом предательстве, грехе непрощаемом. Тема непрощаемого греха появляется в русской философской риторике только после переворота 1917 г. и Гражданской войны, и дурылинский рассказ - одна из первых попыток осмыслить этот факт духовной жизни России
С. н. дурылин, русский духовный стих, гражданская война, грех, покаяние, исповедь
Короткий адрес: https://sciup.org/140190259
IDR: 140190259
Текст научной статьи «Погубил челованьицё хрёстное...»: рассказ С. Н. Дурылина «Грех земле» (1919), его история, контексты и интерпретации
Бывают — или были — поры в русской жизни и культуре, когда дружба была действительным явлением в жизни, таким же действительным, как брак, смерть. Андрей Тургенев — для начала XIX ст., Станкевич — для 30-х — 40-х гг. его — вот общеизвестные лики Дружбы, творящей и сеющей благо на скудной ниве жизни. Но бывают эпохи, когда слово “дружба” кажется ничего не выражающим, и тогда полезно напомнить, — о только самому себе! — что забвеньем таких слов, как “дружба” или любовь, честь или совесть — мы только обедняем свой словарь, но не колеблем нимало существования того, что выражено этими словами. <…>
…сначала как будто все сулило ему ту участь, которая и принадлежит, действительно, розовому дереву. <…> Он окончил гимназию с медалью, и поступил в университет на филологический факультет по филологическому отделению, — единственный из всей гимназии. Университет был, пожалуй, лучшей порой его жизни. Его занятия были непрерывны. Комната была заграждена философами в подлинниках. Читалось и изучалось все: от Платона до блаженного Иеронима, от средневековых мистиков до Вл. Соловьева; немцы теснились огромными фалангами Sümtliche Werke. Каждое воскресенье он отправлялся на Сухаревку и возвращался с бременем полного Шеллинга, проданного вдовой какого-нибудь филолога, или Плотина, некогда дремавшего в библиотеке ученого московского протопопа. <…>
Он растил дерево своей мысли, и не хотел открывать его никому, пока оно было зерном, ростком, побегом, тонким стволом с немногими листьями. Он ждал, когда оно будет крепко корнем, прочно и могуче стволом, широко и высоко раскидистой благородной дубовой листвой. Мудрено в наше время карликовых березок и чахлых саженцев, на первом году своего прозябания выдаваемых за многошумные рощи, — мудрено в наше преждевременно-сенокосное время взростить мощный дуб, не подвергая его опасности быть затоптанным или срезанным по второму году жизни. А он растил и растил дуб свой, — и только смерть прервала навсегда его рост. <…>
Были уголки красоты, куда он уходил совершенно неожиданно для всех. Так, он любил отличные духи, но никогда не душился: выдвигал ящик стола, капал на платок пол-капли из граненого флакона, коих множество и ценнейших, хранилось в ящике, и обонял долгими минутами. Он делал опыты симфонии запахов и умел составлять прекрасные „смеси“ из известных запахов, добиваясь неожиданных результатов <…>
Но он вовсе не был ни эстет, ни декадент5.
Перед Пасхой 1919 г. Разевиг приезжал в Сергиев Посад к Дурылину для получения совета у о. Порфирия6: «Мой же совет и просьба такие: приезжать тебе сюда и во всем посоветоваться со старцем Порфирием в Гефсиманском скиту, к которому я обращаюсь всегда и всегда получал лучший и мудрейший совет, всегда устраивавший судьбу мою к лучшему. Коли веришь мне, то лучшего нигде ты не сделаешь ничего, если приедешь сюда. Зову очень»7. Исходя из этой переписки и из дневниковых записей конца 1918–1919 гг. «Троицкие З аписки», можно датировать рассказ Страстной и Пасхальной седмицами 1919 г8. Психологическое состояние автора рассказа хорошо видно из писем Дурылина к Разевигу этого периода:
Моя жизнь путана, перепутана и запутана, но мне кажется, она приходит ныне к определенному концу. Я не о смерти говорю. Живя здесь четвертый месяц один, я почувствовал, заметил, почти узнал, что к некоему устью устремилась моя река, и, может быть, я очень ошибаюсь, а может быть и нет — это устье недалеко. И тогда все былое станет, должно стать, только воспоминанием, и даже его быть может надо будет устранять от себя. Быть может. И вот перед этим, я как-то остро почувствовал, что должен же ты, с кем столько у меня связано! — знать меня, что такое я сейчас, я живой, я вот живущий как-то, худо ли, хорошо ли, но иначе, чем вы, а прежде и еще так недавно живший…9
Итак, несомненно, для Дурылина этот период — период перелома. Важно только понять теперь, какого именно.
* * *
Рукописный текст и машинописные его копии 1919 г. не подписаны, на поздних копиях, на титуле и в конце текста указано имя автора — С. Дурылин. На л. 10 об. КП–681/15 приписка рукою предположительно В. Д. Кузьминой — одной из первых серьезных библиографов Дурылина — «войдет». Возможно, речь идет о «вхождении» рассказа «Грех земле» в один из проектов собраний сочинений, предполагаемых к изданию уже после смерти Дурылина, в 1960–1970-х гг., в подготовке которых принимала участие и В. Д. Кузьмина, — и ни один из этих проектов не был осуществлен. Однако достоверно известно, в какой контекст этот рассказ был помещен в конце своей жизни самим Дуры-линым . Речь идет о самом, наверное, знаменитом (и самом большом по объему) творческом проекте «болшевского отшельника»: об «Углах», т. е. о корпусе «В своем углу» и «В родном углу». Анализируя структуру «Моих воспоминаний»10, нетрудно заметить, что «болшевский мудрец» располагает их в хронологическом порядке, но не по дате их написания, а по хронологии тех событий, которые в них описаны. Это этапы духовного пути главного героя повествования, его переправа через «реку времен». Поэтому история о кающемся земле солдате, помещенная после воспоминаний о предвоенном переживании «духа музыки» и перед размышлением о несуетности мнимо-суетного бытия Московского старца в период расцвета мечевской общины — в 1920-е гг., знаменует весьма важный для alter ego Дурылина — писателя Сергея Раевского — момент.
Смысл этого момента заключен в титульной теме текста — в теме «греха земле». Само название рассказа, да и содержание его, относит нас к русскому духовному стиху «Непрощаемый грех», бесспорно известного Дурылину:
Уж как каялся молоде́ц сырой земли
«Ты покай, покай, матушка сыра земля!
Есть на души три тяжки́ греха, Да три тяжкие греха, три великие: Как первóй на души велик-тяжек грех — Я бранил отца с рóдной матерью;
А другой на души велик-тяжек грех — Уж я жил с кумой хрёстовою, Уж мы прижили млáдого отрока;
А третий-от на души велик-тяжек грех — Я убил в поли брателка хрёстового, Порубил ишо челованьицё хрёстное!» Как спрогóворит матушка сыра земля: «Во первóм греху тебя Бог простит, Хош бранил отца с рóдной матерью, — Втогды глупой был, да неразумной слыл; И во другом-то греху тебя Бог простит. Хоша жил со кумой со хрёстовою, Хоша прижили млóдого отрока, — Втогды холост жил, да неженатой слыл; А во третьём греху не могу простить, Как убил в поли братёлку хрёстового, Погубил челованьицё хрёстное11.
Современные Дурылину исследователи-фольклористы указывали на происхождение этого стихотворения в среде стригольников — духовного движения, возникшего во второй половине XIV в. в Новгороде12. Вполне допустимо предположить, что причины обращения Дурылина к этой теме кроются не только в глубоком интересе к русскому фольклору, но и в самом содержании учения стригольников, повлиявшем и на богословие старообрядчества, в частности на сотериологию не-товцев и бегунов13: «„Поставление на мзде“, или симония, была одной из главных причин происхождения секты С<тригольников>. <…> Так как не одни только низшие клирики, но и епископы и митрополиты, по мнению С<тригольников>, поставлялись „на мзде“ и, так как в этом святокупстве принимал участие и сам патриарх константинопольский с его священным собором, то всех их сектанты признавали незаконными. <…> Отсюда они выводили, что не нужно принимать ни учения, ни священнодействия от таких пастырей, что все священнодействия их недействительны. <…> У них было свое крещение; все остальные таинства православной церкви они или отвергали, или понимали своеобразно: вместо исповеди у священников С<тригольников> учили каяться самому, припадая к земле»14 (курсив мой. — А. Р.). Историческая параллель между симонией XIV в. и процессами в русской церкви перед Собором 1917–1918 гг. недвусмысленна, и, как участника предсоборных и после-соборных процессов, весьма интересовала Дурылина. Общая же тема оскудения благодати человека и святости первотвари («Матери-Земли») получила свое выражение в поэтическом творчестве Дурылина еще с начала 1910-х гг.:
У земли
Тихо под ветром бесшумным Клонится колос к земле.
Боже! Дай жить нам, безумным, Тихо на тихой земле.
Желты над озером кручи, Дождь закликают стрижи.
Трепетны, нежны, певучи Песенки спеющей ржи.
Ветер порывом несмелым Ластится к нежной воде.
Озеро облаком белым Стынет в студеной слюде.
Дождика радостный лепет, Говор без горестных слов, Ржи наклонившейся трепет, Синих во ржи васильков.
Но прошумит — и бесшумной Станет и светлой земля.
Боже! Мы в доле безумной — Праведна только земля15.
С этим стихотворением уместно сопоставить другое, чуть более позднее стихотворение Дурылина, вероятно, из «Месяцелова» («Народного календаря», примерно 1915 г.) (текст сохранился не целиком):
Плач земли (Духовный стих)
Возрыдается мать-земля, расплачется Под стопами грешными, Лик земляной увядает, старится Скорбью неутешною.
Тут Архангел явится, Огнелик да радостен, Скажет Земле-матери белоризец благостен: — Что тебе печалиться, Горевать да стариться?
Не лишилась доступа Ты в чертоги Божии, — Умоли ты Господа, Припади к подножию.
Припадает к Господу мать-земля рыдаючи, Слезно заклинаючи.
Ей Господь ответствует: — Чту, Земля, ты плачешься, Чту, скорбишь да старишься?
— Аль дождем не вспоена, Ночью не покоена?
Али солнце тусклое над землею русскою? Аль туманы сизые Застелили ризами Как во гробе сущую Жизни не имущую?
Али ветры свеяли Все, что люди сеяли? Али грозы лютые Жалят, не жалеючи, То-ль? хлеба пригнутые, Тяжким градом сеючи? Аль скудеют токами, Замутясь истоками, Воды твои малые? Али зори алые
В поймах над покосами Не блистают росами? Аль тебе недужится, Т у гой крепкой тужится? Что же ты болезнуешь Скорбью лютой слезною? Отчего, убогая, Терпишь скорби многие? — Зарыдала Мать-Земля, заплакала, Ризу Божию слезами подзакапала, Говорила Мать-Земля рыдаючи, Ко Христу ко Свету припадаючи: — Я дождем, Земля, напоена, Темью-ночью успокоена, Солнышко не тусклое Над землею русскою, И туманы сизые
Не застлали ризою Как во гробе сущую Жизни не имущую16.
Такая трактовка Матери-Земли как безгрешной заступницы, страдающей от человеческого греха, характерна для 1910-х гг., когда теллурические мотивы присутствовали в творчестве многих современников С. Н. Ду-рылина — и поэтов, и философов (достаточно вспомнить философов С. Н. Булгакова, свящ. П. А. Флоренского, кн. Е. Н. Трубецкого; поэтов Н. А. Клюева и Вяч. Иванова)17. Однако здесь нет еще речи о метафизическом предательстве, грехе непрощаемом. Тема непрощаемого греха (вариант: всеобщей бесноватости) в разных своих формах появляется в русской философской риторике только после октябрьского переворота 1917 г. и Гражданской войны18. Не случайно научное освоение и философская рецепция русской народной духовной культуры происходит уже в ХХ в., преимущественно в культуре русской эмиграции, когда остро встал вопрос и о собственной национальной идентичности, и о метафизических основаниях русской истории. Не случайно, что наиболее точно теллурические мотивы в русском духовном стихе удалось проанализировать только Г. П. Федотову (1935 г.), и стих о «грехе земле» неизбежно попадает в сферу его внимания: «хотя лишь третий грех является непро-щаемым, но все три объединяются одним признаком: это грехи против родства кровного или духовного»19. «Непрощаемый грех» дурылинского солдата, которому нет места в декалоге и каноническом исповедальном чине, и есть грех предательства духовного родства, грех метафизического братоубийства, неизбежный в любой братоубийственной войне.
Текст дурылинского «Греха земле» интересен еще и тем, что, по всей видимости, это первая интерпретация исходного текста — духовного стиха «Грех земле», опубликованного В. Варенцовым; интерпретация, зазвучавшая столь мощно в культуре эмиграции и в «тартуской» и постсоветской фольклористике, — такого рода. В целом же, истоки антипози-тивистской трактовки «народного православия», истоки понимания того, что, словами современного исследователя, «народная вера представляет собой не механическое смешение, не функциональное распределение язычества и христианства (именно при такой ситуации… стоит употреблять термин „двоеверие“…), а нерасторжимый сплав, представляющий качественно иное духовное образование, чем ортодоксальное христианство, сплав, где преображенное язычество стало необходимой частью мировоззренческой системы»20, следует искать здесь. В текстах Дурылина рубежа 1910–1920-х гг., проделавшего в этот период стремительную духовную эволюцию от «культурного язычества», как национально-фольклорного, так и «западнического» толка (вагнерианство), к православной ортодоксии, как и в более поздней прозе, воплощена, безусловно, христианская модель мира в той же мере, в какой она воплощена в русском духовном стихе или духовной притче.
Сергей Николаевич Дурылин
Грех земле21 (Письмо к другу)
В монастыре ударили к вечерне.
Пишу тебе, сидя в своем мезонинчике22 в две комнаты, с розовой геранью на окне, с привычной старой тишиной, до-полна наполняющей мои комнаты. До меня здесь жила какая то старушка. На стенах висят старые генералы в синих рамках и потемневшая олеографическая «Буря» в золотой блеклой раме. Стенные часы одни хрипло шумят в комнате. Колокол зовет к обычной воскресной вечерне, а я вспоминаю то, что рассказывал мне недавно кладбищенский священник. Слушаю колокольный звон и вспоминаю.
В покаянные дни у него на кладбище была всенародная общая исповедь. Кто пойдет исповедоваться к кладбищенскому батюшке? У всякого свой приход23. Но пришли все таки и каялись: это те — кто к кладбищу привыкли, частые хаживатели на милыя могилы, или кто ближе живет.
Знаешь, как идет общая исповедь? Батюшка перечислял грехи по заповедям, объяснял, как чем и кто прегрешает против заповедей и все каялись.
Завидовали? — Да, конечно, завидовали: как не завидовать — у одного много, у другого — нет ничего.
Осуждали? — И осуждали. Грешны. Помним, все помним: «Не судите, да не судимы будете», но не можем, не можем не судить. Осуждали и какая-то проклятая легкость закрадывается в душу, как осудишь: точно, что́ сбросишь с души, и полегчает. Конечно, это обман, это от дьявола, но падка душа на эту легкоту осуждения. Грешны. Осуждали.
только с Декретом об отделении церкви от государства); они служили для записи всех прихожан, принадлежащих к той или иной церкви. Каждое 1 октября представлялись благочинным в консисторию (см.: Полный православный богословский энциклопедический словарь. Том. 1. Стб. 977–978). Протест против бюрократизации таинства покаяния выразился в том числе и в практике общей исповеди , возникшей стихийно в конце XIX в.; одним из наиболее известных священников, практикующих общую исповедь, стал преп. Иоанн Кронштадтский. Практика «общей исповеди», как и идеи о необходимости реорганизации церковных приходов, стали особым предметом дискуссий перед Поместным Собором 1917–1918 гг. Заключение Богослужебного отдела Поместного Собора было отражено в докладе «Об упорядочении богослужения»: общая исповедь допускается при большом стечении народа, но с обязательным последующим личным исповеданием (см. об этом: Кравецкий А. Г. Проблемы Типикона на Поместном Соборе // Ученые записки Российского Православного университета св. ап. Иоанна Богослова. 1995. Вып. 1. С. 86–87). Практика общей исповеди и сейчас существует в Русской Православной Церкви во время богослужений Великой среды (среда Страстной Седмицы).
Взгляд Дурылина на церковный приход был им изложен в предсоборной брошюре: Дурылин С. Приход, его задачи и организация. М., 1917. Подчеркивая, что «вопрос о православном приходе и его организации является одним из важнейших вопросов церковно-общественной жизни в новой России. Только при правильно организованной жизни прихода, как основной малой ячейки церкви, возможно преуспеяние и развитие церковной жизни вообще» ( Дурылин С. Приход, его задачи и организация… С. 3). Автор в качестве основных задач прихода видит не только его юридическую самостоятельность (Там же. С. 12–13)), но и в первую очередь возрождение церковной жизни изнутри. Чрезвычайно важно, что в рассказе речь идет об исповеди кладбищенскому священнику, т. е. священнику, чей подлинный приход — скорее покоящиеся в земле до воскресения вечного, чем живые. Эта интуиция — интуиция всеединства всей твари («тварь к твари тяготеет» — «Жалостник»), выраженная в практике христосования с усопшими, встречается и в «Углах» (см., напр.: Дурылин С. Н. В своем углу. М., 2006 . С. 581-582).
И воровали, и роптали на Бога, и отчаявались в его силе, и лгали, и гордились… Всякому греху было место, было время, была воля. И все, все сколько ни было в церкви, все [равны] в одном: [в грехе].
До чего подлинно и несомненно это безспорнейшее из равенств, — равенство, действительно достигнутое, прочное, всеобщее — равенство по греху24. Как тяжело! Вот общность, вот объединение, — и в какой тоске смотришь на себя. Вспоминается горькое слово апостола25: «Единем человеком грех в мире вниде и грехом смерть. И тако смерть во вся че-ловецы вниде, в нем же вси согрешиша» (<Рим 5:12>), — [Слово это] вспоминается с тоской, с отчаянием. О, как чувствуется это горькое братство по греху с каждым, — вот с этой плачущей старушкой в штопанном платке, вот с той худой женщиной с грудным ребенком, вот с тем замкнутым, почти угрюмым мужиком в поддевке, что стоит у старого Николы и смотрит в землю. Все, все в грехе: — и все одно и то же, одно и то же!
И всякому греху свое место в заповедях — тысячелетния и нерушимые даны ему определения. Мера греха определена — и в течение тысячелетий ею мерит свои падения человечество.
Тут нет власти истории: одно и то же.
Первая заповедь — и плачь, и кайся, что нарушил ее. Вторая — и опять время слезам твоим и сокрушению. И третья, и четвертая, и все десять… Там шла общая исповедь и кончилась, и вдруг один из исповедников — солдат, еще молодой, красивый, сильный, и одет чисто и складно — встал на колени у левого крилоса и сказал с тоской и скукой тяжкой и давящей в голосе:
— А я еще, батюшка, грешен.
— Так кайся, — говорит священник.
— Я без заповедей грешен. Я земле грешен.
— Может быть, отдельно скажешь?
— Нет, я тут же, где уж все. Со всеми.
Положил фуражку на пол.
— Я земле грешен. Слушал я — в заповедях об этом не сказано, а грех у меня этот есть. Каюсь.
Священник не понимал, не понимали и оставшиеся в храме исповедники, какой этот грех, а солдат мучился, все пытался объяснить и не мог, и все твердил упорно:
— Я земле грешен, каюсь.
И было видно: это то и томит его, это то и есть главный грех, а те другие грехи — крал, обидел, завидовал и проч. — только добавок к этому главному греху.
Покаешься в этом — отпадут и все остальные.
Священник не знал, как ему помочь. Потом догадался:
— Ну, рассказывай, как жил: на земле жил, на земле грешил. Все, что тебя мучает, тут и обнаружится. Говори все по порядку.
— Вот, вот, — обрадовался солдат.
И стал рассказывать всю жизнь — с тех пор, как ушел из деревни на войну. Его жизнь — совсем не его жизнь, т. е. в ней не было ничего отдельного, ничего своего, с другими необщего…
Солдат рассказывал обыкновенную русскую жизнь последних четырех лет.
Ты помнишь строчку современного поэта:
Мы — дети страшных лет России!26
Вот это и рассказывал один из таких детей. Назови его, как хочешь: для церкви он — просто грешник, как я, как ты, как все мы.
Он был на войне. Он шел с войны в деревню и опять в город для войны. Он убивал и мог быть убит. Он ненавидел и его ненавидели. Он зарился на вещи, на легкую, богатую жизнь, и добывал ее себе, что то пел, что то кричал, от каких то побед ликовал, чьим то слезам радовался, — и вот теперь [он] тоскует на каменном полу, и в заповедях, на тысячелетия отмеривших меру грехам человеческим, не находил места своему греху, и мучается, безсловный, безсильный сказать, что же он сделал такого, что самое слово не вскрывает томящего греха, он только повторял с тоской27:
— Я землю обидел. Я земле грешен.
Что же он сделал?
Мне припоминается другое время и другое место России. Я не рассказывал тебе об этом. Но вспомнилось при рассказе священника.
Я жил тогда в черноземной полосе России. И было благодатное для хлебов лето, со спорыми, — к времени, — дождями, безбурное, погожее, долгое. Все были в поле. Деревня вымирала от зари до зари. Старики — и те тянулись к хлебу, на полосы. Рожь стояла рослая, важная, тихая… Была жатва — и плодоносящая земля была у всех в думах, в надеждах, в трудах.
Милость Божья! — говорили мужики, глядя на хлеба и крестясь. Сами люди становились как то добрее от доброты земли. На всем была улыбка сдержанной, но глубокой радости. Бог дал хлеб. Велик час щедроты Божией!28
Я шел по меже и вдруг увидел лежащего на меже старика в чистой рубахе, то был Иван Акимыч, церковный староста. Я знал, что он болен.
— Что, Иван Акимыч, на солнышке греетесь? — спросил я, поздоровавшись.
— Да, — отвечал он, — а будто и нет, не то…
Он остановился.
— Что же?
— С землей прощаюсь.
Он помолчал и пояснил:
— Умирать собираюсь.
И вдруг, встав с земли, с трудом, с болью, он сказал мне:
— Радует земля то: ишь, сила какая. Хлеб родила. И умирать не хочется, а пора приходит. Наглядеться на все хочется.
Он опять не на долго замолчал.
— Земле не грешил. Благодарю Бога. Человека обидишь — грех, — ну бывает, и он обидит: грех на грех, обида на обиду, а землю обидишь — вдвое тяжело: она человеку обиды никогда не чинит, а кто ей обидчик, с того Бог взыщет.
— А чем же земле согрешить можно?
— Земля — праведная. Кого земля обидела? кого убила? кого ненавидела? кому позавидовала? Она — ровно, как дитя малое: безгрешная, и коли обидел ее — знай: дитё малое обидел. По земле, по матери, всем бы нам в правде быть, а мы друг на друга воюем.
Иван Акимыч опять сел на межу и указал мне рядом с собой место. Колосья заглядывали нам в лицо. Пахло густым запахом совсем спелой ржи.
— Я съизмальства грамотен — так читал. Кому Каин согрешил, как брата убил? Земле: тогда земля застонала впервой и Богу на человека жаловалась29. И в старые годы, когда недост ойные брани
<…> урожай — это была всенародная радость, тихая, сосредоточенная, глубокая.
— Будем с хлебом, говорили все, прибавляя неизменно: если Бог даст убрать…
Но за этим, за радостью о насущном хлебе, была и совсем другая, еще более утаенная и благоговейная радость:
— Уродил Бог. Значит, не до конца прогневили.
Это было знамение Божией милости» ( Дурылин С. Н. Начальник тишины // Дуры-лин С. Н. Русь прикровенная. М.: Паломникъ, 2000. С. 297–298).
-
29 Кому Каин согрешил, как брата убил? Земле: тогда земля застонала впервой и Богу на человека жаловалась . — Каноническая основа текста: Быт 4:1–11: «Адам познал Еву,
бывали30, земля стоном стонала и плакала и к Богу тот глас землин доходил. А оттого, что междуусобная брань — первый против земли грех. Земля на согласии стоит, и вся тварь божьей воле согласна. А мы враждуем. Так и в церкви: просят от междуусобныя брани из-бавления31. Где свара, где усобица — там, знай, против земли грех. А обидеть ее, как дитё, за то Бог взыщет строго.
Иван Акимыч оглянулся.
жену свою; и она зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа.
И еще родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец; а Каин был земледелец. Спустя несколько времени, Каин принес от плодов земли дар Господу, И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его, А на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его. И сказал Господь Каину: почему ты огорчился? и отчего поникло лице твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему? И сказал: чту ты сделал? голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли ; И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей (курсив мой. — А. Р. ).
Ср. также: Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени. [Выпуск] № 1.2. Как мы умираем: — Ты кто? Блуждающий в подсолнечной?
— Я нигилист.
— Я только делал вид , что молился .
— Я только делал вид, что живу в царстве .
— На самом деле — я сам себе свой человек. <…>
И солдат бросает ружье. Рабочий уходит от станка.
— Земля — она должна сама родить.
И уходит от земли.
— Известно, земля Божия. Она всем поровну.
— Да, но не Божий ты человек. И земля, на которую ты надеешься, ничего тебе не даст. И за то, что она не даст тебе, ты обагришь ее кровью.
Земля есть Каинова и земля есть Авелева. И твоя, русский, земля есть Каинова. Ты проклял свою землю, и земля прокляла тебя. Вот нигилизм и его формула» ( Розанов В. В . О себе и жизни своей. М., 1990. С. 582).
-
30 И в старые годы, когда недостойные брани бывали. — В варианте КП–681/10 (автограф): как <недостойные брани бывали>.
-
31 Так и в церкви: просят от междуусобныя брани избавления. — Тропари и кондаки иконам Божией Матери, Боголюбской Иконе Божией Матери Тропарь, Глас 1 : «Боголюбивая Царице, неискусомужная Дево Богородице Марие! Моли за ны Тебе Возлюбившаго и рождшагося от Тебе Сына Твоего Христа Бога нашего, подати нам оставление прегрешений, и мирови мир, земли плодов изобилие, пастырем святыню и всему человечу роду спасение. Грады наша и страны Российския от нахождения иноплеменных заступи и от междуусобныя
— А благодать какая! Хлеба то, гляди — медведь медведем стоят!
И против сего то враждой идти? О, Господи, помилуй нас грешных!
Я вспомнил этот разговор на меже под июльским солнцем, в тихий страдный час, слушая рассказ священника, о котором тебе пишу.
Солдат с полуслова понял бы Ивана Акимыча, а тот, я думаю, и вовсе без слов понял бы, откуда у солдата тоска и в чем он кается.
Плачет земля. И тяжко тому, кто заставил ее плакать, ведь рано или поздно он поймет это.
Да, она плачет и так бесконечно горестен и безпомощен ее плач! Плачет земля, русская земля, — вот эта обычная, простая наша земля, зеленеющая рожью, убеленная душистой гречихой, синеющая нежным льном, — тысячеверстная родная наша земля! И ее слезы — нам укор, наш грех. Пусть возделываем мы ее, исполняя определенный нам жребий, пусть проводим по ее лицу трудовые борозды, пусть поливаем ее потом, бросая в нее семена, снимая с нее жатву и вновь готовя ее к севу, пусть тяжек труд наш над землей, но ведь и Каин был земледелец, и Каин трудился и лил пот свой над землей — и однако она стонала под бременем причиненных им обид, и она с болью и страданием ощущала его стопы над собой, и с плачем носила его на себе.
«Каин, где брат твой Авель» — слышался над землей гневный глас Божий.
Плакала земля, — ибо что мог ответить на этот вопрос прилежный земледелец Каин32.
Оканчиваю письмо.
Однако, милый друг, грустно на душе.
Стемнело…
За окном тихо и пустынно. Поля начинаются всего через улицу, и когда звонят в монастыре, густой, древний звон расходится по полям брани сохрани. О Мати Боголюбивая Дево! О Царице всепетая! Ризою Твоею покрый нас от всякаго зла, от видимых и невидимых враг защити, и спаси души наша».
и слышен далеко, за несколько верст и носится в полете ангельском над полями. И верится мне: он кого то позовет оттуда, с полей, кто грешен земле33, — и приведет его в храм, к алтарю, и бросит на каменный пол просить у Бога слез и покаяния.
Я вслушиваюсь в верный и упорный звон колокольный, и я верю, что он может это сделать: в нем столько благородной силы.
О еже подати в нем благодать, яко да вси слышащий звенение его или во дни или в нощи возбудится к славословию имени святаго Твоего.
О еже отгнати всю силу, коварство же и наветы невидимых врагов от всех верных своих, глас звука его слышащих, и к деланию заповедей Своих возбудити тии я, Господу помолимся34.