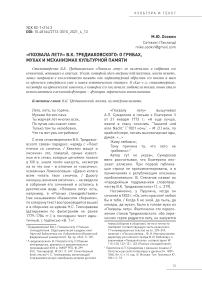"Похвала лету" В.К. Тредиаковского: о грибах, мухах и механизмах культурной памяти
Автор: Осокин Михаил Юрьевич
Журнал: Сфера культуры @journal-smrgaki
Рубрика: Культура и текст
Статья в выпуске: 2 (4), 2021 года.
Бесплатный доступ
Стихотворение В.К. Тредиаковского «Похвала лету» не включалось в собрания его сочинений, оставаясь в списках. Текст, который здесь впервые публикуется, минуя печать, запал напрямую в коллективную память как карикатурный образчик его поэзии и там со временем утвердился уже в новом эстетическом статусе. В 1840-е гг. стихотворение, несмотря на иронические кавычки, в которые его заключали любители поэзии, вновь стало использоваться в исконной функции - функции лирического высказывания.
В.к.тредиаковский, поэзия, культурная память
Короткий адрес: https://sciup.org/170178416
IDR: 170178416 | УДК: 82-1+316.3 | DOI: 10.48164/2713-301X_2021_4_13
Текст научной статьи "Похвала лету" В.К. Тредиаковского: о грибах, мухах и механизмах культурной памяти
Лето, лето, ты горяче, Мухами богато паче.
Ты жарчай лет многих всех,
По лугам сам скачет смех.
Только тем ты нелюбовно,
Что ты вот ужь негрибовно1.
С этим стихотворением В.К. Тредиако-вского связан парадокс: наряду с «Поют птички со синички, / Хвостом машут и лисички» это, пожалуй, самые известные его стихи, которые ценители поэзии в XIX в. знали почти наизусть, несмотря на то что они – в отличие от «лисичек», осмеянных Ломоносовым: «Давно изгага всем читать твои синички, / Дорогу некошну, вонючия лисички», – не входили в собрания его сочинений и остались в рукописном виде. «Похвала лету» есть, например, в «Разных стиходействиях» (так называемом «Казанском сборнике», по которому текст воспроизводится выше) и в сборнике из архива Н.С. Тихонравова (датируемом по филиграням не ранее 1779–1784 гг.); в последнем текст идентичный, с подписью «В: Т:»2.
«Похвалу лету» вышучивал А.П. Сумароков в письме к Екатерине II от 31 января 1773 г.: «А еще лучше, ежели я стану сочинять “Tausend und eine Nacht” (“1001 ночь”. – М. О. ) или, по крайней мере, писать высокопарные оды, думая: <…>
Живу любовно;
Тому причина та, что лето не грибовно».3
Автор тут не указан, Сумароков явно рассчитывал, что Екатерина опознает аллюзию. При первой публикации строки не прокомментированы, а в примечаниях к републикации опознаны приблизительно: В. Степанов назвал их «пародийным подражанием словотворчеству В.К. Тредиаковского» [1, с. 219].
Несомненно, у Пушкина, когда он сочинял в 1833 г. «Ох, лето красное! любил бы я тебя, / Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи», были в голове мухи из «Похвалы лету». Фактически это переложение стихов Тредиаковского: оба лири ческих героя радуются лету, но жалуются
(«только тем ты не любовно…» ср. «любил бы я тебя, когда б…») на сопутствующие досаждающие обстоятельства. Согласно воспоминаниям А.О.Смирновой-
Россет, «Пушкин говорил, что его любимый поэт – Тредьяковский, а после него – граф Хвостов; в доказательство изящества Тредьяковского он цитировал два стиха:
О лето, лето, тем ты мне не любовно, Что ахти не грибовно» [2, с. 418].
Основываясь, вероятно, на мемуарах, Даниил Лукич Мордовцев в романе «Двенадцатый год» (1880) заставит юного арапчонка Пушкина в присутствии М.Л. Магницкого и М.М. Сперанского выкрикивать строки: «Лето, лето горяче! Обильно мухами паче!»1, а Николай Голицын в 1869 г. не слишком к месту вынесет в эпиграф к очерку о Царскосельском лицее:
«О лето, лето горяче,
Мухами обильно паче,
Только тем не любовно,
Что не грибовно!
В.К. Тредьяковский»2, – и примется многословно, на разные лады обыгрывать «вирши онаго пребла-гознаменитаго мужа, Элоквенции профессора и всероссийскаго пииты» в рассказе о летнем пансионе.
Стихи всякий раз цитировали на память с разными вариациями, из которых не было ни одной правильной. У Смирновой-Россет же в автобиографических записках стихи встречаются в другом виде, уже в собственном рассказе о том, как она «дразнила» немца, который восторгался Гансом Саксом и противополагал его «плевому Пушкину»: «Как же не так, а зато ваш башмачник
Hans Sachs не может сравниться с нашим великим Тредьяковским, этот был прямо скондачка и писал: “О лето, о лето, Тем ты не любовно, что вовсе не грибовно”. Смейтесь над грибами, вся Россия объедается грибами в разных видах, и жареных, и вареных, и сушеных. Мужики ими наживаются, и в необразованной Москве рынки завалены сушеными трюфелями. Я смерть люблю грибы, жареные на сковороде» [2, с. 214]3.
Стихи эти надолго сделались карикатурой и использовались для порицания Тредиаковского. Геннадий Симоновский в «Беседе с Ученым» (1832), где громится вся русская литература XVIII века, приводит иной вариант:
Скажите, что за чувство в сей идиллии: Лето, лето, ты горяче, Мухами обильно паче,
Но вот тем лишь не любовно, Что вот ты вот не грибовно4.
Д.Н. Бантыш-Каменский, цитируя в своем словаре (1836) образчики дурной поэзии Тредиаковского, не затрудняясь установлением источника, ухудшает оригинал «Похвалы лету», – никто не скажет сейчас, с умыслом или так запомнилось, – частично передавая его амфибрахием:
«Удивительно, каким образом Тредьяковский, писавший: <…>
«О лето, ты лето горяче
Мухами обильно паче:
Только тем ты, лето, не любовно, Что не грыбовно», и проч. <...> Каким образом такой жалкий стихотворец мог огорчать критикою своей безсмертнаго нашего Пиндара? (см. биографию Ломоносова)» [5, с. 149–150]. Наряду с этой он приводит выписки:
«Весна катит, / Зиму валит…» (с указанием «Из песенки Тред.»); «С одной страны гром, / С другой страны гром...» («Из описания грозы, бывшия в Гаге»); «Да здравствует днесь Императрикс Анна...»; «Там на низу при престоле стояла смерть цветобледна...» (с указанием «Из Тилемахиды»), но только при «Похвале лету» и сочиненной в Гамбурге «Песни» Анне Иоанновне (1730) не указывает источники1.
Рассказывая о развлечениях воспитанников петербургского Императорского училища правоведения в конце 1830-х – начале 1840-х гг., мемуарист пишет: «Нам мало было Пушкина, Лермонтова, барона Дельвига, князя Вяземскаго, Языкова, Кукольника, мы познакомились и с Василием Кирилловичем Третьяковским, заучивали и цитировали и его творения. Конечно, это уже делалось как контраст; это было как кайенский перец к пище. Во время вечерняго приготовления к завтрашним урокам, подчас надоедливым и скучным, какой-нибудь шутник, взойдя на кафедру, начинает:
О лето, лето, ты горяче
И мухами обильно паче или:
Раз девка на реке, мыв платье зарыдала …» [7, с. 46–47]2.
В псевдоисторической сцене П. Григорьева «Указ 1756 года» (1856) комический актер Яков Шумский издева- ется над Тредиаковским, декламируя эти строки якобы из «Деидамии»:
«Шумский ( протяжно ). “Вы восхотели быть сама тем добровольно!” Деидамия! я… чтож я вам изреку?..
(Скороговоркой.)
О лето, ты лето горяче,
Мухами обильно паче,
Только тем ты, лето, не любовно,
Что грыбовно — (Все хохочут.)
Тредиаковский (вскочив) . Позвольте! это вы не из трагедии...
Шумский. Ах, виноват! я столько переучил ваших стихотворений, что все вместе мешаю невольно...»3.
Актеры продолжают и дальше зачитывать стихи Тредиаковского «не той материи». Рецензент пьесы в «Библиотеке для чтения» назвал это «остроумной мистификацией»4; на самом деле строки, с одной переменой, взяты из словаря Бантыш-Каменского. Ничего подобного в «Деидамии» (1750), разумеется, быть не могло. Эта высокая трагедия на античный сюжет, опубликованная посмертно в 1775 г., писана ямбическими гекзаметрами.
Тут стихи, искажаясь и варьируясь, еще используются для осмеяния Тредиаковского, но уже в 1840-е гг., благодаря нескольким особенностям, перестают быть только карикатурою. Они чеканны, похожи на поговорки: «Коли грибовно, так и хлебно (хлебовно)», «В добре советно, а бедовно, не любов-но»5, «Пережили лето горяче, переживем и г<овно> собаче»6, а главное коротки, и потому легко запоминаются и потом при случае всплывают в памяти.
Стихи настолько врезываются в коллективную память, что приходят на ум уже невольно, когда жарко и нет грибов, или даже нежарким летом, и тогда они с легкостью превращаются в свою антитезу.
«Лето, лето, ты горяче,
Мухами обильно паче,
Только тем ты не любовно, Что, увы, ты не грибовно!
Чтобы ( так! ) сказал безсмертный Тредьяковский в лето 1846 года, которое весьма горяче, и не грибовно, но мухами не обильно; мух почти незаметно; где они, что с ними сталось; уж не слишком ли им жарко и оне улетели в Архангельск на умеренное лето, потому что наше во все не северное»1, – острит петербургский еженедельник «Иллюстрация» в июле 1846 г. Н.М. Языков 10 августа 1846 г. пишет к Н.В. Гоголю: «Я собираюсь в Москву; пора уже и на зимнее сидение. Июль и половина августа были у нас жарки невыносимо. Лето было гор<яч>е2 и мухами богато паче, но “тем не любовно, что не грибовно”»3. Здесь нет ссылки на Тредиаковского, значит, Языков предполагал, что Гоголь должен был знать автора. 24–26 июня 1849 г. Г.С. Батеньков цитирует стихи в письме из Томска к А.П. Елагиной, тоже без ссылки, и стилизует продолжение: «Лето у нас непаче обильно мухами, не грибовно, безко-марно и не зело горяче. Громы часто… и теперь гремит»4. Петр Вяземский в «Путешествии на Восток» (1849–1850) пишет, проезжая рощи в Ливане: «Так пахнет иногда от них Русью, что захочется слезть с лошади и пойти по грибы, но вспомнишь Тредьяковского и скажешь:
Лето, всем ты любовно,
Но, ах, ты не грибовно»5.
Провинциальный священник
И.С. Белюстин (1819–1890) записывает в дневнике в августе 1849 г.: «10-е Августа. Целый день пробродив по лесам, кочкам и болотам, измученный и усталый принимаюсь однако ж за перо, чтобы накидать несколько мыслей, которые толпились в голове в то время, когда собирал я грибы. Прежде всего – в лесу мне вспомнились стихи Тредиаковского, которые при всей неблагозвучности своей, удивительно верно характеризуют нынешнее лето:
О лето прегоряче
Ты мухами обильно паче Но тем ты лето мне любовно, Что прегрибовно.
И в самом деле, такого обилия грибов, как в два лета, настоящее и прошедшее – не запомнят старики» [8, с. 36].
В эпоху реализма «грибы» и «мухи» уже не кажутся непоэтичными, архаизмы же становятся приметой «милой старины». Ирония, или привкус «кайенского перца», сохраняется, но уже не превалирует, и только священник Белюстин продолжает по инерции угрюмо критиковать искаженный словотворчеством текст за «неблагозвучность».
Все приведенные цитаты – как из первого, так из второго блока – роднит то, что авторы цитируют стихи исключительно по памяти; оригинала не знает никто. Текст в отсутствие его эдицион-ной «ратификации» был сокращен почти до объема частушки6 и сделался своего рода интеллигентским фольклором. То, что сначала запоминалось как образчик неуклюжей поэзии Тредиаковского, потом легко приходило на ум, когда «жара», «мухи» или просто «лето», в итоге стихотворение вновь стало использоваться в функции лирического высказывания, т. е. в той, в какой задумывалось Тредиаковским.
По содержанию стихи примыкают к его ранней пейзажно-календарной лирике («Весна катит, зиму валит…» периода «московских школ», «Описание грозы, бывшия в Гаге», которое заканчивается словами «Дни нам надо красны, / Приятны и ясны»), приложенной к циклу при «Езде в остров Любви» (1730), однако в него не входили и, судя по хорею, написаны позже: Тредиаковский «забраковал ямб» и начал утверждать хорей в 1735 г. [9].
Как видно, из коллективной памяти совершенно выпали третий и четвертый стихи. Судя по третьему, стихотворение относилось не к лету вообще, как у Пушкина, а к конкретному лету, которое выдалось особенно жарким («Ты жарчай лет многих всех»). Не берусь датировать его на этом шатком основании: это могло быть как лето 1737 г., оставшееся в истории своими пожарами, так и любое позднейшее «горячее» лето 1740–50-х годов.
«Смех», скачущий по лугам, из четвертого стиха – постоянный персонаж идиллий; играми и смехами (обычно именно во множественном числе это кальки с французских les Jeux и les Ris) полны барочные балеты и российские буколики XVIII столетия. Это божества, составляющие свиты Венеры, Купидона, Флоры, Зефира или Дианы, и генераторы идилличности: они прогоняют грозовые ветры и являются залогом гармонии. «С тобой игры и смехи, / С тобой веселье, радость», – писал А. Сумароков в оде анакреонтической к Елизавете Херасковой (1762). Когда сочиняется элегия, утехи, игры и смехи, наоборот, удаляются, ср. хотя бы элегии «Уже ушли от нас играние и смехи…» (1759), «Он игры мои и смехи / Превратил мне в злу напасть...» («О места, места драгие!», 1740-х) А. Сумарокова, «Сокрылися мои дражайшие утехи, / В жестокую печаль преобратились смехи» (1759) А. Аблесимова, «Обратитесь в плачи, смехи…» у молодого Г. Державина («Без любезной грудь томится…», 1776).
Выветрилась из памяти также балансировочная клауза в последнем стихе. Она всякий раз заменялась собственными втычками (термин Н.П. Николева); близко к оригиналу ее воспроизвел только Г. Симоновский, но с шаржирующим плеоназмом. Между тем «вот» и «уж» – это излюбленные Тредиаковским лексические балансиры, с помощью которых он выравнивал метр: «Сделались невдолге небольшим вот Облачком» («Облако и земля»), «Так что будет от нея всех их жизнь уж бедна. <…> То вот, отлетевши от лесов она густых… <…> Да уж бедных птичек всех оными и ловят» («Ласточка и птички»), «Что путник епанчу с себя вот снял долой» («Солнце и борей»), «Оного Лисице захотелось вот поесть; / Для того, домочься б, вздумала такую лесть» («Ворон и лисица»), «Но в голубятню к ним чуть Ястреб вот вселился» («Коршун, голуби и ястреб»), «Чего для воду, плут, ты мутишь так ногами, / Что вот ко мне течет она вся нечиста?» («Волк и ягненок»), «Для того вот Журавля нанял он ценою» («Волк и журавль»), «Счастливо Козленок, некогда уйти успев / От гоняща Волка, в овчий заперся вот хлев» («Козленок и Волк), «А ныне, как уж я тебе столь досадил, / Безмерно вот за то меня обогатил» («Человек и истукан»), «Слыша, Обезьяна захотела вот плода» («Обезьяна и орехи»), «Так что наконец ее всю уж обнажили» («Ворона, чванящаяся своими перьями»), «И ловить уж зверя в пищу силы не имел… <…> И Лисица вот пришла также пред пещеру» («Лев и Лисица») и т. п.
Позже стихи окажутся созвучными примитивистским стихотворным экспериментам, и сейчас снобизм людей первой половины XIX в., внезапно почувствовавших себя тонкими ценителями поэзии, выглядит смешнее, чем творчество Тредиаковского.
Список литературы "Похвала лету" В.К. Тредиаковского: о грибах, мухах и механизмах культурной памяти
- Степанов В.П. Комментарии // Письма русских писателей XVIII века / отв. ред. Г.П. Макогоненко. Ленинград: Наука, 1980. С. 182-223.
- Смирнова-Россет А.О. Дневник. Воспоминания / подг. С.В. Житомирская. Москва: Наука, 1989. 811 с.
- Демидов К. Слоны, мухи и слухи. Маленький фельетон // Правда. 1945. 30 авг. (№ 216). С. 4.
- Кошелев А.В. Примечания // Смирнова-Россет А. Воспоминания / сост., вступ. ст. и прим. А.В. Кошелева. Санкт-Петербург: Азбука, 2011.
- [Бантыш-Каменский Д.]. Тредьяковский Василий Кириловичь // Словарь достопамятных людей русской земли… составленный Дмитр. Бантыш-Каменским и изданный Александром Ширяевым: в 5 ч. Ч. 5. Москва: Тип. Августа Семена, 1836. С. 146-150.
- Иванов И. История русской критики. Ч. 1-2. Санкт-Петербург: Издательство журн. "Мир Божий", 1898. 509 с.
- [Молчанов М.М.]. Полвека назад. Первые годы училища правоведения в С.-Петербурге. Издал один из 1407 кончивших в оном курс выпуска 1845 года. Санкт-Петербург: Тип. Е. Евдокимова, 1892. 91 с.
- Леонтьева Т.Г. Из истории провинциального духовенства: И.С. Белюстин. Заметки [1847-1850] / текст с оригинала переписан Е.А. Занегиным; подг. текста, вступ. ст., коммент. Т.Г. Леонтьевой. Москва; Тверь: Тверской гос. университет, 2001. 131 с.
- Холшевников В.Е. Заметки о русском стихе XVIII века // XVIII век. Сб. 13: Проблемы историзма в русской литературе. Конец XVIII - начало XIX в. Ленинград: Наука, 1981. С. 229-234.