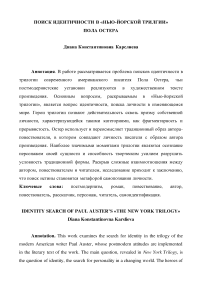Поиск идентичности в "Нью-йоркской трилогии" Пола Остера
Бесплатный доступ
В работе рассматривается проблема поисков идентичности в трилогии современного американского писателя Пола Остера, чьи постмодернистские установки реализуются в художественном тексте произведения. Основным вопросом, раскрываемым в «Нью-йоркской трилогии», является вопрос идентичности, поиска личности в изменяющемся мире. Герои трилогии познают действительность сквозь призму собственной личности, характеризующейся такими категориями, как фрагментарность и прерывистость. Остер использует и переосмысляет традиционный образ автора-повествователя, в котором совпадают личность писателя с образом автора произведения. Наиболее значимыми моментами трилогии являются осознание персонажем своей сущности и способность творческим усилием разрушить условность традиционной формы. Раскрыв сложные взаимоотношения между автором, повествователем и читателем, исследование приходит к заключению, что поиск истины становится метафорой самопознания личности.
Постмодернизм, роман, повествование, автор, повествователь, рассказчик, персонаж, читатель, самоидентификация
Короткий адрес: https://sciup.org/149139162
IDR: 149139162 | УДК: 821.111.0(73)
Текст научной статьи Поиск идентичности в "Нью-йоркской трилогии" Пола Остера
Современный американский писатель Пол Бенджамен Остер принадлежит к числу тех мастеров, которых трудно однозначно охарактеризовать, поскольку его можно именовать и поэтом, и переводчиком, и прозаиком, и драматургом, и даже сценаристом. Творческие устремления Остера разнообразны: как поэт он издал несколько сборников в начале творческого пути; написал ряд одноактных пьес; как переводчик выпустил антологию французской поэзии XX века; как сценарист и режиссер-постановщик работал над несколькими фильмами. Популярность – причем не столько в Америке, сколько в Европе – пришла к нему в 1980-х годах после выхода в свет «Нью-йоркской трилогии». По мнению критика Адама Бегли, «известность Остера обычно объясняется тем, что его романы принадлежат к европейской традиции и его предрасположенность к философии привлекают зарубежных читателей» [7].
Творчество Остера отличается не только своей самобытностью и глубиной охвата материала, но и разноплановостью, и видоизменяемостью. Как пишет английский исследователь М. Брэдбери в своей монографии «Современный американский роман», «книги Остера, написанные в стиле массовой литературы, демонстрируют многосторонность, приводящую в замешательство» [8, с. 259]. В этом, несомненно, большую роль сыграла включенность автора в мировой литературный процесс как современной, так и предшествующих эпох. На современном этапе развития культуры исследователи отмечают постмодернистскую ситуацию «всесинтеза» [3, с. 20], характеризуемую «гетерогенной множественностью: соединение всего и вся» [4, с. 64].
Творчество Пола Остера необходимо рассматривать, учитывая эволюцию его писательской манеры и видоизменения романной прозы. Принадлежа, по справедливому замечанию исследователя, к «двум-трем самым крупным американским писателям после 70-х» [6, с. 3], Остер как автор первых опубликованных романов («Стеклянный город», «Призраки» и «Запертая комната»), составивших «Нью-йоркскую трилогию», - самобытный постмодернист: и в мирочувствовании, миропонимании, и в творческой манере. Сложная природа произведений Остера не раскрывается на конкретном анализе текста. Отмечая особое положение писателя в литературе США, Дж. Гиббонс оправданно называет «Нью-йоркскую трилогию» высшим достижением в его творческом наследии. В целом, проза Остера неоднородна по жанрово-стилевым свойствам, тем самым оправдывая утверждение, что писатель в своем творчестве демонстрирует «единство постмодернистских проблем, модернистских вопросов и в определенной мере реализма» [6, с. 22]. Последний на данный момент роман автора «4321» (2017), написанный после семилетнего молчания, вызвал неоднозначную реакцию критиков и был номинирован на Букеровскую премию.
Среди множества загадок, спрятанных в тексте «Нью-йоркской трилогии», самой неразрешимой представляется вопрос об идентичности повествующего голоса: с нами говорит один повествователь или их множество? В романах трилогии рассматривается проблема самоидентичности, которая переходит в проблему смысловой структуры и ставит под сомнение онтологически различные категории автора, повествователя и читателя. Сам писатель признавал, что вопрос идентичности является основным в «Нью-йоркской трилогии» [5, с. 279]. В произведении личность персонажа становится текстовым порождением, обусловленным законами языка. Перед читателем разыгрывается ряд бинарных оппозиций: между характерами, участвующими в драматической, психологической и физической конфронтации, что демонстрирует невозможность чистого противостояния между личностью и другими. В то же время внутри каждой оппозиции возникает третий участник, бросающий вызов понятиям здравого смысла.
Изображение личности в трилогии постоянно меняет свою подлинность, и вопрос о достоверности перерастает в вопрос о подлинности реального, что приближает Остера к пониманию достоверности в духе теорий Ж. Бодрийяра.
Рассматривая взаимосвязь произведений Остера и теорий Бодрийяра, следует согласиться с мнением Д. Бароуна, что многие работы американского автора «могут быть использованы для иллюстрации идей Бодрийяра, хотя Остер не является восторженным пользователем этих идей» [6, с. 8-9], в то же время Л. Хатчеон в своей работе «Поэтика постмодернизма» заключает, что постмодернистские произведения подобные романам американского писателя пытаются оспаривать, «что может значить “реальность” и как мы можем знать это» [9, с. 223]. Думается, что произведение Остера в большей степени обыгрывает критику понятий симуляции и гиперреальности, исследует индивидуальность в изменяющемся мире.
В романах трилогии Остер последовательно рассматривает образ человека, познающего окружающую действительность сквозь призму собственной личности. Однако при обнаружении пустот и зазоров в сознании героев сама действительность оказывается дискретной, состоящей из фрагментарного пространства и прерывистого времени. Персонажей Остера можно охарактеризовать словами Ю. Кристевой, которыми исследовательница говорила о героях Ф. М. Достоевского как о «треснувших я», «расщепленных субъектах», носителях «разорванного сознания» [1, с.466, 471].
В романе «Стеклянный город» Остер использует и переосмысляет традиционный для литературы образ автора-повествователя. Этот образ характеризуется объективностью изображения, как и повествователь в традиционном смысле, отличается всезнанием. В отличие от других персонажей автор не участвует прямо в повествовании и не изображается посредством действующих лиц, напротив, из его суждений читатели могут почерпнуть точку зрения самого писателя, поскольку они совпадают.
В «Стеклянном городе», помимо всезнающего и объективно изображенного повествователя, присутствует персонаж по имени Пол Остер с автобиографическими чертами самого писателя Остера. В то же время Остер предлагает читателям своеобразную подсказку (впрочем, как можно догадаться, ведущую в ложном направлении) об истинном авторе текста. Главное действующее лицо (Квинн), несмотря на то, что произведение строится на основе его дневника, не влияет на само повествование. Выполнив отведенную ему роль, этот персонаж исчезает из текста, как и другие второстепенные герои. Это изменение координат при построении текста создает «виртуальность повествования», характеризующуюся постоянным колебанием между достоверностью и иллюзорностью выдвигаемых положений.
Следует отметить, что и в образе Квинна можно выделить автобиографические черты писателя. Как признался сам Остер в одном из интервью, он писал детективные романы под вымышленным именем из-за недостатка денег. И еще одна черта, объединяющая Остера–писателя и Квинна: они оба начинали свою литературную деятельность как поэты, писали пьесы, занимались переводами.
В финале романа выясняется, что безымянный повествователь и персонаж Остер связаны приятельскими отношениями, однако их дружба рушится из-за недостойного, по мнению рассказчика, поведения Остера в истории с Квинном. Подобные взаимоотношения являются новаторским приемом дублирования авторского присутствия в тексте. В финале повествование (до этого описывающее все события от третьего лица) начинает вестись от лица безымянного персонажа, который возвращается в Нью-Йорк из Африки и принимает участие в поисках Квинна. Смена рассказчика в повествовании лишь осложняет выявление истинного автора и, благодаря этому приему, лично-авторское переводится на уровень художественного романного мышления, когда каждое явление соотносится одновременно как с объектом, так и с субъектом. Невозможность четко обозначить автора произведения усугубляет неопределенность, которая присуща данному роману.
В заключительном абзаце романа безымянный повествователь утверждает, что «старался держаться как можно ближе к красной книге…», однако сам признает, что «красная тетрадь лишь половина истории» [2, с. 184]. Тем не менее, данный персонаж, претендуя на документальное следование истории, демонстрирует знание тех черт человеческого сознания, которые неизвестны самому герою: например, сны Квинна, о которых тот впоследствии забывает. Думается, что ни красной тетради, ни Квинна, ни Остера никогда не существовало – все они являются лишь вымыслом безымянного повествователя. Заключительное усложнение (решение рассказчика самому искать Квинна) переводит повествование на иной уровень вымысла. Единственный персонаж, который мог претендовать на авторство этого произведения и взять на себя ответственность за это сочинение, оказывается втянутым в свой собственный вымышленный мир.
В заключительном романе трилогии автор подтверждает существование трех романов как цельного произведения в том смысле, что они отражают различные этапы сознания безымянного рассказчика. Но является ли безымянный рассказчик в «Запертой комнате» тем же человеком, что и финале «Стеклянного города»? Насколько мы можем верить его словам? Повествователи обоих романов признали слабость их повествования, неспособность разрешить их дела. Акцент рассказчика на его уходе от толкования истории пародирует последнее заявление в «Запертой комнате» о единстве с двумя предыдущими романами.
Остер-автор, используя текст как зеркало, проецирует себя через образ повествователя и выдвигает понимание личности, погруженной в онтологически неясное поле смысловой структуры, лингвистическую черную дыру, в которой общепринятое понимание о разделении абстрактных категорий
– вымысле, истории, размышлениях, чувственном мире обычной личности, также как и о традиционном различии между автором, повествователем и персонажем – терпит крах.
В трилогии личность автора и его поиск является темой для исследования. В романе «Призраки» детективное расследование тайны становится метафорой поиска героем самого себя (причем характерен поиск протагонистом своей идентичности вне структуры текста) и поиска читателем значения в тексте. В этом произведении действует настоящий частный детектив Блю (в отличие от перевода С. Таска, опубликованного в издании 2005 года, в нашей работе используются имена персонажей романа «Призраки» в соответствии с авторским замыслом, т.е. Блю (Blue), Уайт (White), Блэк (Black) и т.п.) в отличие от героя «Стеклянного города», который пишет детективные истории и лишь пытается стать сыщиком.
Роман «Призраки» еще более открыто демонстрирует свою погруженность в проблемы языка, чем это обнаруживается в первом романе трилогии «Стеклянный город». Это история путешествия Блю от лингвистической наивности до языкового опыта, который, в конечном счете, приводит его к пониманию силы своего творческого начала и дает возможность выйти из запертой комнаты, куда его поместила триада, состоящая из Блэка, Уайта и безымянного рассказчика.
Подобно Блю, вынужденному сидеть и наблюдать за бездействующим Блэком, читатель осознает, что события, о которых повествуется в романе, не о персонажах, а о нем самом. Невозможно не связывать сюжет произведения с личным опытом, и в процессе подобного изменения детективная история с единственно верным решением превращается в зеркало, в котором отражается читатель.
Роман «Запертая комната» так же, как и два предыдущих произведения, исследует отношения между автором, его персонажами и читателями, использует детективное расследование как метафору для поиска самоидентичности, в данном случае это розыск биографом предмета своего исследования. На одном уровне, это история двух друзей детства, которые позже «воссоединяются»: Феншо, доминирующий в отношениях с неназванным рассказчиком, внезапно исчезает и оставляет жену с грудой рукописей и инструкцией для вручения их другу, которого он не видел много лет. Эти два друга с самого начала романа представлены близнецами, двойниками, отражающими друг друга.
Подобно Квинну и Остеру в «Стеклянном городе», Блю и Блэку в «Призраках», они – два зеркала, показывающие возможности изменчивой жизни. Попытка рассказчика написать биографию Феншо и тем самым освободиться от его болезненного влияния подчеркивает некоторые из повторяющихся тем трилогии. Поиск рассказчиком фактов, которые приведут его к другу, родственны поиску детективом зацепок, способных раскрыть дело. В биографии также рассматриваются отношения между автором и его персонажами, поскольку для биографа жизнь выбранного человека становится книгой, события которой вместе формируют некое целое.
Думается, что осознание персонажем своей сущности и стремление изменить условия существования и вырваться за рамки текста – наиболее значимые моменты трилогии. Они напоминают читателям, что они также участвуют в создании произведения. Роман, который, как предполагается, заставит читателя использовать свое воображение и создать сцены и персонажей в произведении так же, как автор творит их, часто превращается в замкнутое пространство, где читатель приучен ожидать стилизованную действительность: в традиционном романе одно действие влечет за собой другое.
Ведущая проблема «Нью-йоркской трилогии» – проблема самоидентичности – затрагивает не только сущность персонажей, но и охватывает смысловую структуру произведения, возникают напряженные взаимоотношения между автором, повествователем и читателем. Форма детективного расследования воспринимается как метафора самопознания персонажа. Литературный автор, действующие лица и читатели трилогии заняты поиском истины, однако с самого начала исходные данные создают иллюзорную картину мира. Автобиографическими чертами писателя Остера наделяются несколько персонажей, что затрудняет выделение истинного автора произведения. Поиск идентичности усложняется множеством голосов в повествовании, тем самым побуждает читателя активно включаться в процесс создания и расшифровки произведения.
Список литературы Поиск идентичности в "Нью-йоркской трилогии" Пола Остера
- Кристева, Ю. Разрушение поэтики / Ю. Кристева // Французская семиотика. От структурализма к постструктурализму. - М.: Прогресс, 2000. - С. 458-483.
- Остер, П. Нью-йоркская трилогия / П. Остер. - М.: Эксмо, 2005. - 400 c.
- Пестерев, В. А. Постмодернизм и поэтика романа. Историко-литературные и теоретические аспекты: учеб.-метод. пособие / В. А. Пестерев. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2001. - 40 с.
- Сысоева, Ю. Н. К вопросу о теоретических аспектах анализа структуры художественного текста / Ю. Н. Сысоева // Филологические чтения: материалы Всерос. науч.-практ. конф. Оренбург, 29-30 окт. 2010 г. - Оренбург: ООО ИПК "Университет", 2010. - С. 163-168.
- Auster, P. The Art of Hunger: Essays, Prefaces, Interviews and The Red Notebook / Р. Auster. - Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books, 1997. - 395 p.
- Barone, D. Introduction: Paul Auster and the Postmodern American Novel / D. Barone // Beyond the Red Notebook: Essays on Paul Auster / ed. by D. Barone. - Philadelphia: Univ. of Pennsylvania press, 1995. - Р. 1-26.
- Begley, A. Case of the Brooklyn Symbolist / А. Begley // New York Times. - 1992. - Aug. 30. - Electronic text data. - Mode of access: http://www.nytimes.com/books/99/06/20/specials/auster-92mag.html. - Title from screen.
- Bradbury, M. The Modern American Novel / М. Bradbury. - Oxford: Oxford UP, 1992. - 340 p.
- Hutcheon, L. A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction / L. Hutcheon. - N.Y.: Routledge, 1988. - 268 p.