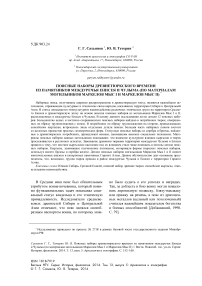Поясные наборы древнетюркского времени из памятников междуречья Енисея и Чулыма (по материалам могильников Маркелов мыс I и Маркелов мыс II)
Автор: Сахьянов Гурьян Гурьянович, Тетерин Юрий Витальевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Археология и антропология Евразии
Статья в выпуске: 5 т.13, 2014 года.
Бесплатный доступ
Наборные пояса, получившие широкое распространение в древнетюркскую эпоху, являются важнейшим источником, отражающим культурные и этнические связи народов, населявших территорию Сибири и Центральной Азии. В статье описывается этнокультурное взаимодействие различных этнических групп на территории Среднего Енисея в древнетюркскую эпоху на основе анализа поясных наборов из могильников Маркелов Мыс I и II, расположенных в междуречье Енисея и Чулыма. В основу данного исследования легли детали 12 поясных наборов. Большинство целых и частично сохранившихся поясных наборов найдено в погребениях тюрок, совершенных по обряду трупоположения с конем. В погребениях по обряду трупосожжения на стороне, принадлежащих енисейским кыргызам, встречались лишь отдельные детали поясов. Большая часть наборных поясов состоит из железных предметов простых геометрических форм. Статусные поясные наборы из серебра и бронзы, найденные в древнетюркских погребениях, принадлежат воинам, занимавшим высокое социальное положение. Материалы поясных наборов данных могильников показывают, что взаимное культурное влияние кыргызов и тюрок прослеживается в различных аспектах. Завоевание древними тюрками территории междуречья Чулыма и Енисея привело к тому, что местное кыргызское население под их влиянием стало чаще помещать в могилы детали поясных наборов. Кыргызы, занимавшее подчиненное положение, копировали формы тюркских поясных наборов, используя вместо бронзы и серебра железо. Детали поясных наборов могильников Маркелов Мыс I и II имеют многочисленные аналоги в синхронных памятниках Горного Алтая. Данное обстоятельство дает основание предполагать, что, возможно, группа тюрок пришла в район междуречья Чулыма и Енисея с территории Горного Алтая.
Южная сибирь, средний енисей, поясной набор, древние тюрки, енисейские кыргызы, этнокультурное взаимодействие
Короткий адрес: https://sciup.org/147219090
IDR: 147219090 | УДК: 903.24
Текст научной статьи Поясные наборы древнетюркского времени из памятников междуречья Енисея и Чулыма (по материалам могильников Маркелов мыс I и Маркелов мыс II)
В Средние века пояс был обязательным атрибутом воина-кочевника, который помимо функциональных задач показывал социальный статус владельца и его этническую принадлежность. Исследователи средневековых древностей Сибири и Центральной Азии отмечают, что пояс являлся своеобразным паспортом воина, по которому мож- но было судить о его успехах и наградах. Так, за доблесть в бою воину могли пожаловать лировидную подвеску, бляху-накладку или пряжку на ремень, а пояс из драгоценных металлов (цельный или позолоченный) считался важнейшим показателем богатства и боевых способностей [Добжанский, 1990. С. 79].
∗ Исследование проведено по проекту № 2718 в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки РФ.
Сахьянов Г. Г. , Тетерин Ю. В. Поясные наборы древнетюркского времени из памятников междуречья Енисея и Чулыма (по материалам могильников Маркелов Мыс I и Маркелов Мыс II) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2014. Т. 13, вып. 5: Археология и этнография. С. 152–160.
ISSN 1818-7919
Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 5: Археология и этнография
Наборный пояс и его детали неоднократно становились предметом исследований различных авторов. Систематизации и классификации археологического материала, реконструкции и эволюции наборных поясов Евразии посвящены работы В. И. Распоповой [1965; 1980], А. К. Амброза [1971], В. Б. Ковалевской [1979], В. Н. Добжанского [1990], Б. Б. Овчинниковой [1990], Г. В. Кубарева [2005].
В плане изучения поясных наборов древнетюркского времени Сибири и Центральной Азии значительный интерес представляют материалы могильников Маркелов Мыс I и II, которые с 1989 г. монографически изучались Красноярским археологическим отрядом Новосибирского государственного университета (руководители раскопок Ю. В. Тетерин и О. А. Митько). Памятники находятся в наиболее узкой части (10 км) междуречья Енисея и Чулыма в 7 км севернее с. Новоселово Красноярского края и в 1 км западнее берега Красноярского водохранилища. Могильники исследованы почти полностью. Они расположены на расстоянии около 400 м друг от друга. Включали погребения таштыкского времени (склепы и детские могилы), а также более поздние захоронения тюрок по обряду трупоположения с конем. На могильнике Маркелов Мыс I раскопаны одновременные с древнетюркскими захоронения кыргызов по обряду трупосожжения на стороне.
Материалы погребального обряда и находки из раскопок дают новые возможности для изучения этнокультурного взаимодействия между различными этническими группами, проживавшими на данной территории в древнетюркское время, а также их связей с другими народами Центральной Азии. Поясные наборы и их детали предоставляют широкие возможности для решения указанных проблем.
Поясные наборы (целиком или частично) встречаются в основном в древнетюрских курганах могильников Маркелов Мыс I и II, совершенных по обряду трупоположения с конем. Отдельные элементы поясных наборов встречались и в погребениях енисейских кыргызов, совершенных по обряду трупо-сожжения на стороне. Данные курганы датируются их исследователями VIII–IX вв. и соотносятся с проникновением тюркского населения на территорию Минусинской котловины после походов Кюль-Тегина и Тонь- юкука 711 г. и в дальнейшем, под давлением уйгуров. Всего в могильниках Маркелов Мыс I и II было найдено 5 полных и 7 неполных поясных наборов.
Полные поясные наборы обнаружены только в древнетюркских погребениях. Так, курган 5 могильника Маркелов Мыс I не был потревожен грабителями. Вместе с погребенным обнаружены железные детали целого поясного набора в составе рамчатой бесщитковой пряжки, наконечника ремня с округлым основанием, двух подквадратных с прямоугольными прорезями накладных блях, двух прямоугольных с узкими прорезями блях, одной сегментовидной и одной, возможно, сердцевидной бляхи. Найдены также детали пояса, утратившие из-за коррозии свою форму, и две небольшие рамча-тые пряжки. На всех деталях отсутствует орнамент [Тетерин, 2000. С. 34].
В нетронутой грабителями могиле 53 этого же памятника обнаружены плохо сохранившиеся железные накладки, находившиеся в районе пояса погребенного. С ними находилось и железное кольцо, которое, вероятно, относилось к поясному набору. Изначальную форму поясных накладок в настоящее время установить невозможно, так как все они сильно деформированы и подверглись коррозии.
Поясной набор из могилы 54 могильника Маркелов Мыс I состоял из двух подквадратных и трех блях сегментовидной формы с прямоугольными прорезями, наконечника ремня с округлым концом и поясной пряжки с обломанным щитком. Судя по двум небольшим наконечникам ремней, в состав данного набора входили два подвесных ремешка. Все элементы пояса изготовлены из железа и на них отсутствует орнамент (рис. 1).
В погребении, совершенном по обряду трупоположения с конем в кургане 83 могильника Маркелов Мыс I, находился поясной набор без орнамента, состоявший из двух подквадратных и двух сегментовидных блях, рамчатой пряжки, а также пяти железных фрагментов, скорее всего, относящихся к наконечнику ремня. Язычок у пряжки отсутствовал.
Из общего ряда выделяется пояс из нетронутого грабителями кургана 9 могильника Маркелов Мыс II. В его состав входили бронзовая щитковая овально-рамчатая пряжка, бронзовая портальная бляха-накладка

Рис. 3. Бронзовый наконечник ремня с рунической надписью из кургана 9 могильника Маркелов Мыс II

Рис. 1 . Поясной набор из могилы 54 могильника Маркелов Мыс I:
1 – пряжка; 2 – 4 – бляхи-накладки портальной формы; 5 – 6 – бляхи-накладки подквадратной формы;
7 – наконечник ремня ( 1 – 7 – железо)

Рис. 2. Поясной набор с руническими надписями из кургана 9 могильника Маркелов Мыс II: 1 – пряжка; 2 – бляха-накладка портальной формы; 3 – бляха-накладка подквадратной формы;
4 – наконечник ремня ( 1 – 4 – бронза)
с фестончатым краем, арочной прорезью и простейшим растительным орнаментом, бронзовая подквадратная бляха-накладка, бронзовый наконечник ремня с округлым основанием, а также роговая лировидная подвеска с коротким язычком (рис. 2). По мнению ряда исследователей, лировидные подвески относятся к конскому снаряже- нию. Так, Г. В. Кубарев считает, что они являются блоками чумбура [2005. С. 137]. Однако данная точка зрения является спорной. Д. Г. Савинов предположил, что они относятся к деталям поясного набора и являются прототипом металлических лировидных подвесок, широко распространившихся в IX–X вв. [1984. С. 127]. В кургане 9 могильника Маркелов Мыс II лировидная подвеска находилась в могиле в районе пояса, рядом с правой кистью человека [Мить-ко, 1992. С. 20]. В данном случае есть все основания считать, что эта подвеска относилась к поясному набору.
Судя по многочисленным отверстиям в бронзовых элементах поясного набора, они неоднократно ремонтировались. Так, на щитке пряжки пробито три отверстия, через которые ремешками передняя и задняя части щитка крепились друг к другу. Изначально они были скреплены шпеньками, однако со временем задняя часть щитка отломилась в области крепления язычка. В обеих бляхах-накладках пробито по одному отверстию, а задние пластины блях, скорее всего, были утрачены еще при жизни владельца пояса. То, что бляхи-накладки изначально крепились к ремню с помощью задней пластины и заклепок, также устанавливается по остаткам шпеньков на внутренней стороне бляхи-накладки.
Главной особенностью данного поясного набора являются рунические надписи на его элементах. На лицевой стороне щитка пряжки был нанесен руноподобный знак в виде буквы «X», заключенной в круг. По мнению С. Г. Кляшторного (в письменном сообщении О. А. Митько), возможно, это знак «ай» – луна. На наконечнике ремня также нанесена короткая руническая надпись, в которой хорошо читается лишь сочетание двух знаков – «чи (чы)», что может входить в окончание профессии или имени (рис. 3). Исходя из особенностей написания, С. Г. Кляштор-ный отнес эту надпись к енисейскому варианту орхонского письма и датировал VIII в. [Митько, 1992. С. 21].
Неполные поясные наборы и их детали найдены как в древнетюрских, так и в кыргызских захоронениях. В разграбленном кургане 21 могильника Маркелов Мыс I, принадлежавшего, скорее всего, знатному тюркскому воину, из элементов поясного набора были обнаружены только серебряные наконечник ремня и бляха-накладка портальной формы с фестончатыми краями и арочным вырезом со щитком (рис. 4). Оба изделия украшены растительным орнаментом, выполненным прорезной техникой.
В кургане 21 могильника Маркелов Мыс I к северной стенке была пристроена каменная выкладка могилы 24, в которой вместе с погребением по обряду трупосожжения обнаружена железная подквадратная бляха-накладка с прямоугольной прорезью. Данная могила, скорее всего, была сопутствующим захоронением подчиненного или зависимого кыргыза от погребенного в древнетюркском кургане 21.
В кургане 78 могильника Маркелов Мыс I обнаружено погребение по обряду трупо-сожжения. Рядом с кучкой кальцинированных костей были найдены бронзовая поясная бляха-накладка с задней пластиной и бронзовый наконечник небольшого подвесного ремня. Бляха-накладка сегментовидной формы, с растительным орнаментом, выполненным тиснением. Пластина крепилась к накладке при помощи трех шпеньков.
В погребении могилы 85 могильника Маркелов Мыс I, также совершенном по обряду трупосожжения, обнаружена желез- ная накладка портальной формы с прямоугольным вырезом, без орнамента.
В кургане 7 могильника Маркелов Мыс II от поясного набора сохранилась лишь роговая лировидная подвеска, принадлежность которой к поясному набору устанавливается по аналогии с похожей подвеской из соседнего кургана 9 (рис. 5, 5 ). Погребение, совершенное по обряду трупоположения с конем, было ограблено в древности и значительная часть погребального инвентаря утрачена.
В кургане 34 могильника Маркелов Мыс II, судя по обособленному положению, размерам и сложности погребального сооружения, похоронен знатный воин. Как и в кургане 21 могильника Маркелов Мыс I,

Рис. 4. Поясной набор из кургана 21 могильника Маркелов Мыс I (лицевая и тыльная стороны): 1 – бляха-накладка портальной формы; 2 – наконечник ремня ( 1 – 2 – серебро)

Рис. 5. Поясные наборы из могильника Маркелов Мыс II: 1 – бляха-накладка портальной формы из кургана 34; 2 – наконечник ремня из кургана 34; 3 – 4 – сегментовидные бляхи-накладки из кургана 71; 5 – лировидная подвеска из кургана 7 ( 1–4 – бронза, 5 – рог)
значительная часть богатого погребального инвентаря досталась грабителям. Практически все вещи оказались сдвинутыми со своих первоначальных мест, многие артефакты обнаружены в заполнении могильной ямы, а другие находились в разрозненном состоянии на дне могилы. Из деталей поясного набора сохранилась бронзовая бляха-накладка портальной формы без задней пластины, практически идентичная экземпляру из кургана 9 этого же могильника (рис. 5, 1 ). Пластина, по-видимому, утеряна. В накладке проделано ремонтное отверстие. Вероятно, один из четырех шпеньков сломался в ходе использования пояса, и тогда применили другой метод крепления бляхи-накладки к ремню, для чего и было проделано отверстие рядом со сломанным шпеньком [Мить-ко, 1992. С. 46]. В этой же могиле найден наконечник ремня, изготовленный из светлого металла с небольшим налетом бронзовых окислов (возможно, оловянистая бронза) (рис. 5, 2 ). Помимо перечисленных предметов в погребении обнаружены две железные и две из светлого металла (оловянистая бронза?) ременные обоймы и кольца, которые, скорее всего, относятся к креплению колчана, а не поясному набору.
В погребении, совершенном по обряду трупоположения с конем в кургане 71 могильника Маркелов Мыс II, найдены две бронзовые сегментовидные бляхи-накладки без орнамента и без задних пластин (рис. 5, 3 – 4 ). Рядом с ними находились две железные пластины таких же размеров. Принадлежность их к поясному набору не установлена.
Рунические знаки на элементах поясного набора, аналогичные надписям на наконечнике ремня и щитке пряжки из кургана 9 могильника Маркелов Мыс I, встречаются достаточно редко. В литературе есть несколько упоминаний находок наконечников ремней с руническими надписями. Так, в 1935 г. в основном погребении кургана 1 в четвертой группе курганов у с. Курай был обнаружен искусно украшенный поясной набор из серебряных деталей с позолотой. На обратной стороне наконечника ремня была нанесена руническая надпись «Хозяина (господина) Ак-Кюна... кушак...» [Киселев, 1949. С. 302]. Судя по погребальному обряду и богатому инвентарю, это погребение принадлежало знатному представителю алтайских тюрок – в погребении рядом с человеком размещены три коня со сбруей из драгоценных металлов, дорогие украшения, серебряный кувшинчик с орхонской надписью «Человек... (имя?) ... (с) шадом мужественный спутник» [Там же].
В 1971 г. рядом с раннескифским курганом Аржаан I было исследовано древнетюркское погребение с конем, в котором обнаружена поясная бляха с двумя руническими знаками. С. Г. Кляшторный относит эту надпись к енисейской провинции тюркского рунического письма и переводит как «lü» – «дракон» [1975. С. 185].
Рунические знаки были обнаружены также на обеих сторонах щитка пряжки и наконечника пояса в древнетюркском погребении с двумя конями в кургане 9 могильника Барбургазы II [Кубарев, 2005. С. 365]. Судя по погребальному инвентарю, здесь был захоронен знатный воин – многочисленные детали пояса были изготовлены из серебра. Как и в поясном наборе из кургана 9 могильника Маркелов Мыс II, две бляхи-накладки были отремонтированы с помощью ремешков, продетых в специально сделанные отверстия.
Аналоги наконечника ремня и поясной бляхи-накладки из кургана 21 могильника Маркелов Мыс I в разное время обнаружены в погребениях с конем на территории Алтая. Вышеупомянутый наконечник ремня с рунической надписью из кургана 1 четвертой группы курганов у с. Курай по технике изготовления, растительному орнаменту и своей форме наиболее сходен с экземпляром из кургана 21. Однако в поясном наборе из могильника Курай отсутствуют бляхи-накладки портальной формы, а детали пояса были из позолоченного серебра [Киселев, 1949. С. 302]. В кургане 2 могильника Узун-тал исследован кенотаф, с двумя конскими и воинскими захоронениями. В одном из них обнаружен поясной набор, изготовленный из позолоченного серебра, во многом сходный с деталями рассматриваемого нами поясного набора. Основные различия заключаются в технике. Растительный орнамент не отливался в форме, а наносился тиснением. Следует также отметить, что орнамент деталей этих поясных наборов, несмотря на типологическую близость, имеет достаточно серьезные отличия. Например, вместе с по-лупальметами и волютами в бляхах-накладках из кургана 2 могильника Узунтал I в орнаменте используются треугольники, а на наконечнике ремня изображена застывшая в прыжке пятнистая лань в окружении вьющихся ветвей. Изображения зверей в орнаменте крайне редко встречается в элементах средневековых поясных наборов. На обратной стороне этого наконечника ремня нане- сены руноподобные знаки [Савинов, 1982. С. 107].
Другой похожий поясной набор обнаружен также на Алтае в погребении с конем в кургане 8 могильника Юстыд I [Кубарев, 2005. С. 368]. Пряжка, наконечник ремня и бляхи-накладки были также изготовлены из серебра с позолотой. Узоры растительного орнамента практически идентичны с поясным набором из кургана 2 могильника Узунтал I, только без включения треугольников и зооморфных фигур. Орнамент также нанесен тиснением.
Как уже упоминалось выше, практически все поясные наборы могильников Маркелов Мыс I и II обнаружены в погребениях, совершенных по обряду трупоположения с конем (9 из 12), в то время как в могилах местного населения (трупосожжения) всего три одиночные бляхи-накладки (одна бронзовая и две железные). Д. Г. Савинов упоминает, что детали поясных наборов крайне редко встречаются в кыргызских погребениях VI–VII вв. [1994. С. 32]. В таштыкских погребениях, в том числе и в склепах могильника Маркелов Мыс I, встречаются одиночные детали ритуальных поясных наборов. Судя по находкам трех блях-накладок в могилах по обряду трупосожжения (могилы 24, 78, 85 могильника Маркелов Мыс I), можно предположить, что местное кыргызское население междуречья Енисея и Чулыма, находившееся в зависимости от завоевателей-тюрок, стало чаще включать детали поясных наборов в состав своего погребального инвентаря.
Еще одной особенностью поясных наборов могильников Маркелов Мыс I и II является преобладание поясов, состоящих из железных деталей. Из одиннадцати поясных наборов шесть сделаны из железа, остальные из бронзы и серебра. Практически все детали железных поясов имеют простые геометрические формы (подквадратные, сегментовидные). Установить наличие орнамента невозможно в силу сильной коррозии металла. Интересной, на наш взгляд, является бляха-накладка из погребения, совершенного по обряду трупосожжения на стороне в могиле 85 могильника Маркелов Мыс I, которая по своей форме подражает бронзовым портальным накладкам.
Близкий по составу и материалу изготовления поясной набор из описываемых нами могильников исследован в кургане 6 могильника Талдуаир I на Алтае. По мнению Г. В. Кубарева, изготовление поясных наборов из железа вместо оловянистой бронзы, которая выступала основным материалом для изготовления деталей, произошло в поздний период (IX–X вв.) [Кубарев, 2005. С. 54, 282]. Возможной причиной перехода на железо называются наступившие в это время серебряный и медный сырьевые кризисы на территории Центральной Азии [Конькова, Король, 2001. С. 97].
Еще одна слабо разработанная проблема – выявление мест производства деталей поясных наборов. Практически все аналоги наиболее ярким экземплярам из могильников Маркелов Мыс I и II встречаются на территории Алтая, в то время как простые пояса с геометрическими формами – далеко за пределами Саяно-Алтая. Как считает Г. В. Кубарев, поясные наборы, обнаруженные в археологических памятниках Алтая, изготовлены на этой же территории. Данный вывод основан на химическом анализе серебряных и бронзовых сбруйных украшений и деталей поясных наборов [2005. С. 54].
Учитывая типологическую близость исследуемых нами материалов с алтайскими, можно предположить, что носители обряда трупоположения с конем пришли на Средний Енисей с территории Алтая. Вероятно, некоторые детали поясных наборов, в первую очередь изготовленные из бронзы, могли иметь алтайское происхождение. Для того чтобы подтвердить или опровергнуть данное предположение, необходимо провести анализ химического состава поясных деталей из могильников Маркелов Мыс I и II. Можно также допустить, что после появления завоевателей-тюрок в междуречье Енисея и Чулыма местное население начинает копировать образы их поясных деталей. В то время как пришельцы, оказавшись вдали от родины, начинают чаще использовать поясные наборы из железа. В этой связи важно отметить, что большинство бронзовых блях-накладок и пряжек подвергались ремонту. Вполне возможно, это уже изрядно изношенные поясные наборы знатных воинов.
Таким образом, материалы поясных наборов могильников Маркелов Мыс I и II свидетельствуют о процессах взаимной аккультурации двух этнических групп, проживавших на территории междуречья Чулыма и Енисея в VIII–IX вв.: енисейских кыргызов (хоронили своих умерших по обряду трупосожжения) и тюрок (практиковали обряд трупоположения с конем). Результаты исследования показывают, что, во-первых, после появления древних тюрок на данной территории местное кыргызское население под их влиянием стало чаще включать в состав погребального инвентаря детали поясных наборов. Во-вторых, в междуречье Чулыма и Енисея и тюрки, и кыргызы преимущественно пользовались железными поясными наборами простых геометрических форм. Наборные пояса из бронзы и серебра характерны для погребений тюркской знати. Пояса, украшенные изделиями из этих металлов, подчеркивали их высокий социальный статус. И в-третьих, большинство аналогов деталей поясных наборов, представленных в древнетюркских погребениях могильников Маркелов Мыс I и II, указывают на то, что этническая группа тюрок, пришла на территорию междуречья Чулыма и Енисея извне, возможно, с территории Алтая.
Список литературы Поясные наборы древнетюркского времени из памятников междуречья Енисея и Чулыма (по материалам могильников Маркелов мыс I и Маркелов мыс II)
- Амброз А. К. Проблемы раннесредневековой хронологии Восточной Европы // СА. 1971. № 3. С. 106-134.
- Добжанский В. Н. Наборные пояса кочевников Азии. Новосибирск, 1990. 164 с.
- Киселев С. В. Древняя история Южной Сибири // МИА. М.; Л., 1949. № 9. 364 с.
- Кляшторный С. Г. Рунические надписи из кургана Аржаан II // Первобытная археология Сибири. Л.: Наука, 1975. С. 184-185.
- Ковалевская В. Б. Поясные наборы Евразии IV-IX вв. Пряжки // САИ. М.: Наука, 1979. Е 1-2. 112 с.
- Конькова Л. В., Король Г. Г. Формирование и развитие традиций в обработке художественного металла в степной Евразии эпохи Средневековья // Археология, этнография и антропология Евразии. 2001. № 1 (8). С. 94-100.
- Кубарев Г. В. Культура древних тюрок Алтая (по материалам погребальных памятников). Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. 400 с.
- Митько О. А. Отчет о работе Красноярского археологического отряда в 1991 году. Новосибирск, 1992. 78 с.
- Овчинникова Б. Б. Тюркские древности Саяно-Алтая в VI-X веках. Свердловск, 1990. 223 с.
- Распопова В. И. Поясной набор Согда VII-VIII вв. // СА. 1965. № 4. С. 78-91.
- Распопова В. И. Металлические изделия раннесредневекового Согда. Л.: Наука, 1980. 138 с.
- Савинов Д. Г. Древнетюркские курганы Узунтала (к во просу о выделении курайской культуры) // Археология Се верной Азии. Новосибирск: Наука, 1982. С. 102-122.
- Савинов Д. Г. Народы Южной Сибири в древнетюркскую эпоху. Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. 176 с.
- Савинов Д. Г. Государства и культурогенез на территории Южной Сибири в эпоху раннего Средневековья. Кемерово, 1994. 215 с.
- Тетерин Ю. В. Древнетюркские погребения могильника Маркелов Мыс I // Памятники древнетюркской культуры в Саяно-Алтае и Центральной Азии. Новосибирск, 2000. С. 27-54.