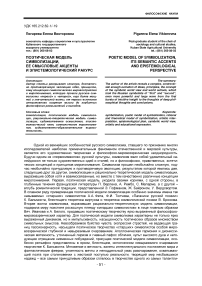Поэтическая модель символизации, ее смысловые акценты и эпистемологический ракурс
Автор: Пигарева Елена Викторовна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 4, 2011 года.
Бесплатный доступ
Автор статьи раскрывает сложную, достаточно противоречивую эволюцию идей, принципов, саму концепцию символического мировосприятия и миропонимания, которую прошли русские символисты «первой» и «второй», еще более мощной и значительной волны, от первых всплесков интуитивного озарения мысли до глубинных философских размышлений и выводов.
Символизация, поэтическая модель символизации, рационально-теоретическая модель символизации, художественное осмысление, эпистемологический план, символическое миропонимание, художественно-образовательная выразительность
Короткий адрес: https://sciup.org/14933357
IDR: 14933357 | УДК: 165.212:82-1/-19
Текст научной статьи Поэтическая модель символизации, ее смысловые акценты и эпистемологический ракурс
Одной из важнейших особенностей русского символизма, ставшего по признанию многих исследователей наиболее примечательным феноменом отечественной и мировой культуры, является его художественно творческая и философско-мировоззренческая неоднородность. Будучи одним из «первосимволов» русской культуры, символизм явил собой удивительный калейдоскоп не только художественных идей и стилей, но и философских, нравственных, эстетических концепций и принципов миропонимания. Символизм прошел необычайно сложную, подчас необычайно причудливую и противоречивую эволюцию, результатом которой явились две, следующие друг за другом, символизации и рационально-теоретическая модель символизации, выразившие собой хотя и взаимосвязанные, но вместе с тем качественно различные концепции миропонимания. Первая, поэтическая модель, уходила своими корнями, с одной стороны, в глубинные течения французской литературы П. Верлена, А. Рембо, С. Меларме, а с другой – вглубь романтической традиции, представленной Э. Гофманом, Ж. Байроном, У. Вердсвортом. В славном ряду приверженцев поэтической модели символизации особенно значимы имена так называемых «старших» символистов А.А. Фета, Ф.И. Тютчева, «Паганини русской поэзии» К. Бальмонта, блестящего теоретика виртуоза и теоретика символической поэзии В. Брюсова. Вторая волна символизма, выразившая рационально-теоретическую модель символизации, подарила миру поистине роскошную плеяду «младших символистов» в лице главным образом Вяч. Иванова и А. Белого, придавших поэтическому творчеству ярко выраженный философско-мировоззренческий характер. Для поэтической модели символизма характерны не только ярко выраженный динамизм, но и импульсивность, насыщенность поэтических образов множеством символьных смыслов. Невообразимое буйство чувств, экспрессия страстей, не ведающая границ пассионарность, насыщали поэтическое творчество «старших» символистов особой мировоззренческой глубиной и невыразимым очарованием. Аполлоническая гармония и дионисси-ческая мятежность, утонченный лиризм и гневный пафос обличия, культ высокого духа и негодующее отрицание низменных побуждений, присущее поэтической модели символизации, особенно рельефно представлены в ярком, блестящем, исполненном невыразимого очарования творчестве К. Бальмонта. Мгновение и вечность, взлеты интеллектуального постижения мира и фантастические феерии, упоенность мечты и неподдельный ужас разочарования, охватывающий поэта при столкновении с жестокой поступью реальности, творящий мир несбывшихся надежд – все самым причудливым образом сплелось в творчестве одного из самых талантли- вых представителей символической поэзии К. Бальмонта, который «жил мгновением, довольствовался им, не смущаясь пестрой смены мигов, лишь бы только посильнее и покрасивее выразить их. Он то взывал к Христу, то к Дьяволу, то воспевал зло, то добро, то склонялся к язычеству, то преклонялся перед христианством» [1].
Создавая свою полную неописуемого восторга «литургию красоты», поэт запечатлевает волшебную вязь символов, каждый из которых несет в себе всю глубину и многозначность смыслов и смысловых вариаций. Это и символ безудержной радости бытия, упоенной свободы, запечатленный в образе, сильного, гордого, вечно свободного альбатроса, одиноко парящего над безграничностью ночного моря; и совершенно необычайный, с трудом постигаемый образ тени, символизирующий мимолетность, зыбкость и неуловимость каждого мгновения жизни. А за этой зыбкостью и мимолетностью «просвечивается» зов свободы, мятежность духовных устремлений и запредельность желаний. Со временем не только обновляется, но и ужесточается тональность поэтических строк К. Бальмонта. Новые созвучия требуют не только иной символики, но и иной ее смысловой интерпретации. На смену гармонии и удовлетворенности, выливавшихся в нежные строки ранних сонет («Я мечтою ловлю уходящие тени», «Лунный свет, цикл «Фейных сказок», «дыхание несказанной нежности», «Облака моей мечты») приходит новая волна художественнотворческого и философско-нравственного осмысления мира и определения своего места в нем. Созданный поэтом цикл «Горящих зданий» наполнен неизбывной жаждой «кричащих бурь» и «кинжальных слов», обретающих еще более откровенный, жесткий, бескомпромиссный характер. Заявляя о своей избранности и исключительности, поэт возвещает о своей власти над миром, нуждающимся не только в оправдании, но и в пересоздании.
Я хочу быть первым в мире на земле и на воде.
Я хочу цветов багряных, мною созданных везде.
«Кровавые игры», «Шайка теней», «Каинова печать», «Кольцеобразный огонь», «выжженный край каких-то сказочных дорог» – символика этих и других подобных образов, используемых поэтом в самых, различных, нередко парадоксальных сочетаниях, необычайно многогранна. Мысль рождает образ. Образ облекается в символ, творцом и интерпретатором которых становится сам поэт, его жаждущая, неутоленная душа, впитавшая в себя величие и ничтожество мира. Символизация рассматривается поэтом как один из важнейших методов не только художественно-образного, но и философского осмысления мира. Центром философских размышлений Бальмонта становятся вопросы нравственного выбора человека в извечной дилемме божественного и дьявольского, добра и зла, прекрасного и безобразного, лучезарного света истины и беспросветного мрака лжи и заблуждений. В эпоху социальных катаклизмов, сотрясающих Россию на рубеже XIX–XX столетий, особую актуальность обретает вопрос, обращенный поэтом не только к миру, но и к самому себе: способен ли животворный огонь поэтической души испепелить зловещую «тень Люцеферова крыла»? Ответ поэта на этот жгучий, исполненный нравственного смысла вопрос, однозначен и непреклонен: «золотые струны» его поэзии должны извлекать не только сладостно-пленительные, но и кинжально-острые звуки.
Духом символизма проникнуто все творчество К. Бальмонта, от «Литургии красоты» и «Фейных сказок», до таких исполненных высочайшей страстности в их глубочайшем философском обрамлении стихотворениях, как «Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце», «Гимн огня», «Заветы бытия», «Будем, как Солнце» и др. При этом Солнце не только многолико, но и полисимволично. Это не только образ великого светила, излучающего животворный свет, и не только центр мироздания, но и неиссякаемый, и во многом непостижимый источник творческого вдохновения. Солнце осмысливается поэтом как символ вечности, каждое из быстротечных, сменяющих друг друга мгновений которой воплощает в себе новые, ранее не существующие грани человеческого бытия. Чарующая поэзия Бальмонта воспевает Солнце как символ вечно юной и вечно желанной красоты. Это гимн самой жизни, смыслообразующим центром которой является человек, способный не только внимать чарующему лику прекрасного в своем неустанном следовании заветам бытия, но и самому творить, приумножать и первозданную, и рукотворную красоту мира. Поэтическое творчество К. Бальмонта прославлено удивительным сочетанием необычайной красочностью и выразительностью символической формы, которой столь виртуозно владел поэт, с глубиной ее философского обоснования. В личностнопсихологическом плане смысловые вехи творческого пути поэта знаменовали собой переход от созвучия и гармонии к диссонансам, острому ощущению своей личности, изначально заданной предначертанности судьбы.
О, да, я избранный, я мудрый, Посвященный Сын Солнца я, поэт, сын разума, я – царь.
Настоящими виртуозами символической поэзии были Ф.И. Тютчев и А.А. Фет, творчество которых было пронизано какой-то неизъяснимой аурой музыкальности и каким-то призрачным поистине неземным светом. Таково, например, одно из самых замечательных стихотворений Фета «Солнце мира», выразившее от первой до последней строки непостижимый символ вечности.
И неподвижно на огненных розах Живой алтарь мировоздания кружится. В его дыму, как в творческих грезах, Вся сила дрожит и вся вечность снится И все, что мчится по безднам эфира, И каждый луч, плотской и бесплотный, Твой только отблеск, о, Солнце мира, И только сон, только сон мимолетный.
То же можно сказать и о поэзии Ф.И. Тютчева, усматривающего в символизации истоки не только единения, но и цементированности объективного и субъективного, слияния тайны бытия и не менее загадочных тайн художественного вдохновения, сообщающему поэтическому творчеству глубоко личностный, по-настоящему интимный характер. Ведь не случайно именно Тютчеву дано было сформулировать так называемые «вечные» вопросы, неизменно встающие перед творческой личностью.
Как сердцу высказать себя?
Другим как понять тебя?
Несколько иной ракурс поэтической модели символизации представлен в стихах и поэмах еще одного лидера русского символизма – В. Брюсова. Принадлежа к кругу так называемых «старших» символистов, в числе которых были К. Бальмонт, Ф. Сологуб, З. Гиппиус, Брюсов вместе с тем с самого начала отмежевался от своих сподвижников. И хотя поэтическому творчеству В. Брюсова были отнюдь не чужды романтические порывы и мистически окрашенные фантастические образы, но не они составляют основу его творчества, не они определяют особенности разрабатываемой им модели символизации. Дух рационализма с самого начала уже с первых поэтических сборников пронизывал творчество Брюсова. Символизм и рационализм, на первый взгляд несовместимые, противостоящие друг другу векторы познавательного процесса, неожиданно устремлялись друг к другу, выливаясь в чрезвычайно своеобразную форму, которую условно можно, на наш взгляд, определить как «символический рационализм», или наоборот, «рационально организованный символизм». Рассматривая символизацию как наиболее действенный метод художественного познания и художественного творчества, Брюсов утверждал, что только в процессе символизации возможно рождение новых, более гибких, пластичных, более совершенных форм, столь необходимых для искусства. Если символический язык К. Бальмонта полифоничен, то символику поэтических строк В. Брюсова можно определить как гомофоничную [2], с ярко выраженным акцентированием собственного, авторского голоса. Так, если, формируя свой идеал личности, К. Бальмонт призывал: «Будем как Солнце!», то В. Брюсов этот идеал человека увидел, прежде всего, в самом себе. И вместе с тем поэт понимает, что безоглядная, нарциссистская, любовь к себе неизбежно обрекает человека на душевное одиночество, ощущение которого выливалось в необыкновенно пронзительные строки:
Земля мне чужда, небеса недоступны,
Мечты навсегда, навсегда невозможны, Мои упованья перед миром преступны, Мои вдохновенья пред небом ничтожны.
Но здесь следует обратить внимание на то, что одиночество поэта особого рода, ибо оно символизирует не уход от мира, от мирских забот, от зовов бытия, а, напротив, погруженность в мир, в его заветы и тайны. Непостижимость этих тайн, неутоленная жажда хотя бы мимолетного прикосновения к ним наполняет душу поэта не только поистине экстатическим восторгом, но и великим неизбывным смятением, выливающимся в символику глубочайшего философского смысла строк:
Много мимо проходит миров, Но напрасны вопросы веков Если там и любовь, и мечта?
Этот же страстный призыв звучит и в известном стихотворении «На острове Пасхи», где, обращаясь к каменным изваяниям, поэт с горечью и тайной надеждой восклицает:
О, если б на наши вопросы Вы дали ответ хоть единый!
Символика слов, которые извлекает В. Брюсов из своего поэтического дара, не только бесконечно богата и многообразна, но и философски насыщена такими яркими, впечатляющими образами, как «восторг созвучий», «немая безбрежность», «мир серебристо-немой», «мощь непомерных желаний», «неизведанность творческих грез», «недосказанность таинственных слов», «перламутровое чувство любви», «пламенная ложь» и др. Конструируемая поэтом художественная, а соответственно и философская картина мира представляет собой причудливое сочетание реального и ирреального, действительного и иллюзорного. Именно здесь, на наш взгляд, символизация как метод художественного познания вступает в свои исключительные права, создавая удивительные, сотканные из противоречий образы бытия и небытия, прошлого и будущего, мгновения и вечности, безбрежности пространства и замкнутого круга, в границах которого, все исчерпано до дна. И именно здесь символизация выступает как своеобразный интегративный метод, концентрирующий в себе и замыкающий на себе такие методы культурологических исследований, как интроспекция (как индивидуально-личностная, так и надындивидуальная, социально-историческая), эмпатия, герменевтика и др.
Исторический метод, к которому обращается Брюсов в своем творчестве, дает возможность поэту не только запечатлеть связь времен и народов, но и рассмотреть культуру как социальную память, концентрирующую исторический и социальный опыт человечества. Перед читателем развертывается галерея образов, лиц, событий, каждый из которых, будучи вплетенным в канву быстротекущего исторического времени, обретает тот или иной символьный смысл. И если, например, у Бальмонта символ дает жизнь образу, развертывающемуся в границах его концептуальных и коннотационных значений, то у Брюсова, напротив, образ облекается в знаково-символьную форму, диктуемую целью и задачами исторического исследования. А цель такого исследования В. Брюсов усматривает прежде всего в том, чтобы не только раскрыть закономерность и целостность исторического процесса, но и осветить внутренним светом поэтических строк лик человека, неуемный жар его души, не знающий покоя и умиротворения. Человеческая страстность, человеческая одержимость и напряженность сообщают, с точки зрения поэта, каждому историческому факту (сколь бы масштабным он ни был) особый, истинно человеческий смысл.
Образ прекрасного человека у Брюсова собирательный, вылепленный из отдельных фрагментов, заимствованных из исторических и мифологических повествований, равно как и из собственного видения. В этом образе, переплавленном жаром поэтического дара В. Брюсова, можно увидеть черты халдейского пастуха и древнего ассирийского царя Ассардагона, ставшего владыкой царей и государств, и Юлия Цезаря, бросившего дерзкий вызов бесславной власти римского сената, и великую египетскую царицу Клеопатру и ее верного рыцаря Антония, ставшего ярчайшим символом великого таинства любви, в сравнении с которой, по мысли поэта, все остальное столь тленно и ничтожно. История для поэта прежде всего нескончаемая цепь символов, то следующих друг за другом, переливающихся из одного в другой, то причудливо переплетенных друг с другом, то отторгающих и исключающих друг друга. Историческая символика многозначна и многогранна. И от того, считал Брюсов, как она будет расшифрована, какие в нее будут вложены смыслы, во многом определится вектор не только настоящего, но и будущего как отдельных личностей, так и целых народов. Известно, что достаточное число исследователей творчества В. Брюсова, отмечая бесспорность его поэтического дара, вместе с тем нередко упрекали поэта за некоторую отстраненность, бесстрастность и даже склонность к резонерству, якобы проявившуюся в отдельных стихотворениях, не исключая и лирической поэзии. Трудно согласиться с подобными обвинениями. Ибо можно ли назвать резонером поэта, создавшего такие, исполненные самой высокой, поистине неуемной, запредельной страстности строки:
Что же мне делать, когда не пресыщен
Я этой жизнью хмельной!
Что же мне делать, когда не пресыщен Я – вечно юной весной!
Что же мне делать, когда не пресыщен Я высотой, глубиной!
Что же мне делать, когда не пресыщен Я тайной муки страстной!
Вновь я хочу все изведать, что было: И, – чего не было, – вновь!
Другое дело, что многое из того, что приводило в трепет, например, К. Бальмонта, в ином ракурсе виделось В. Брюсову. И хотя оба этих великих поэта были не только современниками, но и во многом единомышленниками, стоящими у самых истоков символического миросозерцания, тем не менее конструируемая каждым из них и философская, и символьная картина мира были различными. Вспомним хотя бы общую для их творчества тему скифов, жаждущий «грядущих битв» и «кинжальных слов». Бальмонт, восхищаясь, идеализируя и опоэтизируя мятежный дух этой кочевой народности, видит в ней символ непреклонной воли, бесстрашия и целеустремленности, составляющих основу основ самой жизни, ее вечного, неугасимого горения. Поэтические строки В. Брюсова далеки от поклонения скифам, которых он называет «волками степными». Поэта прельщает не воинственный дух скифов, не их мятежность и не страстные ласки скифской девы «со взором жгучим», и даже не их вольная, свободная от какого-либо внешнего диктата жизнь, а сама возможность создать впечатляющий образ прошлого и увидеть в нем сквозь туманную, таинственную пелену времен контуры будущего. И здесь, используя метод художественной интроспекции, поэт как бы переносится в то далекое время, идентифицируя себя со своими героями, воспринимая при этом мир скифов как бы изнутри.
А когда рассядутся старцы,
Молодежь запляшет под клики, На куске сбереженного кварца Начерчу я новые лики.
Начертить новые лики, создать новые образы, войдя в ауру прошлого и оценить его через призму настоящего и будущего, – такова цель и задача символизации, лежащей в основе поэтического творчества В. Брюсова, который при всей оригинальности и рационалистичности созданной им символической картины мира по праву считается, наряду с К. Бальмонтом, классиком поэтической модели символизации. Не менее показателен и значителен эпистемологический план поэтической модели символизации, знаменующий собой переход от интуитивного озарения к рационализации, от образности к самым глубоким и содержательным философским обобщениям, от чувственно-наглядной символьности к многообразным формам символьности понятийной. Семантическое поле символьного языка, наполненное многообразием смысловых значений, настоятельно требует их включенности не только в логику размышлений творцов поэтической модели символизации, но и, что самое главное, в логику самой российской действительности, в которой жили и творили свой символьный мир корифеи первой волны русского символизма, передавшие эстафету творческой мысли не менее славной плеяде «младших символистов» в лице Вяч. Иванова и Андрея Белого, стоявших у истоков новой, рационально-теоретической модели символизации. Именно в этот период начинается утверждение символизма не только как мощного художественного течения, но и как особого способа миропонимания.
Ссылки:
-
1. Андреева-Бальмонт Е. Мои воспоминания о К.Д. Бальмонте в книге К. Бальмонт, стихотворения. М., 1990.
-
2. Гамофония – вид многоголосья (от гомо и греч. Phono – звук, голос), основанном на господстве одного голоса и подчинения прочих голов, образующих сопровождения, аккомпанемент.
Список литературы Поэтическая модель символизации, ее смысловые акценты и эпистемологический ракурс
- Андреева-Бальмонт Е. Мои воспоминания о К.Д. Бальмонте в книге К. Бальмонт, стихотворения. М., 1990.