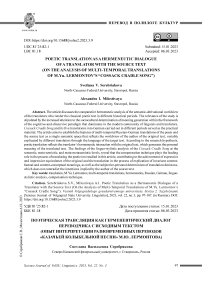Поэтическая трансляция как герменевтический диалог переводчика с исходным текстом (опыт интерпретации разновременных переводов «Казачьей колыбельной песни» М.Ю. Лермонтова)
Автор: Серебрякова С.В., Милостивая А.И.
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Перевод в полилоге культур
Статья в выпуске: 3 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена сопоставительному герменевтическому анализу отраженного в переводных текстах смысло-деривационного мировидения переводчиков, осуществлявших трансляцию классического поэтического текста в разные исторические периоды. Актуальность исследования обусловлена повышенным вниманием к социокультурной детерминации смыслогенерирования в рамках доминирующей в современной лингвистике когнитивно-дискурсивной парадигмы. Материалом для анализа послужила «Казачья колыбельная песня» М.Ю. Лермонтова и пять ее разновременных переводов на немецкий язык. Цель статьи - установить специфику разновременных русско-немецких переводов и оригинального текста как единого семантического пространства, в котором отражается мировидение автора исходного текста, вариативно эксплицированное разными переводчиками посредством языка текста-транслята. Выявлено, что в поэтическом переводе отражена герменевтическая интеракция переводчика с текстом оригинала, генерирующая личностный смысл текста-транслята. В результате лингвостилистического анализа «Казачьей колыбельной песни» на семантическом, метасемиотическом и метаметасемиотическом уровнях определено, что ведущую роль в процессе перевода изучаемого в данной статье поэтического текста играет техника компенсации, способствующая достижению экспрессивной и импрессивной эквивалентности оригинала и перевода в процессе экспликации инвариантных содержательно-фактуальных и содержательно-концептуальных смыслов, а также субъективно-личностная детерминированность переводческих решений, которая не противоречит интенциям, имплицируемым автором оригинала.
Перевод, м.ю. лермонтов, разновременные переводы, герменевтика, русский язык, немецкий язык, лингвостилистический анализ, техника компенсации
Короткий адрес: https://sciup.org/149143736
IDR: 149143736 | УДК: 81’25:82-1 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2023.3.9
Текст научной статьи Поэтическая трансляция как герменевтический диалог переводчика с исходным текстом (опыт интерпретации разновременных переводов «Казачьей колыбельной песни» М.Ю. Лермонтова)
DOI:
В антропоцентрически ориентированном переводоведении акцент делается на двоякой языковой компетенции переводчика, генерирующего эксплицитные и имплицитные обертоны смысла с позиции креативного мировиде-ния, детерминированного особенностями горизонта понимания у создателя текста-транслята. В трудах по истории перевода справедливо отмечается, что «установление связи между эпохой, личностью переводчика и результатами его труда предполагает и выявление переводческой интенции, мотивации выбора переводчика, его духовной связи с текстом оригинала» [Юдина, 2020, с. 43]. Подобные рассуждения релевантны в контексте презумпции сущности поэтического перевода как деятельности сотворчества автора оригинала и переводчика, «причем своеобразие вторичного творческого акта определяется наличием общих посылок и эмоционального строя у людей, принадлежащих не только к разным этносам, но и – зачастую – к разным социумам и историческим эпохам» [Алексеева, 2013, с. 56].
Особую актуальность приобретает при этом исследование как индивидуального переводческого дискурса, так и дискурсивного пространства, формируемого текстом оригинала и его переводными, в том числе и разноязычными, версиями. Включение в данное пространство разновременных переводов одного исходного текста расширяет исследовательскую перспективу, состоящую в изучении динамических процессов в переводящем языке. Такое индивидуальное дискурсивное пространство переводчика поэтических текстов неизбежно включает в себя игру переводчика с поэтом, однако «играя с автором в одну и ту же игру, переводчик, тем не менее, разыгрывает свою игру, отличную от игры автора, идет ли он “своей дорогой” или даже если он “идет по следу поэта”» [Куницына, 2020, с. 6].
Значительный интерес представляет в этом плане обращение к творчеству поэтов, произведения которых в течение столетий привлекают внимание не только ученых, но и переводчиков. Цель данной статьи – определить специфику стихотворения М.Ю. Лермонтова «Казачья колыбельная песня» и его раз- новременных переводов на немецкий язык как единого семантического пространства, в котором отражается мировидение автора исходного текста, вариативно эксплицированное разными переводчиками посредством языка текста-транслята.
Материал и методы
Антропоцентрический вектор современной полипарадигмальной лингвистики, будучи «проявлением универсальности социокультурной триады “личность – культура – общество” в изучении эманаций человеческой личности» [Митягина, 2017, с. 31], определяет взаимодействие методов разноаспектного изучения художественных текстов, допускающих ввиду их эстетической емкости множественность интерпретаций. Данный факт обусловил конвергенцию подходов и методов исследования, результаты которого представлены в данной статье.
Философско-герменевтический подход ориентирует на комплексное понимание текста, невозможное без адекватного понимания его частей, простое сложение которых не дает представления об эмерджентном смысле целого [Серебрякова, Милостивая, 2017, с. 52]. Переводчик приближается к исходному тексту, применяя процедуру герменевтического диалога с его «внутренним» миром. Этот диалог разворачивается не только между двумя разными языками, но и между двумя разными культурами [Danner, 2021, S. 72].
Обращение к разновременным переводам одного оригинала предполагает использование структурно-семиотических методов, позволяющих выйти за рамки текстовых и внетекстовых структур с целью изучения эстетического содержания произведения в широком культурно-историческом контексте. Ю.М. Лотман писал о многослойности и неоднородности текста, который перестает быть элементарным сообщением, вступая в сложные отношения как с окружающим культурным контекстом, так и с читательской аудиторией [Лотман, 2002, c. 160]. Отмеченное ученым усложнение социально-коммуникативной функции текста необходимо учитывать и переводчику для обеспечения качества перевода, и лингвисту для интерпретации перевода как творческого процесса.
Переводчески релевантной концепцией для нашей работы является предложенная К. Норд факторная модель анализа исходного текста, акцентирующая изучение взаимообусловленных внетекстовых и внутритекстовых характеристик исходного текста с учетом его доминирующей коммуникативной функции [Nord, 2009, S. 41]. Базовой процедурой нашего исследования, коррелирующей по основным параметрам с моделью К. Норд, выступает разработанный германистами МГУ метод сплошного трехуровневого лингвостилистического анализа поэтических произведений, фокусирующий внимание на семантическом, метасемиотичес-ком и метаметасемиотическом уровнях и апробированный в ходе анализа русских переводных версий сочинений Шекспира [Задорнова, 1984, c. 8–9]. На семантическом уровне анализируются языковые стилевые элементы (лексические и грамматические). На метасемиотическом уровне допускаются возможности генерирования нового смысла, поэтому в фокус переводоведа попадают коннотации, эксплицирующие новые экспрессивные, эмоциональные и образные смыслы, то есть метасодержание. На ме-таметасемиотическом уровне на передний план выходят маркеры языковой личности автора, обнаруженные переводчиком сквозь призму дискурсивной информации о литературном направлении, жанровом каноне и, шире, о культурно-исторической эпистеме той или иной эпохи. При этом имеет место деконструкция семантического наполнения произведения, содержательно-концептуальной информации, детерминированной писательским мировидением.
Деятельностный подход, используемый в данной статье, определяет специфику функциональной транслатологии и трактовку перевода как межкультурного трансфера, предполагающего обращение переводчика при интерпретации оригинала к широкому социальному, культурному и историческому контексту, к конкретным коммуникативным условиям его бытования. Таким образом, по словам К. Райс и Х. Фермеера, перевод зависит не только от значения, но и от смысла / от подразумеваемого автором, то есть от смысла текста-в-ситуации [Reiß, Vermeer, 1984, S. 58].
Материалом для переводческой рефлексии послужила «Казачья колыбельная песня» М.Ю. Лермонтова, который почти половину своей короткой жизни провел на Кавказе. Многократные «свидания» поэта с кавказским краем – в детстве в путешествиях с бабушкой, Е.А. Арсеньевой, затем в ссылке, на военной службе – оставили неизгладимые впечатления в душе поэта, полюбившего Кавказ и близко познакомившегося с горским бытом и нравами. «Казачья колыбельная песня», датируемая 1838 г., впервые была опубликована в 1840 г. в «Отечественных записках». Существует пять переводов «Казачьей колыбельной песни» на немецкий язык (см. список источников): 1) «Der Kosakin Wiegenlied», выполненный Фридрихом Боденштедтом (F. Bodenstedt) и опубликованный в 1852 г. в Берлине в первом томе сборника «Поэтическое наследие Михаила Лермонтова» (Bodenstedt) с важным для переводческого анализа подзаголовком: «Zum Erstenmal in den Versmaßen der Urschrift aus dem Russischen übersetzt, mit Einleitung und erläuterndem Anhange versehen von Friedrich Bodenstedt» – «Первый перевод с русского языка на немецкий с сохранением стихотворного размера, с предисловием и комментариями Фридриха Боденштедта» (перевод с немецкого наш. – С. С. , А. М. ); 2) «Wiegenlied einer Kosakenmutter», выполненный Андреасом Ашариным (A. Ascharin), вышедший в свет в Ревеле в конце XIX в. и переизданный в 1985 г. в Лейпциге (Ascharin); 3) «Kosakisches Wiegenlied», выполненный Ричардом Питрасом (R. Pietraß) в конце XX в. и опубликованный в Берлине в 1987 г. (Pietraß); 4) «Kosakisches Wiegenlied», выполненный Каем Боровски (K. Borowsky), изданный в 2000 г. (Borowsky); 5) «Wiegenlied der Kosaken», выполненный Эриком Бернером (E. Boerner), изданный в 2011 г. (Boerner).
Основоположник отечественной науки о переводе А.В. Федоров рассматривал новые переводы литературного произведения в различные исторические эпохи как свидетельство высокой художественной ценности исходного текста в мировой культуре и подчеркивал, что каждый новый перевод «раскрывает какие-либо новые, ранее не выявленные черты оригинала» [Федоров, 1983, c. 57]. Аксиоматичен также тот факт, что «использование разновременных переводов в качестве лингвистического источника изучения языка дает возможность увидеть те изменения, которые в нем произошли» [Кольцова, 2012, с. 44].
Новые переводные версии художественного произведения эксплицируют не только лингвистические инновации, но и особенности принимающей культуры в рамках эпистемологической ситуации периода их возникновения, то есть они являются культурно-сензитивными. Ю.М. Лотман, обращаясь к вопросу о возможности эквивалентной трансляции поэзии, подчеркивает фрактальный характер различных переводных версий в рамках единого переводческого пространства: «Любой из заполняющих его текстов Т1, Т2, Т3 ... Тn будет возможной интерпретацией исходного текста. Вместо точного соответствия – одна из возможных интерпретаций, вместо симметричного образования – асимметричное, вместо тождества элементов, составляющих Т1, Т2, – условная их эквивалентность» [Лотман, 1996, c. 15].
Следовательно, оригинал и все версии его разновременных переводов рассматриваются нами как единое семантическое пространство в координатах культурно-исторической эпистемы. Его формирование, как отмечает Л.В. Кушнина, «является динамическим процессом, неоднозначным, нелинейным, имеющим множество векторов развития, что приближает его к синергетическим системам» [Кушнина, 2011, с. 173]. Этот процесс порождает многомерные концептуально-валерные смыслы, вариативность которых детерминируется, в числе прочего, фоновыми знаниями реципиента переводов. Ядром этого единого семантического пространства, его инвариантом, является текст на языке оригинала, включающий «функциональное содержание исходного сообщения, то есть его смысловую сторону (семантическую и прагматическую)» [Швейцер, 2018, с. 69–70]. Разновременные переводы-варианты, находясь в отношениях коммуникативно адекватного тождества с оригиналом, преломляют его инвариантный смысл сквозь призму индивидуально-переводческого мировидения и тем самым выступают в качестве метатекстов. Таким образом, как отмечал В.С. Виноградов, перевод по- эзии – «это искусство “вторичное”, искусство “перевыражения оригинала” в материале другого языка» [Виноградов, 1978, с. 42]. Поэтический перевод представляет собой «своеобразную форму “вторичного” художественного творчества» [Виноградов, 1978, с. 42].
Трактовка перевода как герменевтического диалога с исходным текстом в ходе трансляции поэтического произведения, имплицирует примат не буквальной и дословной передачи значений отдельных лексем, а приоритетное ориентирование на воспроизведение концепта, его семиотики, когда переводчику необходимо сопоставлять ассоциативно-вербальные сети и «сцеплять смыслы» своего и чужого языков. При таком подходе перевод рассматривается как принятие определенного решения [Darwish, 2008, p. 29; Wilss, 2005, S. 660] по выбору актуального варианта-эквивалента в социокультурной эпистеме периода трансляции, причем данный эквивалент должен коммуникативно адекватно отобразить актуальные инвариантные содержательно-фактуальные и содержательно-концептуальные смыслы оригинала. Уподобление текста-транслята, характеризующегося «определенной свободой интерпретации, содержательным и формальным варьированием» [Жанту-рина, Колесникова, 2022, с. 63], оригинальному поэтическому произведению осуществляется при помощи техники компенсации, которая призвана обеспечить максимально возможное экспрессивное и импрессивное тождество исходного и переводного текстов.
Результаты и обсуждение
Обратимся к разновременным немецким переводам стихотворения М.Ю. Лермонтова «Казачья колыбельная песня» (Лермонтов, 1984), созданного поэтом в кавказский период его жизни и творчества. Стихотворение построено как монолог матери-казачки, где три инициальные строфы написаны в традиции колыбельной, а три финальные изображают наполненную опасностями судьбу ребенка, который станет воином-казаком.
Специфика переводов этого стихотворения проявляется прежде всего в трансляции заглавия, которое, будучи «сильной» позицией текста, детерминирует рецепцию его концеп- туального смысла. На семантическом уровне анализа заглавие исходного текста представляет собой расчлененный номинативный знак – «Казачья колыбельная песня» (атрибутивное сочетание существительного, номинирующего жанр оригинала, с двумя препозитивными определениями). Структура исходного заглавия в переводах вариативна. Важно отметить, что включенные в заглавие прилагательные, обозначающие признак по отношению к его предмету, мотивированы существительными разных классов: казачья – от нарицательного названия лица (казак), колыбельная – от названия предмета (колыбель). Базовая заголовочная номинация стихотворения, определяющая жанр поэтического произведения, сохранена во всех переводных версиях и представлена нерасчлененным знаком – сложным существительным Wiegenlied (колыбельная песня).
На метасемиотическом уровне анализа поэтического литературного произведения в фокус анализа переводоведа попадает художественно-эстетический контекст функционирования языковых знаков, детерминирующий генезис коннотаций в составе образного содержания (метасодержания) оригинала и перевода. При этом акцентируется их индивидуально-авторское восприятие, сопровождаемое приращением эмерджентных смыслов в художественном дискурсе. В данном аспекте особое значение приобретает лингвокультурно маркированная атрибутивная характеристика песни – казачья , представленная прилагательным, восходящим к гендерно отмеченным обозначениям лиц казак / казачка . Наименование лица казак известно с XIII века. Казаками назывались люди, которые обосновывались в новых неизведанных местах, члены «военно-земледельческой общины вольных поселенцев на окраинах государства» (ТСРЯ, с. 259). По данным «Толкового словаря живого великорусского языка» В. Даля, казак определяется как «войсковой обыватель, поселенный воин, принадлежащий к особому сословию казаков, легкого конного войска, обязанного служить по вызову на своих конях, в своей одежде и вооружении» (Даль2, с. 72–73).
Переводчески релевантным является то, что мотивированные существительным казак прилагательные (казачий, казацкий) различа- ются по семантике. Так, казачий / казачья обнаруживают сему коллективной принадлежности (казачье войско), в то время как казацкий – сему индивидуальной принадлежности (казацкая сабля). В лермонтовском названии «Казачья колыбельная песня» реализована сема коллективной принадлежности, отражающая факт бытования особых колыбельных песен во многих казачьих семьях. Структура заглавия сохранена в современных переводах Р. Питраса и К. Боровски («Kosakisches Wiegenlied»), однако прилагательное kosakisch не зафиксировано в немецких толковых словарях, атрибутивный признак принадлежности к казакам реализуется посредством определяющего слова Kosaken- в сложных существительных (Kosakenfrau).
В переводе Ф. Боденштедта « Der Kosakin Wiegenlied » эксплицирована сема гендерной посессивности, эксплицируемая в немецком суффиксе -in (нем. Kosakin «казачка»), не содержащаяся в исходном заглавии, однако в полной мере реализованная в содержании стихотворения, представляющего собой монолог матери. В прагматическом плане данный вариант перевода более четко обозначает адресанта песни и снимает возможную культурную лакуну. Отметим, что перевод Ф. Боденштедта высоко оценивается современными исследователями и переводчиками произведений Лермонтова. Сема гендерной принадлежности реализована и в переводе A. Ашарина « Wiegenlied einer Kosakenmutter », атрибутивная посессивность представлена здесь грамматически корректно в противоположность современному переводу Э. Бернера, где акцентирован мужской гендерный аспект « Wiegenlied der Kosaken » посредством множественного числа маскулинного существительного – der Kosak – die Kosaken (казак – казаки).
Адресант однозначно представлен в переводе Ф. Боденштедта – это мать будущего казака, предвидящая его дальнейшую судьбу как продолжение дела отца, старого опытного воина. Оценочный характер имеет в исходном тексте описание младенца как будущего воина:
Лексическая единица богатырь , выражающая понятие русской лингвокультуры, дефинируется следующим образом: «человек рослый, дородный, дюжий и видный; необычайный силач; смелый и удачливый, храбрый и счастливый воин, витязь» (Даль1, c. 102), то есть описывается как внешность, так и характер. Богатырь – это персонаж русских былин и сказок, совершающий подвиги.
Данные культурные смыслы реализованы в переводных версиях стихотворения по-разному: ein Ritter (рыцарь) – как результат прагматической адаптации у Ф. Боденштед-та; ein Recke (богатырь, витязь, великан, герой) – у A. Ашарина и Р. Питраса, ein Held (герой) – у К. Боровски:
-
(2) Wirst ein Ritter anzusehen,
Doch Kosak von Herz (Bodenstedt, S. 11).
-
(3) Von Gestalt wirst du ein Recke ,
Ein Kosak von Herz (Ascharin, S. 191).
-
(4) Gleichen wirst du einem Recken ,
Fühlen als Kosak (Pietraß, S. 145).
-
(5) Aussehen wirst du wie ein Held
Und das Herz eines Kosaken haben (Borowsky, S. 89).
Приведенные соответствия утрачивают как лингвокультурную специфику исходного обозначения, так частично и эксплицитную сему ‘сильный’ . В переводе Э. Бернера не отражены и стилистические особенности поэтизма ein Mann (мужчина):
-
(6) Bist vom Kopf bis zu den Zehen
Dann Kosak, ein Mann (Boerner, S. 38).
При переводе слова душа , эксплицирующего один из значимых концептов русской культуры, переводчики отдали предпочтение не словарному соответствию Seele , а номинациям с Herz (сердце): Kosak von Herz (Ф. Боденштедт и A. Ашарин), das Herz des Kosaken haben (К. Боровски) и лишенное атрибута: Kosak (Р. Питрас и Э. Бернер).
Маркером жанра колыбельной песни является завершающий каждую строфу рефрен, представленный междометной конструкцией баюшки-баю :
(1) Богатырь ты будешь с виду
И казак душой (Лермонтов, с. 89).
(7) Спи, малютка, будь спокоен, Баюшки-баю (Лермонтов, с. 89).
Эта конструкция восходит к устаревшему глаголу баить – в диалектах имевшему значения «говорить, болтать, беседовать, рассказывать, разговаривать, толковать; баить ребенка, байкать, баюкать – припевая укачивать, усыплять» (Даль1, 1978, c. 39), представляя собой переводческую лакуну. В трех версиях перевода данная конструкция воспроизводится с помощью глагола schlafen / einschlafen (спать / засыпать), отражающего содержательную сущность колыбельной песни:
-
(8) Schlaf, mein Kind, schlaf ein! (Bodenstedt, S. 10)
-
(9) Schlaf, mein süßes Kind! (Ascharin, S. 191) (10) Schlafe ruhig ein (Boerner, S. 38).
К. Боровски, выполнивший перевод белым стихом, использует в качестве рефрена междометное соответствие eiapopeia (баюш-ки-баю), не ставя перед собой задачу сохранения рифмы и ритмической композиции ИТ:
-
(11) Schlafe, mein Kleiner, sei ruhig, eiapopeia (Borowsky, S. 89).
Р. Питрас использует транскрипцию русской рифмовки убаюкивания, что воссоздает ритмический рисунок лермонтовского стиха:
-
(12) Schlafe, schaf mein lieber Engel, Bajuschki-baju (Pietraß, S. 144).
Результаты анализа позволяют рассмотреть идейно-концептуальное содержание стихотворения с выходом на метаметасемиоти-ческий уровень исследовательской рефлексии, детерминированный основными биографическими вехами и восприятием эстетики Лермонтова, а также русской историко-культурной эпи-стемой середины XIХ в., что релевантно в ходе интерпретации переводных версий анализируемого стихотворения, в котором поэт устами матери описал военный путь и будущую судьбу младенца, сына старого казака-воина, которую мать определяет как бранное житье (устар. «военная, боевая жизнь»), полное опасностей и боевых столкновений с горцами:
-
(13) Сам узнаешь, будет время,
Бранное житье ;
Смело вдернешь ногу в стремя
И возьмешь ружье (Лермонтов, c. 89).
Только в трех переводных версиях сделана попытка сохранить это устойчивое сочетание фольклорного типа, однако с утратой его поэтической функции и принадлежности высокому стилю: Kriegerleben (жизнь воина) (К. Боровски) и blut’ge Kampfesmär (сказ о кровавой битве) (A. Ашарин):
-
(14) Es wird eine Zeit kommen,
Da wirst du selbst das Kriegerleben kennenlernen;
Kühn wirst du den Fuâ in den Steigbügel setzen
Und das Gewehr nehmen (Borowsky, S. 89).
-
(15) Kommen wird die Zeit und bringen blut’ge Kampfesmär ,
du auch wirst aufs Roâ dich schwingen, greifen zu der Wehr (Ascharin, S. 191).
В переводе Р. Питраса будущий военный жизненный уклад маленького казака эксплицирует лексема Schlacht (битва), стилистически возвышенный коннотативный оттенок придает ей свободный генитивный атрибут eines Tages (букв. «однажды»):
-
(16) Selber wirst du eines Tages
In das Schlachten ziehn;
Kühn besteigen deinen Rappen,
Das Gewehr am Knie (Pietraß, S. 145).
В других версиях использован описательный перевод, не сохранивший поэтического пафоса. Чувства матери-казачки в них переданы без экспрессии, ибо не раскрыты опасности, сопровождающие жизнь казака-воина.
Таким образом, перевод на метамета-семиотическом уровне эксплицирует маркеры языковой личности М.Ю. Лермонтова, обнаруженные переводчиком сквозь призму дискурсивной информации о личных жизненных впечатлениях писателя от пребывания на Кавказе и поддерживаемые представленным в тексте-трансляте культурно-историческим колоритом, выражающим «дух» данной эпохи.
Заключение
Рассмотрение текста оригинала – стихотворения М.Ю. Лермонтова «Казачья колыбельная песня» – и его пяти переводных версий как единого семантического пространства с использованием процедуры лингвостилисти- ческого анализа позволило получить следующие результаты, репрезентирующие особенности коммуникативно равноценного воссоздания инвариантных содержательно-фактуаль-ных и содержательно-концептуальных смыслов в различных переводных версиях. Ведущая роль в переводах принадлежит технике компенсации, которая применяется для трансляции индивиадуально-авторских смыслов оригинала в разновременных переводах на немецкий язык. Кроме того, указанная техника призвана обеспечить коммуникативную эквивалентность оригинала и текста-транслята как в экспрессивном, так и импрессивном аспектах. В поэтической коммуникации компенсация манифестируется на языковом уровне (в ходе линейной и нелинейной селекции лексем и грамматических форм), а также в экстралингвистическом пространстве семиози-са в социуме и культуре. В поисках адекватного в коммуникативном плане эквивалента при переводе рассматриваемого стихотворения М.Ю. Лермонтова значима субъективная детерминированность выбора переводчика.
Перспективы дальнейшего транслатоло-гического изучения разновременных переводов произведений М.Ю. Лермонтова на разные языки заключаются в выявлении:
– структурно-семантических и прагматических особенностей переводов с учетом национальных, возрастных, гендерных, религиозных и других характеристик личности переводчиков;
– особенностей использования и перевода прецедентных феноменов в различных жанрах художественного дискурса М.Ю. Лермонтова (роман, повесть, короткий рассказ, стихотворение);
– специфики восприятия разновременных переводов произведений М.Ю. Лермонтова на исходном и переводящем языках.
Список литературы Поэтическая трансляция как герменевтический диалог переводчика с исходным текстом (опыт интерпретации разновременных переводов «Казачьей колыбельной песни» М.Ю. Лермонтова)
- Алексеева М. О., 2013. К вопросу о важности герменевтического подхода при переводе поэтических текстов // Вестник Московского университета. Серия 22, Теория перевода. №2 3. С. 55-63.
- Виноградов В. С., 1978. Лексические вопросы перевода художественной прозы. М.: Изд-во МГУ 174 с.
- Жантурина Б. Н., Колесникова С. М., 2022. Перцептивные и градуально-оценочные парадигмы переводного поэтического текста // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. Т. 21, № 5. С. 62-72. DOI: 10.15688/jvolsu2.2022.5.6
- Задорнова В. Я., 1984. Восприятие и интерпретация художественного текста. М.: Высш. шк. 152 с.
- Кольцова Ю. Н., 2012. Разновременные переводы новеллы П. Мериме «Кармен» как источник анализа эволюции русского языка // Вестник Московского университета. Серия 22, Теория перевода. № 2. С. 43-48.
- Куницына Е. Ю., 2020. Поэтический перевод как посттворчество: игра автора vs игра переводчика // Вестник Московского университета. Серия 22, Теория перевода. №2 1. С. 3-26.
- Кушнина Л. В., 2011. Основные принципы синергетики перевода // Вестник Удмуртского университета. Серия «История и филология». № 4. С. 173-177.
- Лотман Ю. М., 1996. Внутри мыслящих миров. Человек - текст - семиосфера - история. М.: Яз. рус. культуры. 464 с.
- Лотман Ю. М., 2002. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство - СПб. 768 с.
- Митягина В. А., 2017. Социопрагматическое измерение транслатологической парадигмы: коммуникативное действие в переводе // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. Т. 16, №2 3. С. 3040. DOI: 10.15688/jvolsu2.2017.3.3
- Серебрякова С. В., Милостивая А. И., 2017. Семантическая эмерджентность как переводческая проблема // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. Т. 16, № 3. С. 48-57. DOI: 10.15688/ jvolsu2.2017.3.5
- Федоров А. В., 1983. Искусство перевода и жизнь литературы: Очерки. Л.: Сов. писатель. 352 с.
- Швейцер А. Д., 2018. Перевод и лингвистика. М.: URSS: ЛЕНАНД. 278 с.
- Юдина Т. В., 2020. Конкурирующие переводы художественной литературы и проблема культурной идентичности переводчика // Вестник Московского университета. Серия 22, Теория перевода. №2 1. С. 39-51.
- Danner H., 2021. Hermeneutik. Zugänge, Perspektiven, Positionen. Darmstadt: WBG Academic. 159 S.
- Darwish A., 2008. Optimality in Translation. Melbourne: Writescope Publishers. 318 p.
- Nord C., 2009. Textanalyse und Übersetzen. Tübingen: Julius Groos. 283 S.
- Reiß K., Vermeer H. J., 1984. Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. Tübingen: Niemeyer. 245 S.
- Wilss W., 2005. Übersetzen als Sonderform des Risikomanagements // Meta. Translators' Journal. Vol. 50, №> 2. S. 656-664. DOI: 10.7202/ 011009ar
- Лермонтов - Лермонтов М. Ю. Казачья колыбельная песня // Стихотворения. Поэмы. Маскарад. Герой нашего времени. М.: Худ лит., 1984. С. 88-90.
- Bodenstedt - Lermontoff M. Der Kosakin Wiegenlied // Michail Lermontoff's Poetischer Nachlass, zum Erstenmal in den Versmaßen der Urschrift aus dem Russischen übersetzt, mit Einleitung und erläuterndem Anhange versehen von F. Bodenstedt. Berlin: Verlag der Deckerschen Geheimen Ober-Hofbuchdruckerei. Bd 1., 1852. S. 10-12.
- Borowsky - Lermontow M. Kosakisches Wiegenlied // Gedichte / Übersetzt von K. Borowsky. Leipzig: Reclam Verlag, 2000. S. 89-90.
- Pietraß - Lermontow M. Kosakisches Wiegenlied // Gedichte und Poeme / Übersetzt von R. Pietraß. Berlin: Rütten & Loening, 1987. S. 144-145.
- Boerner - Lermontow M. Wiegenlied der Kosaken // Gedichte und Epigramme / Neu Übertragen von E. Boerner. Norderstedt: Books on Demand, 2011. S. 38-39.
- Ascharin - Lermontow M. Wiegenlied einer Kosakenmutter // Einsam tret ich auf den Weg, den Leeren / Übersetzt von A. Ascharin. Leipzig: Reclam Verlag, 1985. S. 191-193.
- Дальг - Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. Т. 1. М.: Рус. яз., 1978. 699 с.
- Даль2 - Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. Т. 2. М.: Рус. яз., 1979. 779 с.
- ТСРЯ - Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М.: А ТЕМП, 2006. 944 с.