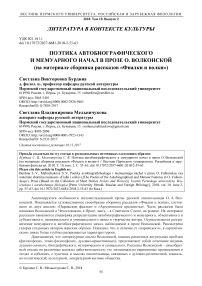Поэтика автобиографического и мемуарного начал в прозе О. Волконской (на материале сборника рассказов "Фиалки и волки")
Автор: Бурдина Светлана Викторовна, Мельничукова Светлана Владимировна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 2 т.10, 2018 года.
Бесплатный доступ
Анализируются особенности малоисследованной прозы русской писательницы О. А. Волконской. Показывается художественное своеобразие сборника рассказов «Фиалки и волки», состоящего из двух циклов: «Парижские фиалки» и «Аргентинское предместье». Часть рассказов была написана Волконской в Чехословакии, в Праге, часть - в Советском Союзе, на родине. На материале рассказов выявляется специфика репрезентации автобиографического и мемуарного, объективного и субъективного, национального и универсального начал в творчестве автора. Осуществляется разграничение мемуарного и автобиографического начал, наблюдаемое в прозе Волконской. Рассмотрена галерея созданных автором женских образов. Показано, что, в отличие от «парижского», в «аргентинском» цикле более глубоко раскрываются характеры героев. Доказывается, что литературные опыты Волконской, касаясь различных актуальных проблем (философских, этико-философских, духовно-нравственных), представляют собой сочетание индивидуально-личного, биографического, исторического и социального. Рассказы Волконской - своеобразный отклик на различные аспекты действительности; это эмоционально окрашенные произведения о людях и событиях, о чувствах и мыслях писательницы, связанных с духовно-религиозной, социально-политической, культурной, литературной жизнью общества. Делается вывод, что уникальность, самобытность прозы Волконской как литературного феномена создается за счет синтеза документального, автобиографического, мемуарного и художественного начал. Такое жанровое своеобразие анализируемых произведений обеспечило воссоздание максимально полной картины социокультурной ситуации, способствовало осмыслению индивидуально-личностного жизненного пути человека в контексте переживаемого им исторического времени, судьбы целого поколения.
О. а. волконская, мемуарное начало, автобиографическое начало, синтез, проза, сборник, рассказ
Короткий адрес: https://sciup.org/147226905
IDR: 147226905 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.17072/2037-6681-2018-2-55-63
Текст научной статьи Поэтика автобиографического и мемуарного начал в прозе О. Волконской (на материале сборника рассказов "Фиалки и волки")
Обращение к творчеству самобытной русской писательницы О. А. Волконской продиктовано необходимостью детального изучения литературных произведений, которые, синтезировав в себе специфику эмигрантской прозы и национальной русской традиции, стали отражением особенностей мировосприятия, мирочувствова-ния целой плеяды выдающихся писателей, поэтов, деятелей культуры. Оригинальный талант Волконской, синтетический характер ее творчества, в котором нашли свое выражение перипетии многосложной и драматичной судьбы писательницы, в последние годы привлекают внимание исследователей. Однако, несмотря на появление немногочисленных работ, посвященных отдельным аспектам прозы писательницы, на сегодняшний день творчество Волконской изучено фрагментарно. Особенности конструирования дискурсивного пространства, проблемы соотношения автобиографического и мемуарного, субъективного и объективного, универсального и национального в творчестве этого автора практически не рассматривались литературоведами. Между тем выделение указанных аспектов позволит лучше понять специфику индивидуальноавторского метода Волконской, осознать степень влияния драматизма ее судьбы на моделирование пространства и времени, а также выявить особенности соотношения автобиографического и мемуарного в художественных текстах автора.
Уникальность творчества Волконской обусловлена как необычностью личной судьбы писательницы, так и ее блестящим литературным даром. Как отмечает современный исследователь, «социальный статус Волконской можно определить двумя характеристиками – “представительница эмиграции” и “репатриантка”» [Лапаева 2008: 216]. Вынудив Волконскую покинуть родину, судьба впоследствии вернула ее обратно; именно этим фактом во многом оказались продиктованы особенности ее миропонимания, восприятия действительности, в полной мере отразившиеся в индивидуально-авторском стиле, специфике творчества, автобиографичности повествования.
Жизненная история Волконской похожа на судьбы многих русских эмигрантов. Родившаяся в глубине России в семье дворянина, будущая писательница в 1920 г. в четырехлетнем возрасте была увезена за границу из пылающей гражданской войной страны: «И вот – три года жизни в Турции, тринадцать лет во Франции, тринадцать лет в Аргентине» [Гинц 1963: 5]. Проза Волконской – это качественные тексты, своеобразные документы и памятники эпохи. В них запечатлелся социальный и духовный опыт русского интеллигента, не по своей воле меняющего страны и континенты, живущего в сфере разных культур, говорящего и пишущего на разных языках, трудно возвращающегося и непросто живущего на обретенной родине.
Вторая половина жизни писательницы, по словам Н. Б. Лапаевой, «оказалась пронизанной сюжетом возращения» [Лапаева 2008: 216]. Репатриация писательницы началась с получением советского гражданства в 1960 г. и переездом в СССР. Несмотря на многообразие иностранных языков, постоянно окружавших ее, усвоенных западных стереотипов и поведенческих моделей, Волконская всегда оставалась поистине русской. Как отмечает Л. Мишланова, «она могла стать турчанкой, француженкой, аргентинкой, человеком без родины и без родного языка – так складывались обстоятельства. Но, унаследовав от отца страстную любовь к России, к русскому языку, она поставила цель – вернуться на родину. И с потрясающим упорством многие-многие годы добивалась этой цели. Она вернулась на родину. Она стала русской писательницей» [Мишланова 2006: 42].
Сложная, полная драматизма судьба Волконской определяет уникальность, самобытность, неповторимость ее прозы, синтезирующей в себе не только опыт жизни в эмиграции, но и опыт борьбы за возвращение на родину, адаптацию к условиям советского общежития. Увиденное, пережитое, прочувствованное формирует мировоззренческую парадигму писательницы, отражаясь в ее произведениях.
В то же время, несмотря на эксплицитное присутствие автора в пространстве художественного дискурса, повествование Волконской не ограничивается отображением только личностных перипетий, оно стремится к объективации, что и придает своеобразие мемуарной составляющей этих текстов.
Необходимо отметить, что, несмотря на рост научного интереса к автобиографическому и мемуарному началу в литературе, определение границ между указанными категориями весьма затруднительно. Проблема разграничения данных жанровых начал обусловлена тем фактом, что и автобиография, и мемуары обращены в прошлое, ориентированы на внетекстовую реальность, существуют в двух измерениях: прошлые события («тогда») и нынешнее их осмысление («теперь») [Таймазова 2007: 239]; носят ярко выраженный исповедальный характер, непосредственно связаны с личностью автора. Обязательными элементами автобиографического и мемуарного выступает опора на события, которые действительно имели место, документально подтверждены официальными или неофициальными источниками, при этом в их отражении возможна минимальная степень вымысла.
Мемуарное начало в прозе предполагает репрезентацию повествователя в качестве свидетеля, «описывающего увиденное и высказывающего по этому поводу свое мнение» [Павлова 2008: 61]. Субъективные переживания, эмоциональные состояния, психологические характеристики нарра-тора подчиняются задачам воспроизведения внешнего мира, объективной действительности.
Мемуарная составляющая, как правило, проявляется в репрезентации сведений о людях, которых знал автор, за которыми он наблюдал либо слышал о них от других людей, в репрезентации сведений о событиях неприватной жизни автора, включая исторические, культурные. Другими словами, мемуарное начало включает в себя совокупность всех компонентов, «из которых складывается внешняя жизнь автора и которые являются общими для определенной группы людей либо для поколения в целом» [Черкашина 2014: 189].
Очевидно, что автобиография носит более интимный характер, причем, «в отличие от мемуаров, автобиография – рассказ не столько об исторических событиях, сколько о собственном жизненном пути» [Елизаветина 1982: 243]. Другими словами, в центре автобиографии – личность самого автора, его судьба, его чувства. По своей сути автобиография представляет собой «не просто повествование о себе и о своей жизни, это именно психологическое исследование своего характера» [Левицкий 1974: 115].
Автобиографическая составляющая представлена событиями, фактами, различной информацией, которая отражает личную жизнь автора. Автобиографическое начало может быть проявлено через сухие биографические данные, через описание различных видов деятельности автора, представлено информацией о семейной, повсе- дневной жизни рассказчика, о круге его знакомств и личных интересов. К автобиографическим сведениям относится информация о внутренней, глубоко интимной, психологической жизни автора, его эмоционально-психологических реакциях на те или иные события.
Автобиографическое начало в прозе – это не только мир прошлого нарратора, но и свое «прошлое осознание и понимание этого мира»: «Это прошлое сознание – такой же предмет изображения, как и объективный мир прошлого. Оба эти сознания, разделенные десятилетиями, глядящие на один и тот же мир, не расчленены грубо и не отделены от объективного предмета изображения, они оживляют этот предмет, вносят в него своеобразную динамику, временное движение, окрашивают мир становящейся человечностью» [Бахтин 1979: 398]. Другими словами, автобиографическое в прозе не ограничивается исключительно субъектом наррации, отображением его опыта восприятия действительности, но и органично дополняет объективное, реально существующее, «опредмечивая» и «очеловечивая» его.
Как отмечает Т. Ю. Черкашина, «в отдельных случаях в качестве опоры для памяти мемуариста либо для подтверждения правдивости его слов могут использоваться реально существующие документальные источники, различные материалы личного архива, свидетельства других людей документального либо мемуарного характера» [Черкашина 2014: 188]. Но приоритет всегда отводится памяти автора, соответственно, речь идет о личностном видении, субъективном оценивании описываемых событий, процессов, которые имели место в его прошлом.
Рассмотрим своеобразие выражения автобиографического начала в прозе Волконской, обратившись к ее рассказу «Парижские фиалки» из сборника «Фиалки и волки».
В центре повествования – отдельный «боевой эпизод», который хранится в памяти старой Виолетт, – самовольное заселение бедняками «Гостиницы надежды». Эпизод этот произошел в 1955 г. во Франции. Обращение к прошлому, к памяти, к воспоминаниям свидетельствует о присутствии в ткани повествования и автобиографического, и мемуарного начал.
Рассказ ведется от третьего лица, от лица анонимного повествователя, что отражает установку автора на создание максимально объективной картины, свидетельствует о нацеленности писательницы не столько на воспроизведение собственных эмоций, собственной жизни, собственной «я-концепции», сколько на воссоздание переживаний других людей, картины их прошлого.
«Есть во Франции такие женщины с сухими глазами.
Старая Виолетт пережила на своем веку две войны, вдовство, смерть всех, кроме одного, сыновей, безработицу, голод» [Волконская 1975: 27].
В рамках небольшого фрагмента писательница упоминает о катастрофах и бедствиях, с которыми пришлось столкнуться женщине: две войны, вдовство, смерть, голод. Отдельно следует отметить, что, описывая жизнь главной героини, Волконская не разделяет глобальные и личностно-индивидуальные катастрофы: глобальная трагедия двух мировых войн приводит к многочисленным личностным трагедиям – вдовству, смерти детей. Индивидуальное и глобальное, государственное и частное, таким образом, сливаются, взаимообусловливая друг друга, друг в друга переходят, отражая особенности авторского мировосприятия.
А упоминание того факта, что Франция, как и Россия, пострадала в результате двух мировых войн, способствует слиянию национального и универсального в рассказе. Жизнь старой Виолетт вбирает в себя судьбы и русских женщин, пострадавших от военных событий, потерявших близких на фронтах сражений. В результате метафорического переосмысления выражение «женщины с сухими глазами» формирует образ целого поколения матерей, жен, разучившихся плакать, научившихся выживать в нечеловеческих условиях, на лице которых можно увидеть «капельки пота, но никто не похвастает тем, что видел… слезы» [там же]. В рамках небольшого фрагмента отражается особый, «женский», взгляд на трагедию войны, на мир и литературу, проявляется гендерный аспект авторского мировосприятия – глубокое понимание трагедии женщины, пережившей войну и смерть близких.
Повествование ведется от третьего лица, от лица как бы обезличенного автора; перед читателем возникают картины послевоенной Франции: нищета, давление государственной машины, бездеятельность властей, бесчеловечное поведение журналистов, которые сбежались, «как шакалы». Заметим, что именно мемуарное начало помогает здесь реконструировать объективную картину всей совокупности прошлых событий, а также воссоздать образы людей, запечатленных в памяти автора.
В процессе повествования авторское «Я» не проявляется открыто, однако в подтексте рассказа отчетливо читается непростая судьба автора. Важно отметить и тот факт, что он, автор, представлен здесь одновременно и как один из многих – тех, кому пришлось побывать в аналогичных исторических ситуациях, пережить общие с народом радости и горести. И не случайно в дан- ной части повествования «Я» заменяется на «Мы», и это «мы» произносится, казалось бы, от имени целого поколения.
Стараясь усилить достоверность повествования, стремясь к максимальной объективности, писательница использует интересный прием: Волконская отсылает читателя к документальному свидетельству 1955 г., фактам, которые использует в качестве подтверждения собственных мыслей, правдивости рассказа. «Тот, кто интересуется перипетиями борьбы, пусть посмотрит французские газеты за лето 1955 года» [там же: 30–31].
В рассказе «Парижские фиалки», как и в ряде других, основной формой повествования выступает рассказ от лица «всезнающего» автора, который стремится к максимально отстраненному представлению событий. Безличное субъектное повествование способствует максимальной объективированности наррации. Вместе с тем такое повествование всегда отмечено печатью времени, авторского мировосприятия, что приводит к дополнению мемуарного начала автобиографическим: «Мне в заключение хочется рассказать о своем посещении “Гостиницы надежды”… И, глядя на них, я вдруг ощутила, какой неистовый вихрь ненависти, любви, страха, стойкости и силы взвился вокруг этого дома, этой гостиницы, на минутку приютившей воспрещенную в буржуазном мире гостью – надежду» [там же: 31]. Здесь характер наррации меняется: если изначально повествование велось от третьего лица (от лица безличного, всезнающего автора), то в конце произведения появляется форма первого лица. В структуру повествования эксплицитно вводится собственно автор, который становится не только пассивным наблюдателем, но и активным участником событий и процессов, превращаясь в героя-рассказчика, выступающего одновременно и повествователем, и второстепенным героем произведения. В результате преобразования типа повествования осуществляется репрезентация эмоциональных состояний, охвативших автора (неистовый вихрь ненависти, любви, страха, стойкости, силы). Буря противоречивых чувств дает возможность выразить состояние смятения повествователя, подчеркнуть его вовлеченность в события прошлого, придать повествованию определенную интимность. Использование метафоры «неистовый вихрь ненависти» [там же] позволяет подчеркнуть неконтролируемый характер эмоций, интенсивность и стремительность их смены, апеллируя к иррациональному восприятию потенциального реципиента.
Как отмечает В. Нуркова, «специфика материала, включаемого в автобиографическую па- мять, такова, что он допускает вариативность интерпретации», поскольку «значение и смысл события могут изменяться с течением времени в связи с его последствиями или вновь сложившимися обстоятельствами» [Нуркова 2008: 88]. Другими словами, в отдельных случаях мы можем иметь дело с сознательным или неосознанным искажением фактов, смещением смысловых акцентов, деформацией либо неправдивой интерпретацией описываемых событий. В рамках данного фрагмента определенная деформация оценивания событий, смещение смыслового акцента происходит посредством использования словосочетания «буржуазный мир». В период создания произведения, когда вопрос о противостоянии СССР и западного мира стоял особенно остро, прилагательное «буржуазный» для представителя русской лингвокультуры приобрело негативную коннотацию, закрепленную и в словарях. Под данным прилагательным в русском языке может пониматься: 1. «касающийся, относящийся к буржуазии»; 2. «обнаруживающий особенную любовь к грубым и материальным благам в ущерб умственным и духовным наслаждениям, вообще – неутонченный, грубоватый» [Словарь иностр. слов рус. яз.].
В рамках приведенного фрагмента повествователь обращается ко второму значению лексической единицы, что призвано подчеркнуть негативную характеристику послевоенного французского общества, лишенного, по мнению писательницы, надежды. Так осуществляется репрезентация авторского мировосприятия, оценивания социально-политических реалий.
Таким образом, в произведении выявляется органический синтез мемуарного , направленного на воссоздание максимально полной картины общества и происходящих в нем событий, и автобиографического , отражающего индивидуально-авторское восприятие этих событий, репрезентацию места личности в этом прошлом, индивидуально-авторское оценивание общества и своего места в нем.
Еще более заметно слияние мемуарного и автобиографического прослеживается в рассказе «Рядовой случай». В нем повествование ведется от первого лица, от лица рассказчика: «Оглядываясь на свою жизнь, я всегда напеваю этот мотив и смеюсь, хотя хочется-то мне плакать, кричать, проклинать...» [Волконская 1975: 35].
В результате повествования от лица главной героини, с одной стороны, исчезает иллюзия эпической объективности, всеведения автора, акцент смещается на личность нарратора, кругозором которого, казалось бы, ограничивается весь художественный мир. Повествование, приобретая характер интимности, открывает перед читателем мир эмоциональных состояний главной героини.
Повествование от первого лица подчеркивает автобиографический характер произведения, позволяет совместить два времени – время совершения событий и время воспоминания, осуществить репрезентацию того, что было тогда, и того, что есть сегодня. Отмеченное совмещение приводит к множественному использованию сигналов воспоминаний – «помню», «вспоминаю», «бывало» и пр.: «Помню время, я была добра, жалела бедных и в воскресное утро с удовольствием наряжалась, чтобы идти с матерью в церковь на мессу» [там же].
В результате совмещения прошлого и настоящего главная героиня предстает перед нами одновременно и в образе маленькой девочки, которая по воскресеньям ходила с матерью в церковь, и взрослой писательницы. Героиня не только отделяет себя от того образа, который представлен в воспоминаниях, но и противопоставляет себя ему. Две ипостаси лирического «Я» существенно отличаются друг от друга по своему мироощущению, миропониманию, житейскому и культурному опыту.
Лирический нарратор («Я» взрослой писательницы) отстраняет себя от девочки, судьба которой прошла перед читателем в картинах воспоминания. Сознание рассказчицы намного шире, сложнее: оно вбирает народный взгляд на мир (многочисленное использование прецедентных дискурсов), национальную культуру, кроме того, оно художественно неповторимо.
Другими словами, в процессе использования различных форм субъективного повествования (от лица повествователя, от лица героя-рассказчика) меняются ракурсы и акценты: описываемые явления представляются с различных позиций, повышается степень объективности рассказанного. В то же время все формы субъектного повествования выступают как порождение субъектного сознания, соответственно они неизменно несут отпечаток авторского мировосприятия.
Отдельно следует сказать об упоминании в рассказе мессы – основной литургической службы в латинском обряде. Оно, с одной стороны, выступает репрезентацией автобиографического в художественном пространстве произведения, отражает опыт проживания писательницы во Франции, выражает ее отношение к религии (что, принимая во внимание период написания рассказа в стране «победившего атеизма», представляется достаточно смелым). С другой – позволяет воссоздать особенности социокультурной обстановки, представить существующие во Франции обычаи и традиции, в том числе религиозного характера. То есть посредством описания автобиографическо- го, индивидуального, личностного формируется целостный образ объективного, целостного и места автора в нем.
Стремление выразить мысль, что «жизнь протекает не в безлюдном пространстве» [Шайтанов 1981: 43], что былое оживает в памяти повествователя во всем своем многообразии, приводит в произведении к уплотнению мемуарного начала, многочисленным мемуарным вкраплениям:
«“Вы коммунистка?” – спросило начальство.
Я только рот раскрыла: ну не бабья это логика, скажите?
Через месяц я была уволена, “по сокращению штатов”» [Волконская 1975: 39].
Описание разговора с начальством и последующего увольнения главной героини позволяет автору воссоздать целостную систему социокультурных представлений о французском обществе, об идеях, системе аксиологических модусов, ценностных представлений социума. Мы узнаем о том, что идеи коммунизма не разделялись французами, что в послевоенной Франции был довольно высокий уровень безработицы, инфляции, в тяжелом состоянии находилась большая часть населения. Другими словами, в данном фрагменте автобиографическое органично вписывается в мемуарный контекст.
Отдельно следует отметить использование автором обращения к читателю, направленного на его вовлечение в процесс диалога с целью выявления подтекста произведения и создания собственного «надтекста». Кроме того, данный фрагмент помогает обнаружить гендерный аспект мировосприятия писательницы. Он демонстрирует глубокое понимание женских проблем (например, возникающих при трудоустройстве, в социально-бытовой, производственной сферах, семье).
Просторечное прилагательное «бабий» («бабья логика») позволяет придать повествованию характер живой, разговорной, «звучащей» речи, усиливает экспрессивность произведения. В результате использования данной лексической единицы моделируется сказовое повествование – «имитация устной, разговорной, нередко простонародной речи» [Барковская 2004: 23].
В то же время употребление канцеляризма «по сокращению штатов» отражает реалии, существующие в социально-экономической, производственной сфере послевоенной Франции, что позволяет реконструировать целостный образ послевоенной жизни в стране, усиливая тем самым мемуарное начало в произведении. Кроме того, обращение к данному канцеляризму позволяет добиться стилизации.
Под стилизацией в современной научной литературе понимается «намеренная и явная ими- тация того или иного стиля… Стилизация предполагает некоторое отчуждение от собственного стиля автора, в результате чего воспроизводимый стиль сам становится объектом художественного изображения» [Долинин 1987: 419]. В данном случае повествование стилизуется под официально-деловой функциональный стиль речи.
Помимо приемов стилизации, моделирования сказового повествования достаточно часто писательница прибегает к поэтологическому приему включения психологических характеристик героев, состояний, показанных через автобиографический контекст рассказа:
«На беду, на горе бедным женщинам гуляет по свету особый тип мужчины – мужчина-победитель. Он не всегда красив, но есть в нем что-то, от чего бабы тают, как конфетки на солнце; покорить женское сердце ему – что иному разбить орешек. В молодости он обычно беззаботно резвится и идет, оставляя след из скорлупок вышелушенных сердец. Годам к тридцати он, как правило, …превращается в аиста, дает поймать себя первой встречной аистихе, свивает гнездо, таскает червяков – словом, становится добродетельнейшим отцом и супругом. Но бывает, что в этом-то возрасте он принимается особенно язвительно издеваться над самыми незыблемыми канонами адата, над тем, например, что женщина замужем добродетельна, а не замужем, если она не дева, порочна.
С Аихелом Пересом случилось одновременно и то, и другое. Устав порхать по цветочкам, он надумал жениться» [Волконская 1975: 92].
Авторское оценивание осуществляется посредством вводной синтаксической конструкции, выражающей огорчение, сожаление, возможно, отражающей личный опыт писательницы («на беду, на горе»), причем употребление лексем с аналогичным семантическим значением моделирует своеобразную тавтологию, семантическую амплификацию, усиливающую отражение личностью восприятия мужчин определённого типа – «мужчин-победителей».
Таким образом, посредством эмоционально насыщенного автобиографического рассказа-очерка формируется репрезентация мемуарного контекста, происходит характеризация героя произведения, осуществляется моделирование внешней стороны жизни писательницы. Вновь отмечается слияние объективного и субъективного, автобиографического и мемуарного, формируются особенности авторской позиции.
В процессе моделирования художественного пространства писательница пользуется вариативными приемами описания авторской позиции: посредством обезличенной формы повествования формируется высокая степень обезличенно- сти рассказа, позиция автора представляется через интерпретацию подтекста; прибегает Волконская и к прямому оцениванию описываемых событий. В процессе описания при помощи прямой номинации писательница применяет многочисленные лексические, стилистические, синтаксические средства, включая использование семантически, стилистически окрашенных единиц, синтез лексических единиц различных функциональных стилей, обращение к средствам экспрессивного синтаксиса, риторическим вопросам и пр. Кроме того, зачастую отражение авторской позиции достигается посредством включения ассоциативного ряда лексем-референтов определенных социокультурных реалий, в результате чего создается характеристика тех или иных персонажей, событий, явлений и пр.
Характерное для Волконской стремление к целостности прослеживается и в сюжетной организации ее произведений: сюжет большинства рассказов сборника «Фиалки и волки» строится вокруг определенного события, конфликта, отражению которого подчиняются все другие сюжетные компоненты (заселение в разрушенный дом, «рядовой случай» и пр.), что позволяет охарактеризовать сюжеты как концентрические. Нередко события рассказов разворачиваются в хронологической последовательности, прошлое и настоящее сопоставляются, противопоставляются, смешиваются, в результате чего формируется уникальное временное пространство, в котором автор, персонажи представлены одновременно «тогда» и «сейчас».
В то же время в процессе выделения конфликта, событий, предшествующих ему и следующих за ним, писательница прибегает к детальному описанию отдельных эпизодических моментов, превращающих частный эпизод в собственную событийную линию, что позволяет привнести в сюжетную организацию определенную многолинейность. В качестве примера подобного фрагмента может выступать проанализированный ранее диалог между работодателем и главной героиней, принятой на работу и уволенной через месяц «по сокращению штатов». Как уже отмечалось, данный фрагмент отражает особенности социально-политической обстановки того времени. В рамках короткого фрагмента автору удается показать важное: судьба героини оказывается тесно связанной с судьбой страны, переплетается с ней.
Иначе говоря, сюжетная организация произведений Волконской характеризуется вариативностью, использованием различных форм организации событий, что позволяет выявить глубину идейного содержания текста.
Подобный синтез в художественных произведениях иллюстрирует особенности авторского мировосприятия, в котором национальное и универсальное сливаются, служит проявлением глубокого понимания онтологических трансформаций личности, роли и места женщины в послевоенном обществе. В качестве одной из сущностных особенностей авторского мировосприятия, воплощенного в рассказах сборника, следует назвать тот факт, что дискурсы Волконской представляют собой отражение «женского» взгляда на жизнь и литературу.
На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что в сборнике рассказов «Фиалки и волки» мы имеем дело не только с синтезом документального (публикации в газетах, цитаты из официальных документов и пр.) и личного (индивидуально-авторское восприятие), но и с совмещением автобиографического и мемуарного начал. В фокусе рассказов Волконской находится изображение индивидуально-личностного жизненного пути в социальном контексте, что и формирует самобытность прозы писательницы.
По своей сути литературные дискурсы Волконской представляют собой сочетание индивидуально-личного, биографического, исторического и социального. Это художественные произведения, освещающие различные актуальные проблемы (философские, духовно-нравственные). Рассказы Волконской – повествование о людях и событиях, о чувствах, связанных с духовнорелигиозной, социально-политической, культурной, литературной жизнью общества и собственным бытием самого автора.
Perm State University
ResearcherID: Q-7810-2017
Svetlana V. Melnichukova
Postgraduate Student in the Department of Russian Literature
Perm State University
ResearcherID: S-2331-2017
Submitted 10.11.2017
This paper deals with the uniqueness of short stories by the Russian writer O. Volkonskaya, whose oeuvre has been poorly studied by scholars. The paper considers the book of short stories Violets and Wolves and shows the distinctive features of the author’s creative writing. The book consists of two parts: Paris Violets and Argentinean Outskirts . Some of the stories were written in Prague, Czechoslovakia at that time, and the rest were written in the Soviet Union, the author’s homeland. The stories have autobiographical features and characteristics of memoirs. Furthermore, the paper reveals the impartial and subjective features of O. Volkonskaya’s writings, as well as the author’s national and universal views presented in the stories. The paper draws a clear distinction between memoir and autobiographical features of the prose. It studies different female characters created by the writer and shows that the Argentinian cycle presents characters in more detail than the Paris one. The paper also provides a description of O. Volkonskaya’s unpublished short stories, plays, and poetry.
Список литературы Поэтика автобиографического и мемуарного начал в прозе О. Волконской (на материале сборника рассказов "Фиалки и волки")
- Барковская Н. В. Типы повествования и их анализ // Филологический класс. 2004. № 11. С. 16-25
- Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Худож. лит., 1979. 341 с
- Бикеева Е. Г. Поэтика мемуарной прозы Б. К. Зайцева: дис.... канд. филол. наук. Саранск, 2014. 205 с
- Волконская О. А. Фиалки и волки. Рассказы. Пермь: Кн. изд-во, 1975. 246 с
- Гинц С. М. Об авторе этой книги // Волконская О. А. Фиалки и волки. Пермь, 1963. С. 5-9
- Долинин К. А. Стилизация // Литературный энциклопедический словарь / под общ. ред. В. М. Кожевникова, П. А. Николаева. М.: Сов. энциклопедия, 1987. С. 419
- Елизаветина Г. Г. Становление жанров автобиографии и мемуаров // Русский и западноевропейский классицизм. Проза. М., 1982. С. 240-247
- Кознова Н. Н. Мемуары русских писателей-эмигрантов первой волны: осмысление исторического пути России. Белгород: Изд-во БелГУ, 2010. 168 с.
- Лапаева Н. Б. Пермь как дом в эмигрантской судьбе и творчестве Ольги Волконской: попытка обретения // Пермский дом в истории и культуре края: материалы науч.-практ. конф. 19 дек. 2008 г. / МУК ОМБ Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина; сост. и ред. Т. И. Быстрых. Пермь, 2008. С. 216-220
- Левицкий Л. А. Где предел субъективности? // Вопросы литературы. 1974. № 4. С. 101-115
- Мишланова Л. В. Ранимая и гордая душа // Мишланова Л. В. Самостоянье: Очерки о людях науки и культуры Пермского края. Пермь, 2006. С. 41-45
- Нуркова В. В. Доверчивая память // Когнитивные исследования / под ред. В. Д. Соловьева, Т. В. Черниговской. М., 2008. С. 87-102
- Павлова С. Ю. Мемуарно-автобиографичес-кие жанры: к проблеме границ // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Филология. Журналистика. 2008. Вып. 1. С. 59-62
- Таймазова Л. Л. Литературоведческие аспекты мемуарного жанра // Вестник Луганского национального педагогического университета им. Т. Шевченко. 2007. № 11(128). С. 237-245
- Черкашина Т. Ю. Мемуарная литература: синтез мемуарного и автобиографического начал // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2014. № 1(134). С. 187-191
- Шайтанов И. О. Как было и как вспомнилось (современная автобиографическая и мемуарная проза). М.: Знание, 1981. 64 с
- Словарь иностранных слов русского языка. URL: http://dic. academic. ru/dic. nsf/dic_fwords/84 54/БУРЖУАЗНЫЙ (дата обращения: 20.08.2017)