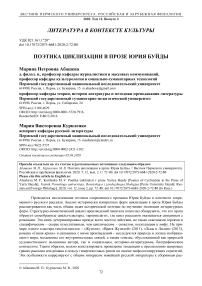Поэтика циклизации в прозе Юрия Буйды
Автор: Абашева Марина Петровна, Куриленко Мария Викторовна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 2 т.12, 2020 года.
Бесплатный доступ
Проводится исследование поэтики современного прозаика Юрия Буйды в контексте современного русского рассказа. Анализ исторически конкретных форм циклизации в прозе Юрия Буйды рассматривается как часть общих задач исторической поэтики по изучению эволюции литературных форм. Структурно-семиотический анализ произведений писателя позволил обнаружить, что его проза образует своеобразные циклы-кластеры, «архипелаги», где цикл рассказов оказывается связанным с романами. Эта связь детерминирована прежде всего местом действия, но также сквозными героями и специфическим - скорее кумулятивным, чем циклическим - сюжетом, восходящим к мифу. На примере одного кластера текстов-циклов - «Жунгли», «Врата Жунглей» (2011), «Львы и Лилии» (2013), романа «Синяя кровь» и связанных с ними произведений - исследуются природа и логика изображаемого мира, механизмы его внутритекстовых связей, а также генезис, обусловленный как природой художественного мышления автора, так и социальным, историко-литературным, биографическим контекстом. Таким образом, можно констатировать проявление тенденции к преодолению жанровых границ рассказа или романа в пользу гипертекстовых ризом на основе мифологизирующих стратегий. Эти особенности коррелируют с общим интересом новейшей русской литературы к сборникам рассказов, с одной стороны, и тяготением современного романа к распадению единого нарратива и фрагментарности - с другой. Возможно, тенденции к гипертекстовым стратегиям текстопорождения обусловлены общими свойствами современного мышления и социальной коммуникации, поскольку социальная морфология общества сегодня строится в виде сетевых форм.
Юрий буйда, современная русская проза, эпическая циклизация, гипертекстуальность
Короткий адрес: https://sciup.org/147229696
IDR: 147229696 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.17072/2073-6681-2020-2-72-80
Текст научной статьи Поэтика циклизации в прозе Юрия Буйды
Современная литературная ситуация (как, впрочем, и классическая национальная традиция) свидетельствуют о лидирующих позициях жанра романа в русской литературе. Именно за роман присуждались и авторитетные литературные премии современной России – «Русский Букер», «Национальный бестселлер» и др. Однако сегодня заметно возрастает интерес к рассказу, что, очевидно, обусловлено и новыми читательскими привычками: читатель все больше привыкает к текстам, помещающимся на экране компьютера, а лучше – в посте на ленте социальных сетей. Юрий Буйда по природе своего дара – именно рассказчик. «Я рассказываю рассказы. Повести, иногда романы», – говорит он в интервью [Ба-вильский 2010]. Даже свою фамилию он толкует как «рассказчик, сказочник, лжец, фантазер» [Буйда 1998: 299].
Примечательно, однако, что рассказы сегодня все чаще тяготеют к сборникам – и авторским, и коллективным антологиям1. В некоторых антологиях встречаем и рассказы Юрия Буйды – «Счастливый случай. Реальные истории из жизни современных писателей» (2016), «Любовь, или мой дом» (2016), «Отцы и дети. Версия 2.0. Антология современного рассказа» (2017), «Семнадцать о Семнадцатом» (2017). Антологии образуют новое художественное единство, отличное от рассказа и романа. Между отдельным рассказом и сборником существует множество иных форм циклизации. Случай Юрия Буйды интересен особым типом межтекстовых связей, образующих его причудливый художественный мир. И хотя рассказы писателя уже становились предметом изучения – в работах Г. Д. Ахметовой, Н. Г. Бабенко, М. А. Бологовой, М. В. Гавриловой, Н. С. Гулиус, М. А. Дмитровской, А. С. Меркуловой и других авторов – природа их циклизации, кросс-жанровое взаимодействие с другими жанрами прозы писателя не были еще объектом исследования. Тем не менее надо отметить работы, в которых изучались отдельные аспекты, связанные с циклизацией и романизацией рассказов Буйды. Так, в работе С. В. Нестеровой, посвященной исследованию малой прозы XIX–XXI вв., цикл «Жунгли» Ю. Буйды трактуется как «эпический прозаический цикл, выстроенный автором с помощью единых принципов циклизации и имеющий общие темы и мотивы» [Нестерова 2012: 275]. К. А. Дегтяренко писала об интертексту- альных связях у Буйды в книге рассказов «Прусская невеста» [Дегтяренко 2009].
Однако особенно зоркими критиками часто оказываются писатели. Уже в первом сборнике рассказов Буйды «Прусская невеста» прозаик и критик Ольга Славникова обнаружила особую природу: «Перед нами составное повествование, чьи части взаимодействовали еще тогда, когда были разбросаны по журнальной периодике и читались как отдельные произведения. Тексты, объединенные местом и временем действия, отсылали один к другому, обменивались образами – шли, стало быть, обменные процессы, прирастали качества текстового вещества». Это не сделало рассказы Буйды романом: «…сложенные вместе, рассказы Юрия Буйды не обрели специализации, сюжетной и персонажной соподчинен-ности, какие необходимы для самой свободной формы романа. Но они и не стали, конечно, обычным авторским сборником». Славникова ищет способ обозначить этот нетривиальный способ текстообразования: «Эта книга скорее может быть определена как колония текстов, способная разрастаться за пределы данной книжной обложки» [Славникова 1999: 213].
Определение «колония текстов» сегодня, когда корпус текстов Буйды значительно вырос (например, в издательстве Елены Шубиной АСТ прозе автора отдана специальная серия), нужно признать удачным. Именно такими колониями и прирастает проза Юрия Буйды сегодня за счет внутренних межтекстовых перекрестных связей: персонажи цикла «Жунгли» обнаруживаются в новых обстоятельствах в романе «Синяя кровь», а повесть «Яд и мёд» коррелирует с «Осорьинскими хрониками». Оба эти «кластера» отчасти восходят к романам «Город палачей» и «Борис и Глеб».
Цель настоящей работы – в том, чтобы осмыслить названные «колонии текстов» в авторской интенции, семантике, структуре, факторах целостности, генезисе и обусловленности контекстом. Предметом анализа стали циклы «Жунгли», «Врата Жунглей», роман «Синяя кровь» (примечательно, что названные произведения изданы друг за другом в 2011–2012 гг.) и тексты, к которым в ходе исследования выводит текстопостроение автора.
Прежде всего бросается в глаза очевидное обстоятельство: главным объединяющим началом циклов и романов Буйды является пространство.
С одной стороны, оно референциальное и географически определимое; в «Прусской невесте», в «Кёнигсберге» это родной город автора Зна-менск Калининградской области (бывший Велау), в «Жунглях», «Синей крови» – Подмосковье, где сейчас живет автор. С другой стороны, фантасмагоричное пространство Буйды максимально условно – прежде всего потому, что автор опирается на архетипы. Так, в творчестве Буйды многократно повторяется топос грешного города, восходящего к архетипу, который В. Н. Топоров определял как «город-блудница» (в «Борисе и Глебе» (1997), «Городе палачей», «Жунглях», «Покидая Аркадию» (2016)).
В цикле рассказов «Жунгли» отчетливо проявлены обе эти тенденции – к конкретности и к условности. Словечко «жунгли», пущенное его обитателями, обозначает пространство заброшенного района, расположенного за московским кольцом: «… поселок за кольцевой автодорогой, входивший в состав Москвы и официально называвшийся Второй Типографией, где жили по большей части старики, инвалиды и алкоголики. Здесь стояли здание типографии, где печатали бухгалтерские бланки, четыре пятиэтажки с потеками гудрона на стенах, десяток приземистых бараков из красного кирпича, множество сараев, гаражей, каких-то покосившихся хибар – вот что такое были эти Жунгли» [Буйда 2010: 58]. Все рассказы объединяются общим хронотопом: сюжеты разворачиваются в пяти локусах Подмосковья: Жунгли, Чудов, Кандаурово, Новостройка и Жукова гора.
Пространство заселено обитателями маргинальными: «здесь, в этих самых покосившихся хибарах, жили нелегалы – таджики, узбеки, афганцы и бог весть кто еще». Этот мир живет под знаком неискоренимой опасности: «Не удивлюсь, если встречу здесь у вас Осаму бен Ладена, – говорил участковый Семен Семеныч Дышло. – Тут его никакое гестапо не найдет» [там же]. Рассказы наполнены историями изнасилований, убийств (как убийств страсти, так и «заказных»), инцестов, пьянства, болезней и отчаяния, которые воспроизводятся, кажется, бесконечно: «Лиду Самарину, продавщицу, прозвали Скарлатиной из-за вздорного характера и лающего голоса. Она трижды побывала замужем, и все ее мужья уходили от нее в тюрьму – кто за драку с членовредительством, кто за воровство. Родила сыновей-близнецов, которых тоже посадили: в армейской казарме они изнасиловали и убили сослуживца» [там же: 257–258].
Это узнаваемо постсоветское пространство. Здесь доживают свой век ветшающие идолы ушедшей советской эпохи: памятник Сталину, ржавый бюст Сталина, фигурка Ленина, храня- щаяся в пасхальном яйце (можно предположить, что это «киндер-сюрприз»). Новых смыслов постсоветское пространство не рождает, попытки отказаться от советского наследия направлены в прошлое. Так, памятник Сталину, оказывается, пытались переделать в памятник Пушкину (суммарное «наше все» призвано компенсировать любые открывающиеся бездны рушащейся советской цивилизации): «Великий поэт стоял на высоком постаменте в бронзовых сталинских сапогах, простерев руку вдаль и держа на весу чугунный электрический фонарь» [там же: 113]. Фигура являет собой гротеск, при этом смысл перемен и отказа от советского мифа оказывается забытым: «Трансформатором его называли вовсе не потому, что памятник Сталину в 1961 году трансформировали в памятник Пушкину, а потому, что Пушкин не знал слова «трансформатор», а Сталин знал» [там же].
Цикл строится как череда портретов-судеб: из семнадцати рассказов цикла одиннадцать имеют в заглавии имя главного героя. Каждый несет в себе неизжитую травму, которая прямо не проговаривается. Доминик Ла Капра писал о двух основных сценариях репрезентации травмы: о ее воссоздании, проигрывании или об аналитической проработке [La Capra 2001: 58]. Герои Буй-ды никак свою травму не проговаривают, не рефлексируют, они как будто начисто лишены психологии. Так лишен психологии миф. Герой Буйды и являет собой свернутый миф, который может развернуться в отдельное повествование. Остановимся только на двух персонажах – женском и мужском.
Женщины у Буйды – нередко жертвы (насилия, мужчин, самой истории), но чаще – сильные богини-матери, царственные повелительницы с причудливыми именами: Эсэсовка Дора, Цикута Львовна, Свинина Ивановна, Баба Шуба. Очень часто в женском персонаже заключена свернутая пространственная метафора. Таково гротескное тело Камелии, уподобляемое Земле (такое уподобление описывал Бахтин в книге о Рабле)2: «Камелия была державой, стобашенной твердыней, одним из тех китов, благодаря которым земля держалась над поверхностью кипящего мирового молока, или одним из трех слонов, на которых стоял мир, или хотя бы ногой того слона. Господь сотворил ее лично, с таким же рвением, с каким творил землю, небо и Великую китайскую стену» [Буйда 2010: 72]. Сравнение с Землей символизирует плодородие, материнское / женское начало, круговорот жизни. Мифологи-чески-бестиарный символ, однако, конкретизируется далее до образа страны: Камелию «сравнивали с коровой <…> но на самом деле она была огромной страной <…> на Камелию пошло так много стройматериалов, что на Европу уже не осталось» [Буйда 2010: 72]. Камелия – вся Россия «со всей ее ленью, пьянью и дурью, с ее лесами, полями и горами, великими реками и бездонными озерами, с медведями, зубрами и соболями, со всеми ее цивилизованными народами и дикими племенами» [там же].
Порой героини Буйды репрезентируют не географию, но историю – такова Лета в одноименном рассказе. Ее, родившуюся до революции, побывавшую замужем за советскими маршалами и говорившую со Сталиным, родные порой называют Империей. К пространственно-временной метафоре, выраженной в имени, добавляется, как часто случается у Буйды, интертекст, литературный источник: в детстве героиня любила «Неточку Незванову» Достоевского, и брат снисходительно переименовал ее в Леточку.
Такие персонажи не сводятся к характеру, они воплощают миф. В рассказах Буйды события – бытовые коллизии лихих девяностых – оказываются только поводом для выявления мифологического архетипа. В цикле «Врата Жунглей» в убийце-психопате Климсе проглядывает Эдип, в провициальном соблазнителе Иванове-Ивин-ском – Аполлон, старуха Баба Жа скрывает крылышки нимфы… У Буйды огромное количество уродцев, слепцов, карликов, горбунов, они сохраняют бестиарные атрибуты мифологических монстров. О таком типе литературного героя, недалеко ушедшего от породившей его мифологии, писала О. М. Фрейденберг: мифологические атрибуты становятся у такого героя чертой профессии, наружности, характера [Фрейденберг 1997: 181].
Мифологическое по своей природе пространство прозы Буйды приспосабливает к себе героя: персонажи Буйды не носят имен, данных при рождении, а переименовываются заново самими же героями его мифологического универсума – «люди звали», «с того дня его стали называть»… Особенно часто дает прозвища окружающим один из главных героев, Штоп: у него «были какие-то особые, загадочные отношения со словами вообще и с человеческими именами в частности». Свою жену «он называл Жозефиной, хотя по документам она была Зинаидой» [Буйда 2010: 65]. Внук Штопа, калека с отростками на спине, именуется дедом как Франц Фердинанд, врач однажды назвал его Йозеф Штраус. Парадоксально незначимое имя самого Штопа говорит о многом. Прозвище прилипло, когда герой, как чеховский злоумышленник, любивший все отвинтить, разобрать и украсть, был пойман и объяснял свои мотивы: «Ну штоп, значит, штоп… <…> просто, значит, штоп это самое» [там же: 63]. Самого смысла своего существования Штоп объяснить не может. Однако в давнем романе Буйды «Город
Палачей» встречаем героя, что был «одним из младших и самым непутевым сыном Великого Боха, которого в городке все от мала до велика знали под кличкой Штоп» [Буйда 2003]. Смешение «Бог» и Босх» здесь прозрачно мотивирует генезис поэтики Буйды. Штоп – сын Боха, словно сохраняет природу демиурга, потому дает в своем мире имена, попирая прежних богов: после смерти внука он яростно пинает ржавый бюст Сталина, найденный в огороде. Работает та же формула героя, что в случае с Летой: мифологический архетип встречается с архетипом литературным.
Генезис персонажей Буйды обнаруживает, таким образом, что события фабулы оказываются лишь проекцией имени героя. Имя же является проекцией мифа. О.М. Фрейденберг писала, что «основной закон мифологического, а затем и фольклорного сюжетосложения заключается в том, что значимость, выраженная в имени персонажа и, следовательно, в его метафорической сущности, развертывается в действие, составляющее мотив; герой делает только то, что семантически сам означает» [Фрейденберг 1997: 222].
Сюжетика Буйды проистекает также из логики мифа. События равны между собой, не подчинены конкретной цели, они воспроизводят архетипическую основу образа персонажа: «…сю-жет – система развернутых в словесное действие метафор; вся суть в том, что эти метафоры являются системой иносказаний основного образа» [там же: 223]. Такого рода сюжеты О. М. Фрей-денберг называла кумулятивными. В современной авангардной и постмодернистской литературе, как справедливо считают исследователи, актуализируется именно кумулятивный способ сюжетостроения: «Фрагментарность и нагромождение воспроизводят кризисное сознание, которое пытается осмыслить и пережить деконструкцию, распад мира» [Фёдоров 2011: 142].
Описанные принципы создания героев и сюжетов, мифологические по природе, сохраняются у Буйды и за пределами круга-цикла, собранного в книге «Жунгли». Мы имеем дело с ризомати-ческим3, по типу грибницы, разрастанием цикла. Обратимся к роману «Синяя кровь».
Объединяющим началом здесь остается локус. С первой страницы романа «Синяя кровь» мы встречаем знакомые по рассказам цикла «Жунгли» места: «Площадь была пустынна. В центре ее высилась уродливая черная горловина древнего колодца <…>, а вокруг стояли церковь Воскресения Господня, аптека с заспиртованными карликами в витрине, ресторан “Собака Павлова”, милиция, почта, торговые ряды – Каменные корпуса, Трансформатор – памятник Пушкину с фонарем в вытянутой руке, Немецкий дом – больница, построенная в 1948 году немец- кими военнопленными, и где-то там, за больницей, в колышущейся влажной мгле, угадывалась крыша крематория с медным ангелом на высокой дымовой трубе» [Буйда 2011: 7]. И здесь же, в начале романа, перечисляются длинным списком уже известные по циклу «Жунгли» персонажи: «А после похорон в ресторане “Собака Павлова” собралось множество людей, чтобы помянуть старуху. Тут были доктор Жерех, аптекарь Сиверс, начальник милиции Пан Паратов, знахарка и колдунья Свинина Ивановна, тощая Скарлатина со своим Горибабой <…> Шут Ньютон с собственным стулом, десятипудовая хозяйка ресторана Малина, горбатенькая почтальонка Баба Жа, Эсэсовка Дора, карлик Карл в счастливых ботинках, шальной старик Штоп, его стоквартирная дочь Камелия, ее муж Крокодил Гена, пьяница Люминий, глухонемая банщица Муму, Четверяго в своих чудовищных сапогах, семейство Черви – милиционеры, парикмахеры и скрипачи, директриса школы Цикута Львовна, прекрасная дурочка Лилая Фимочка и множество Однобрюховых...» [там же: 13–14].
Однако «Синяя кровь» – роман, и здесь работают дополнительные нарративные механизмы. В романном жанре у Буйды повествование движется за счет двух типов сюжета: это и кумулятивный, который мы описали применительно к его рассказам, но вместе с ним и линейный (векторный), характерный для детектива.
Кумулятивный принцип работает так же, как в рассказах цикла. Героиня романа «Синяя кровь» встраивается в миф, в устойчивый архетип. Сначала культурный – Таня берет себе имя Ида, разглядывая полюбившийся серовский портрет Иды Рубинштейн, по примеру которой и становится актрисой. Потом всей своей жизнью героиня поддерживает локальные чудовские мифы: становится кем-то вроде старшей жрицы установленного здесь культа: выпускания голубки в день кремации покойников – она учит исполнению ритуала маленьких девочек. Но при этом в романе у героини есть биография, взятая из совсем не мифологического контекста. Прототипом Иды Змойро стала актриса советского кино сороковых годов Валентина Караваева, о чем говорится в предисловии к книге. На взлете актерской карьеры, в расцвете истории любви (она вышла замуж за британского атташе) Караваева попала в автокатастрофу и, обезображенная, провела остаток дней в Верхнем Волочке. Благодаря биографии актрисы в романе появляется не только имя и миф, но и судьба, история. А благодаря детективной линии (девочек кто-то убивает) в романе начинает проявляться линейный сюжет, напоминающий криминальные сериалы. Ида Змойро разоблачила убийцу, используя при этом навыки актрисы. То есть в мифологический универсум, выстроенный в ряде текстов Буйды, врываются романный векторный сюжет (поиск убийцы) и нарративная интрига (повествование ведется таким образом, что секрет об убийце раскрывается перед читателем постепенно). Финал романа, впрочем, восстанавливает статус-кво чу-довского мира, его миф и ритуал. И можно предположить, что другие, будущие тексты могут снова располагаться в обжитом пространстве мифа.
Таким образом, рассказы циклов «Жунгли», «Врата Жунглей» и роман «Синяя кровь» связаны общими персонажами, общим хронотопом, перекрестными сюжетными линиями, предысторией. Хотелось бы понять генеалогию этого текстового кластера, состоящего из нескольких книг: строится этот мир изначально, сознательно и постепенно, т. е. в сознании автора, или складывается постфактум, случайно, судьбами издательской политики?
Наше исследование истории публикаций рассказов автора показывает, что даже целостность цикла «Жунгли» нельзя признать абсолютной. Многие рассказы были опубликованы в журналах задолго до книжной публикации цикла в 2011 г. Так, первый рассказ в исследуемом цикле, «Лета», был опубликован в 1995 г. в журнале «Знамя». В 2000 г. в журнале «Октябрь» Юрий Буйда представляет небольшой цикл «Три рассказа». Последний рассказ этого цикла – «На живодерне» – в цикле «Жунгли» встречаем в первоначальной (журнальной) редакции. Отдельными рассказами в журналах «Октябрь» и «Знамя» печатаются «Закон Жунглей» и «Про электричество» соответственно. Сложнее и интенсивнее цикл «Жунгли» развивается дальше. Помимо этого цикла, в 2010 г. Буйда публикует цикл «Бедные дети» в журнале «Октябрь», куда включает три рассказа из «Жунглей»: «Вовка и Скарлатина», «Три мешка хороших ногтей», «Ведьмин волос». В 2007 г. выходит его цикл «Книга левой руки», в котором есть три рассказа («Отчёт Анны Бодо», «Карлик Карл», «Шут Ньютон» и отчасти «Пасхальный пёс»).
В поисках ответа на вопрос о механизме межтекстовых связей мы обратились к автору. Юрий Васильевич ответил следующее: «Однажды по случайному поводу был написан рассказ (а скорее – эссе) «Прусская невеста», который был опубликован в «Независимой газете», и друзья-коллеги обрушились с вопросами о той земле и тех людях, о которых я написал. Пришлось объяснять. И прорвало. Если некоторые мои прежние рассказы были навеяны, так сказать, размышлениями «о мире и людях», а иной раз и литературными образами (отмечу при этом, что непосредственный опыт и читательский опыт – в моем представлении – суть органические и неразрывные части писательского опыта), то на этот раз речь пошла о том, что я лично пережил – видел, слышал, участвовал. В широком водовороте образовалась воронка, которая потащила в себя именно «прусские истории», отбрасывая все другие темы. Примерно так же складывались и книги, так или иначе связанные с Жунглями, то есть собственно «Жунгли», «Синяя кровь», «Львы и Лилии»4.
Такие «воронки», в которые затягиваются все новые рассказы, порождают все новые циклы. Обратимся к упомянутой Буйдой книге «Львы и Лилии». Она содержит рассказы, входившие в прежние циклы («Бешеная собака любви», «Пан Паратов», «Врата Жунглей»), и рассказы, печатавшиеся прежде в журналах (рассказ «Собака Павлова», например, в журнале «Топос» в 2011 г.). Однако новая конфигурация рассказов, а также впервые включенные тексты («Счастливое тело», «Шаманиха», «Фаня») и в большой степени новое название образуют уже новое художественное высказывание.
«Львы» и «Лилии» – здесь имена собственные. Герои рассказа, давшего название сборнику, – Лиличка и Лев – бледные тени своих родителей, имевших, кажется, природу богов и героев. Ли-личка говорит о матери: «В детстве она мне казалась настоящей богиней… Афродитой, Герой, Артемидой, Венерой… неземная женщина… дивный, божественный мрамор… белый, холодный, прекрасный…» [Буйда 2013: 17]. То есть мы имеем дело с «младшими богами» или уже простыми земными смертными.
Пространственный топос Чудова в цикле «Львы и Лилии» тоже обнаруживает некоторую динамику. Героиня рассказа «Собака Павлова» собирается продать ресторан: «Город обречен, думала она. Со стороны Кандаурова и Жунглей все ближе подступают двадцатиэтажные башни» [там же: 36]. И далее мы видим все приметы города, которые встречали в цикле «Жунгли» и в романе «Синяя кровь»: «Аптекарь Сиверс продает свое заведение вместе с заспиртованными карликами, которые таращатся на прохожих из огромных бутылей со спиртом, – их привез из Германии лет двести назад предок аптекаря. В “Собаке Павлова” нет посетителей. В крематории, которому вот-вот исполнится сто лет, покойников сжигают всего раз в два-три месяца, остальных закапывают на новом Кандауровском кладбище <…>. Народ продает свои дома и переезжает в квартиры, превращаясь в население» [там же]. «Народ» и «население» здесь – оппозиция, знаменующая противостояние живого и формального, к чуду отношения не имеющего. Однако далее сюжет рассказа снова восстанавли- вает мифическую цельность чудовского мира: владелице ресторана Малине является Марс – в бытовом профанном пространстве бандит, но в мифологическом, конечно, бог. Сама она становится его любовницей – престарелой, как Минерва, а на смену ей приходят юные племянницы Малины – «Пиренна» воплотилась здесь в духе частого у Буйды близнечного мифа – в сестрах-инвалидах Рине и Рите. То есть боги и герои сакрального мифологического пространства – в масках профанных жителей волшебного Чудова – снова восстановлены в правах. Устойчивые образы и мотивы Буйды продолжают развиваться, питаясь энергией мифа, а также хронотопа, им самим создаваемого.
Таким образом, циклизация рассказов как дискретных единиц, содержащих свернутые мифы, образует новые способы художественной целостности. В романах к мифологическому кумулятивному сюжету добавляется линейный нарратив, мотивированный автобиографией или динамичными приемами массовой литературы (криминального романа например). Так было в романе «Синяя кровь», а потом и в романах «Вор, шпион и убийца», «Стален», повести «Яд и мед» и др. Преемственность прежних мотивов и топосов в новых циклах рассказов (в нашем случае это «Львы и Лилии») обнаруживает сквозной сюжет, объединяющий разные циклы и романы.
Опыт прозы Буйды позволяет говорить о рождении новых повествовательных форм через развитие процесса циклизации, который объединяет сборники рассказов, повести, романы. В целом и процесс циклизации, и сам этот термин, безусловно, историчны. В духе исторической поэтики следует сегодня изучать ее новые формы. Сегодня мы имеем дело не с большими циклами романов, как, например, в ХIХ в., но с не очень приметными, на первый взгляд, межжанровыми процессами циклизации, обнаруживающими, тем не менее, важные перемены в понимании текста современной культурой в целом. Исследователь циклизации Л. Е. Ляпина замечала, что «в эпике циклизация, прежде всего, совершила работу по трансформации и развитию самого повествования, способствовала выработке новых качеств и особенностей повествовательных» [Ляпина 1999: 146]. В случае Юрия Буйды новые качества эпического повествования мы можем вслед за Умберто Эко описать метафорой гипертекст или лабиринт. В типологии лабиринтной организации текстов Умберто Эко лабиринт-сеть – это тип организации, где «каждая точка <…> может быть связана с другими точками» [Эко 2016: 54]. Способ организации такого лабиринта «представляет собой непре- рывный процесс коррекции связей, структура этой сети всегда будет отличаться от той, что была минуту назад, и этот лабиринт каждый раз можно будет пройти по разным линиям. Сеть – это древо плюс бесконечные коридоры, соединяющие его узлы» [Эко 2007: 55]. Думается, к подобным способам текстовой организации, особенно с учетом их распространения в массовой культуре, стремящейся к созданию миров-вселенных, следует сегодня присмотреться внимательнее.
Перспективы исследования текстовой организации в современной литературе могут быть связаны с изучением индивидуальных текстовых стратегий в реализации общего принципа нелинейного повествования. Проза Буйды развивается нелинейно, но это особый способ нелинейности. Он отличен от того, что явлен, например, в романе М. Павича «Хазарский словарь». Если у Павича внутритекстовые переходы, совершаемые читателем, заданы самой структурой текста, то в случае Буйды ризоматический текст растет как естественное и постепенное развитие художественного мира и воображения писателя, в текстах разных жанров, по мере развития его художественной вселенной. Всякий новый текст Буйды предъявляет читателю узнаваемое пространство, где автор прокладывает новый путь, каждый раз переосмысляя связи устоявшихся топосов. Узнаваемость мифомира автора делает художественную систему узнаваемой и неповторимой.
В качестве перспективы исследования стоит задуматься и о том, что гипертекстуальность как способ производства и потребления культурных продуктов вписывается в общую систему коммуникации, складывающуюся в современном обществе. Философы и социологи (Ян ван Дейк [Van Dijk 2011], М. Кастельс [Castells 2005] и др.) называют это общество сетевым, полагая, что сеть является моделью социальных, производственных, научных связей, в ряд которых встает и Интернет. Художественное творчество по природе своей во многом автономно, однако художник, будучи включенным в современные коммуникации, является их частью и, вероятно, собственным видением формирует новые стратегии языка культуры.
Professor in the Department of Theory, History of Literature and Methods of Teaching Literature
Perm State Humanitarian-Pedagogical University 24, Sibirskaya st., Perm, 614990, Russian Federation
SPIN-code: 2169-4629
Postgraduate Student in the Department of Russian Literature
Perm State University
Submitted 05.04.2020
The article studies the poetics of the contemporary writer Yuriy Buyda in the context of the contemporary Russian short story. The analysis of historically specific forms of Buyda’s cyclization is considered as part of the general tasks of historical poetics in studying the evolution of literary forms. Structural and semiotic analysis of the writer’s works reveals that his prose forms peculiar cycles-clusters, ‘archipelagos’, where a cycle of stories appears to be related to novels. This connection is primarily determined by the setting, but also by recurring heroes and a specific – cumulative rather than cyclical – plot that traces its origin to myth. Through the example of one such cluster of texts – the cycles Zhungli , Gates of Zhungli (Vrata Zhungley) (2011), Lions and Lilies (L’vy i Lilii) (2013), the novel Blue Blood (Sinyaya krov’) and related works – the paper investigates the nature and logic of the depicted world, the mechanisms of its intra-textual connections, as well as the genesis due to both the nature of the author’s artistic thinking and the social, historical and literary, biographical context. Thus, we can observe a tendency of transcending the genre boundaries of a story or novel in favor of hypertext rhizomatic formations – based on mythologizing strategies. These features correlate with the general interest of contemporary Russian literature in collections of short stories, on the one hand, and the contemporary novel’s leaning to disintegration of a single narrative and fragmentation, on the other. It is possible that the tendencies toward hypertext strategies for text generation are determined by the general properties of modern thinking and social communication since today the social morphology of society is built in the form of networks.
Список литературы Поэтика циклизации в прозе Юрия Буйды
- Бавильский Д. «Лет через сто встретимся и посмотрим...» (интервью с Ю. Буйдой) // Частный корреспондент. 2010. 5 окт. URL: http://www.chaskor.ru/article/yurij_bujda_let_chere z_sto_vstretimsya_i_posmotrim_20250 (дата обращения: 05.03.2020).
- Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1990. 541, [2] с.
- Буйда Ю. Город Палачей // Знамя. 2003. № 2-3. URL: http://magazines.russ.ru/znamia/2003/2/bui-da.html (дата обращения: 15.01.2018).
- Буйда Ю. В. Жунгли. М.: Эксмо, 2010. 380, [3] с.
- Буйда Ю. Закон Жунглей // Октябрь. 2008. № 3. URL: http://magazines.russ.ru/october/2008/3/-bu3.html (дата обращения: 15.01.2020).
- Буйда Ю. В. Львы и Лилии. М.: Эксмо, 2013. 442, [1] с.
- Веселовский А. Н. Историческая поэтика. М.: Высш. шк., 1989. 648 с.
- Дегтяренко К. А. Языковые приемы комического в книге рассказов Ю. Буйды «Прусская невеста»: дис. ... канд. филол. наук. Калининград, 2009. 192 с.
- Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения / Жиль Делез, Феликс Гваттари: пер. с франц. и послесл. Я. И. Свирс-кого; науч. ред. В. Ю. Кузнецов. Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель, 2010. 895 с.
- Нестерова С. В. Циклическое текстопострое-ние в малой эпической прозе: дис. ... канд. филол. наук. Тверь, 2012. 190 с.
- Славникова О. Обитаемый остров // Новый мир. 1999. № 9. С. 212-216.
- Фёдоров В.В. Кумулятивный принцип сюже-тостроения в современной русской литературе // Вестник Челябинского государственного университета. 2011. № 3(218). Филология. Искусствоведение. Вып. 50. С. 138-142.
- Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра / подгот. текста и общ. ред. Н. В. Брагинской. М.: Лабиринт, 1997. 448 с.
- Эко У. От древа к лабиринту. Исторические исследования знака и интерпретации / пер. с итал. О. А. Поповой-Пле. М.: Академ. проект, 2016. 559 с.
- LaCapra Dominick. Writing History, Writing Trauma. Baltimore. L.: The John Hopkins University Press, 2001. 226 p.
- Van Dijk J. The network society. L., 2011. 292 с.
- Castells M. and Cardoso G. The Network Society: From Knowledge to Policy. Washington, DC: Johns Hopkins Center for Transatlantic Relations, 2005. 434 p.