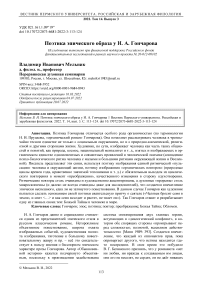Поэтика эпического образа у И. А. Гончарова
Автор: Мельник Владимир Иванович
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 3 т.14, 2022 года.
Бесплатный доступ
Поэтика Гончарова отличается особого рода органичностью (по терминологии Н. И. Пруцкова, «органический роман» Гончарова). Она позволяет рассматривать человека в чрезвычайно тесном единстве не только с социальным окружением, но и с природно-космической, религиозной и другими сторонами жизни. Художник, по сути, изображает человека как часть таких общностей и понятий, как природа, космос, национальный менталитет и т. д., взятых и изображаемых в органическом единстве одномоментных и совместных проявлений в человеческой психике (совпадение психо-биологического ритма человека с малыми и большими ритмами окружающей жизни и Вселенной). Писатель представляет эти связи, используя поэтику изображения единой ритмической «пульсации» человека и окружающей жизни, поэтику изображения «органических повторов» (природные циклы времен года, нравственно значимой топонимики и т. д.) с обязательным выходом из циклического повторения в момент «преображения», качественного изменения в сторону одухотворения. Ритмические повторы столь очевидны и художественно акцентированы, а духовные «прорывы» столь микроскопичны (и далеко не всегда очевидны даже для исследователей), что создается впечатление эпически неспешного, едва ли не затянутого повествования. В данном случае Гончаров как художник пытается сделать основанием своей поэтики евангельскую притчу о сеятеле («Человек бросит семя в землю, и спит ˂…> и как семя всходит и растет, не знает он»). Так Гончаров ставит и разрабатывает одну из главных своих тем: Божьей Тайны в человеке и мире.
Гончаров, эпос, поэтика, повтор, преображение, божья тайна, обломов
Короткий адрес: https://sciup.org/147238384
IDR: 147238384 | УДК: 821.161.1.09“19” | DOI: 10.17072/2073-6681-2022-3-113-124
Текст научной статьи Поэтика эпического образа у И. А. Гончарова
нравственных уроков ни им, ни читателю» (Белинский 1953–1959, т. 10: 326). Спокойную эпическую силу таланта писателя признал и Н. А. Добролюбов в статье о романе «Обломов»: «У него есть… свойство: спокойствие и полнота поэтического миросозерцания. Он ничем не увлекается исключительно или увлекается всем одинаково. Он не поражается одной стороною предмета, одним моментом события, а вертит предмет со всех сторон, выжидает совершения всех моментов явления и тогда уже приступает к их художественной переработке. Следствием этого является, конечно, в художнике более спокойное и беспристрастное отношение к изображаемым предметам, большая отчетливость в очертании даже мелочных подробностей и ровная доля внимания ко всем частностям рассказа. Вот отчего некоторым кажется роман Гончарова растянутым. Он, если хотите, действительно растянут» (Добролюбов 1961–1964, т. 4: 310–311).
До недавнего времени эпическая основа творчества писателя не становилась предметом специального исследования, хотя многие авторы отмечали эту особенность Гончарова. Так, Н. И. Пруцков в новаторской для своего времени книге «Мастерство Гончарова-романиста» отмечает: «Эпическое в художественной системе автора “Обломова” следует понимать широко. Это и спокойное, величавое течение повествования, и художественная полнота, органичность изображения действительности, и непроизвольность, естественность воспроизводимых событий, объективность взгляда на мир» [Пруцков 1962: 145]. Поясняя свои слова, исследователь говорит: «Гончаров эпическое сливает с лирическим и драматическим (любовь Обломова и Ольги Ильинской), а на последних страницах романа звучат и ноты трагические. Такие переходы от эпоса к лирике и драме у художника непроизвольны, как непроизвольны, свободны они и в самой жизни. Вместе с тем в этих переходах видна художественная целесообразность. Они характеризуют разные моменты в жизни Ильи Ильича (сон, пробуждение, погибель), различные стороны и возможности его характера. Следовательно, и в этих переходах эпоса в лирику и в драму видна та же органичность художественного воспроизведения жизни во всей ее истине и полноте» [там же].
Определенный вклад в развитие темы внесла работа Н. Л. Ермолаевой «Эпическое мышление И. А. Гончарова» [Ермолаева 2011], в которой понятие «эпическое» приобрело более широкие границы. Эти границы, в отношении творчества не только Гончарова, но и многих других писателей-классиков, пока еще не устоялись и не приобрели твердой методологической базы. Постоянное обогащение приемов исследования ху- дожественного текста обозначило закономерную тенденцию: рядом с традиционным жанровородовым пониманием эпического возникло понимание эпического как своеобразия художественного мышления автора. Все более очевидно, что такие определения, как «величавое течение повествования», «широта», «масштабность», «объективности», «неспешность» и пр., не вполне достаточны и нуждаются в аналитической расшифровке, в исследовании более тонких и многообразных смысловых и формальных внутритекстовых связей. При этом в подобном поиске важно не утратить главные конечные ориентиры и не уйти в такие частности, которые будут уже мало связаны собственно с эпическим.
В художественных произведениях Гончарова, долго и тщательно обдумывающего и отделывающего свои произведения, всё более обнаруживаются тончайшие связи, «переклички», «рифмовки» на самых различных уровнях поэтики. Этим тончайшим связям, возникающим во время работы над произведением, удивлялся и сам художник: «Всего страннее, необъяснимее кажется в этом процессе то, что иногда мелкие, аксессуарные явления и детали, представляющиеся в дальней перспективе общего плана отрывочно и отдельно, в лицах, сценах, по-видимому не вяжущихся друг с другом, потом как будто сами собою группируются около главного события и сливаются в общем строе жизни! Точно как будто действуют тут, еще неуловленные наблюдением, тонкие, невидимые нити или, пожалуй, магнетические токи, образующие морально-химическое соединение невещественных сил (какое происходит с вещественными силами)!» (Гончаров 1952– 1955, т. 8: 104). Эти «магнетические токи» пронизывают текст гончаровских романов в самых разных направлениях, создавая в том числе и эпический характер его произведений.
Выявить в произведениях Гончарова такие «токи» весьма непросто, поскольку он не декларирует открыто свое мировоззрение, а выражает его в пластических образах, их соотнесенности, – никогда или очень редко прибегая к акцентировке или прямому выражению своего мнения. В статье «Лучше поздно, чем никогда» художник сетовал, что часто в его книгах не видят залегающей в глубине связующей мысли: «Иные не находили или не хотели находить в моих образах и картинах ничего, кроме более или менее живо нарисованных портретов, пейзажей, может быть живых копий с нравов – и только. За что же тут хвалить? ˂…> Что за заслуга?» (там же: 67). Сам Гончаров постоянно настаивал, что для него главный писательский труд заключается именно в установлении связей между «портретами, пейзажами» и т. д., в «зодчестве», в том, чтобы множество едва ли не даром дающихся талантливому автору портретов, жанровых сценок и пр. суметь свести воедино, в огромное, действительно эпическое «здание произведения». Автор романной трилогии всегда ощущал необычайную широту открывающейся ему жизни: «Я писал медленно, потому что у меня никогда не являлось в фантазии одно лицо, одно действие, а вдруг открывался перед глазами, точно с горы, целый край, с городами, селами, лесами и с толпой лиц, словом, большая область какой-то полной, цельной жизни. Тяжело и медленно было спускаться с этой горы, входить в частности, смотреть отдельно все явления и связывать их между собой (курсив мой. – В. М.)!» (И. А. Гончаров 2000: 198). Те же мысли, хотя и в несколько ином контексте, выражены в письме к И. И. Льховскому от 1857 г.: «Меня перестала пугать мысль, что я слишком прост в речи, что не умею говорить по-тургеневски, когда вся картина обломовской жизни начала заканчиваться: я видел, что дело не в стиле у меня, а в полноте и окончательности целого здания. Мне явился как будто целый большой город, и житель поставлен так, что обозревает его весь и смотрит, где начало, середина, отвечают ли предметы целому… а не вникает, камень или кирпич служили материалом, гладки ли кровли, фигурны ли окна…» (Гончаров 1952–1955, т. 8: 299). В письме к С. А. Никитенко от 23 июня 1860 г. он признался: «Не трудно рисовать… начни чертить, и выходит рисунок, сцена, фигура, это и весело; но проводить смысл, выяснять цель создания, необходимость, по которой должно держаться все создание, это и скучно, и невыразимо трудно» (там же: 341).
В произведениях Гончарова дается широкий охват событий, в которых участвует множество персонажей. Автор постоянно испытывал сложность с архитектоникой своих романов: «Всего более затрудняла меня архитектоника, сведение всей массы лиц и сцен в стройное целое, и вот, между прочим, причины медленности! ˂…> “Что другому стало бы на десять повестей, – заметил однажды Белинский про меня, еще по поводу «Обыкновенной истории», – у него укладывается в одну рамку” ˂…> Одной архитектоники, то есть постройки здания, довольно, чтобы поглотить всю умственную деятельность автора: соображать, обдумывать участие лиц в главной задаче, отношение их друг к другу, постановку и ход событий, роль лиц, с неусыпным контролем и критикою относительно верности или неверности, недостатков, излишества и т. д.» (там же: 80, 112).
Разумеется, дело не в том, что Гончаров испытывал трудности с выстраиванием «материала», но в его смысловой многозначности, в том, что его портреты, жанровые сценки и пр. почти всегда «больше самих себя» в рамках того «здания», которое строит писатель. Приемы архитектоники Гончарова, его высокая и всеобъемлющая точка обзора в произведении придают «кирпичикам» этого здания глубокий, очень часто символический смысл. Эпос Гончарова создается не только за счет широты, но и необычайно художественной концентрации смысла всего созидаемого целого и каждой отдельной детали, их художественной симфонии. В различных работах И. В. Пыркова прослеживается необычайно высокая степень соотнесенности единиц текста у Гончарова: от звукового ряда до архитектоники [Пырков 1998; Пырков 2017]. В настоящей работе мы попытаемся показать некоторые «механизмы» создания эпического в произведениях Гончарова, прежде всего в романе «Обломов».
Сейчас мы не будем говорить о таких достаточно хорошо изученных свойствах образов художественных героев в романах Гончарова, как широта типизации («обломовщина») или символизация («Бабушка-Россия» в «Обрыве»). Помимо этой широты типизации или даже символизации чрезвычайно интересно взглянуть на то, что создает непосредственную эпичность образа.
Например, образ Ильи Обломова, несомненно, эпичен, хотя и не в том же смысле, в каком эпичен образ Ильи Муромца в русской былине. Если Илья Муромец – герой классического эпоса, не только связанный с исторической судьбой нации, но и решающий эту судьбу, то Илья Обломов – принципиально «не-герой», или герой эпоса романного, герой с расщепленным частным сознанием. В образе Ильи Муромца сливаются лучшие идеализированные черты, созидающие, говоря словами Гончарова, «скульптуру». Образ же Ильи Ильича вбирает в себя лишь несколько самых характерных отрицательных и положительных свойств славянской натуры, как она проявляется не в эпическом «герое», а в обычном человеке: прежде всего «чистое сердце» и боязнь ответственности. Эти (и иные) качества настолько тесно переплетены в Обломове, что однозначная оценка его личности стала возможна разве что под пером революционного демократа Добролюбова. М. М. Пришвин записал в своем дневнике: «…с точки зрения планирования жизни обломовщина есть невозможно дурное, а с точки зрения русского быта Обломов есть дивное существо» (Пришвин 1956–1957, т. 6: 410). Автор «Обломова» подчеркивал, что это переплетение хорошего и дурного в характере главного героя носило интуитивный характер: «Конечно, я инстинктивно чувствовал, что в эту фигуру вбираются мало-помалу элементарные свойства русского человека – и пока этого ин- стинкта довольно было, чтобы образ был верен характеру. Если б мне тогда сказали все, что Добролюбов и другие и, наконец, я сам потом нашли в нем – я бы поверил, а поверив, стал бы умышленно усиливать ту или другую черту – и, конечно, испортил бы. Вышла бы тенденциозная фигура! Хорошо, что я не ведал, что творю!» (Гончаров 1952–1955, т. 8: 71).
Гончаров в Обломове показал не просто «часто встречающийся» типовой образ, но и по-своему исключительный, отражающий национально-эпическое содержание «сверхтип». Василий Розанов подчеркнул общезначимую русскость, общенациональную представительность Обломова: «Нельзя о “русском человеке” упомянуть, не припомнив Обломова» (Розанов 1916: 5). В романе Л. Н. Толстого «Война и мир» такое национальное эпическое содержание отражает вся совокупность образов и событий. Вершиной здесь является изображение Бородинской битвы. В романе Гончарова это содержание связано только с образом Обломова. Писатель показал такую исключительную черту Обломова, которая не встречается ни у одного героя русской литературы: его укорененность в русском быте, русской истории, в общем – в русской жизни, в русской почве. В романе «Обрыв» Марфенька говорит: «…я здешняя, я вся вот из этого песочку, из этой травки!». Ее невозможно представить в ином антураже: «…не хочу никуда. Что бы я одна делала там в Петербурге, заграницей? Я бы умерла с тоски...». Марфенька сознает себя растением, которое растет только на этой почве: если его вырвать, оно «умрет с тоски». Таким «растением» является и Обломов. Это хорошо прочувствовал И. Анненский: «Обломов – тот жил века, он рос, он культивировался незаметными приращениями куста или дерева» (Анненский 1979: 230). Он врос в русскую почву, он всюду ощущает себя дома, в родной Обломовке. Его нельзя «двигать», «передвигать» (какой протест вызывает самая мысль о переезде на другую квартиру: «…ты, видно, в гроб меня хочешь вогнать своим переездом!»), тем более пересаживать на другую почву. Эта привязанность к родной почве – основное условие его жизни, которое не поняла и не могла принять Ольга. Хотя в начале романа мы встречаемся с Обломовым в Гороховой улице в каменном столичном Петербурге, улица носит такое название, что весьма напоминает об Обломовке, где «из преступлений одно, именно кража гороху, моркови и репы по огородам, было в большом ходу». В Петербурге Обломов находит вторую Обломовку – Выборгскую сторону. При этом происходит узнавание, новое «приращение» героя, новое заползание в родную раковину. При этом автор гениально пе- редает процессы подсознания героя: «Обломов тихо погрузился в молчание и задумчивость. Эта задумчивость была не сон и не бдение… Он впал в неопределенное, загадочное состояние, род галлюцинации.
На человека иногда нисходят редкие и краткие задумчивые мгновения, когда ему кажется, что он переживает в другой раз когда-то и где-то прожитый момент. Во сне ли он видел происходящее перед ним явление, жил ли когда-нибудь прежде, да забыл, но он видит: те же лица сидят около него, какие сидели тогда, те же слова были произнесены уже однажды…
То же было с Обломовым теперь. Его осеняет какая-то бывшая уже где-то тишина, качается знакомый маятник, слышится треск откушенной нитки; повторяются знакомые слова и шепот: “Вот никак не могу попасть ниткой в иглу: на-ка ты, Маша, у тебя глаза повострее!”
Он лениво, машинально, будто в забытьи, глядит в лицо хозяйки, и из глубины его воспоминаний возникает знакомый, где-то виденный им образ. Он добирался, когда и где слышал он это...
И видится ему большая темная, освещенная сальной свечкой гостиная в родительском доме, сидящая за круглым столом покойная мать и ее гостьи: они шьют молча; отец ходит молча. Настоящее и прошлое слились и перемешались.
Грезится ему, что он достиг той обетованной земли, где текут реки меду и молока, где едят незаработанный хлеб, ходят в золоте и серебре...
Слышит он рассказы снов, примет, звон тарелок и стук ножей, жмется к няне, прислушивается к ее старческому, дребезжащему голосу: “Милитриса Кирбитьевна!” – говорит она, указывая ему на образ хозяйки» (Гончаров 1997– 2017, т. 4: 479–480). Д. С. Лихачев отметил: «Анализ ощущений предвосхищает анализ Пруста и Джойса. Перед нами “поток сознания”» (Лихачев 1971: 345).
Здесь узнавание срослось с исполнением затаенных жизненных желаний: «достиг обетованной земли». Подсознательные силы и процессы настолько сильны, что даже сильная любовная встряска оказалась неспособна преобразить героя. Он готов внести новизну в свою жизнь, но лишь при условии, что он останется на почве родной Обломовки:
«– Ты мне рисуешь одно и то же, что бывало у дедов и отцов.
– Нет, не то, – отозвался Обломов, почти обидевшись, – где же то? Разве у меня жена сидела бы за вареньями да за грибами? Разве считала бы тальки да разбирала деревенское полотно? Разве била бы девок по щекам? Ты слышишь: ноты, книги, рояль, изящная мебель?» (Гончаров 1997– 2017, т. 4: 178–179).
Обломов не будет заводить в Петербурге изящную мебель и рояль, наоборот, всё это он повезет в Обломовку, на родную почву, вне которой для него нет жизни. Ольга не приняла этой обновленной Обломовки, но, по иронии судьбы, «ноты, книги, рояль, изящная мебель» окружают ее в Крымском имении, где она со Штольцем ощущает какую-то пустоту, незавершенность и неудовлетворенность. Может быть, отчасти и потому, что активность передвижений Штольца, по сути, мало чем отличается от неподвижности Обломова. Но при этом у Ильи Ильича есть огромное преимущество: он не в гостях, он представитель и хозяин Обломовки, он «гений места». А вот духовная топонимика Крымского имения дает ощущение экзотики, прекрасной «гостиницы», временного пребывания, какой-то искусственной «капсулы», в которой существуют герои, отделенные от русских коренных реалий.
Обломов хотя и умирает, но свет его сердца продолжает свой путь во вселенной: мы не ощущаем присутствия в романе детей Ольги и Штольца, но зато видим Андрюшу Обломова, которого растят Штольцы. Видим преображенную личность Агафьи Пшеницыной: «Она поняла, что проиграла и просияла ее жизнь, что Бог вложил в ее жизнь душу и вынул опять; что засветилось в ней солнце и померкло навсегда... Навсегда, правда; но зато навсегда осмыслилась и жизнь ее: теперь уж она знала, зачем она жила и что жила не напрасно.
Она так полно и много любила: любила Обломова – как любовника, как мужа и как барина; только рассказать никогда она этого, как прежде, не могла никому. Да никто и не понял бы ее вокруг» (Гончаров 1997–2017, т. 4: 488–489).
Свет Обломова не только изменил жизнь Агафьи Матвеевны, но будет изменять ее и дальше – все больше и больше – до конца жизни: «С летами она понимала свое прошедшее всё больше и яснее и таила всё глубже, становилась всё молчаливее и сосредоточеннее. На всю жизнь ее разлились лучи, тихий свет от пролетевших, как одно мгновение, семи лет…» (там же: 489).
Корни неподвижного дерева под названием «Обломов» уходят в русскую почву очень глубоко. И не только в пространстве, но и во времени. Поскольку герой врос в почву, слился с самим духом народа и стал его представителем в сознании писателя, история Обломовки и обломовцев, в которой, через античные аллюзии, звучит метафора «с незапамятных времен», воспринимается как личная предыстория героя. «Сон Обломова» с его фольклорными, античными и средневековыми мотивами композиционно является изображением детства героя. Такой уходящей в «незапамятные времена» биографии героя не знает более русская литература. Многовековая история Обломовки является не историей России, но историей русского менталитета, сохранившего свои свойства во времени. Гончаров думал об этом, когда писал о драматургии Н. А. Островского, с которым чувствовал тесное свое родство: «…мы пережили и тевтонов, и татар, и уделы, и ляхов, и двунадесять язык – и сквозь все это Русь пронесла и вынесла доднесь свои старые, родовые черты, крепкие нравы, свой коренной быт ˂…> Тысячу лет прожила старая Россия – и Островский воздвигнул ей тысячелетний памятник» (Гончаров 1952– 1955, т. 8: 180). То же самое сделал Гончаров в эпическом образе Обломова.
Тысячелетний пласт русской истории изображен как «пред-биография» героя для того, чтобы показать, что Обломов – человек XIX в. – фигура пограничная. Он – герой эпохи «младенчества», «сна», а не «пробуждения». Его беда в том, что он, как богатырь Святогор при встрече с Ильей Муромцем в известной былине, не может шагнуть в новое время и сам укладывается в гроб, «примеривая» его. Не отсюда ли в романе фраза: «С летами волнения и раскаяние являлись реже, и он тихо и постепенно укладывался в простой и широкий гроб остального своего существования» (Гончаров 1997–2017, т. 4: 474).
В Россию эпохи «пробуждения» войдет сын Обломова – Андрей, воспитанный уже в несколько иных традициях.
В эпическом хронотопе Обломова, несомненно, присутствует и автобиографический момент, поскольку это самый автобиографичный образ, созданный Гончаровым. Слиянность автобиографии и тысячелетней русской ментальности хорошо обозначил И. Анненский, сказав, что в характере Обломова ощущается «душа Гончарова в ее личных, национальных и мировых элементах» (Анненский 1979: 265).
Вторая особенность поэтики образа Обломова отчасти связана с первой. В нем подчеркнута, как мы уже сказали, «растительность» – не в смысле какой-то ограниченности, но в смысле органичности. Когда-то Н. И. Пруцков, говоря об «Обломове», ввел понятие «органического романа». Главный орган мировосприятия у Обломова – чистое, целомудренное сердце: «…более всего, в основании натуры Обломова лежало чистое, светлое и доброе начало, исполненное глубокой симпатии ко всему, что хорошо и что только отверзалось и откликалось на зов этого простого, нехитрого, вечно доверчивого сердца». Герой ощущает мир прежде всего через сердце, через его биение и пульсирование. Юношеское увлечение поэзией у Обломова – это «эпоха сильного биения сердца, пульса». Обломов настолько органичен, вписан, словно растение, в окружающую природу, что в этом пульсировании своего сердца слышит и пульс всей природы. Так он понимает и любовь, когда мечтает: «Потом… обняв жену за талью, углубиться с ней в бесконечную, темную аллею; идти тихо, задумчиво, молча или думать вслух, мечтать, считать минуты счастья, как биение пульса; слушать, как сердце бьется и замирает; искать в природе сочувствия…» (Гончаров 1997–2017, т. 4: 177).
В своих мечтах герой сливается со всем миром: с любимой женщиной, со временем («считать минуты счастья»), с природой. Образнозвуковое пульсирование мира Обломов ощущает всегда. Потерпев неудачу в борьбе с собой и в любви, он как бы переходит на другой, более органичный для себя, уровень бытия. И здесь он тоже слышит пульс жизни, только образы и звуки уже иные, не те, что были в его мечтах: «Подолгу слушал он треск кофейной мельницы, скаканье на цепи и лай собаки, чищенье сапог Захаром и мерный стук маятника» (там же: 375).
Попутно сделаем замечание о жизни Обломова после разрыва с Ольгой. Принято считать, что жизнь Ильи Ильича с Агафьей Пшеницыной – это нравственный провал опустившегося Обломова. Однако следует принять во внимание, что лучшие качества Обломова остались при нем, только они обращены теперь к людям, которым эти его качества нужны и являются для них «светом», как для Агафьи Матвеевны, пережившей духовное преображение. Ольга Ильинская признает за ним «кротость, нежность, честность, чистую веру в добро»: «…видна ваша нежность, ваша осторожность, забота обо мне, боязнь за мое счастье, ваша чистая совесть» (там же: 263).
Это все, что связано с сердцем Обломова. Но Ольге этого мало: «Можешь ли научить меня?». Агафья Матвеевна живет, как и Обломов, сердцем.
Пережив разрыв с Ольгой, неудачную попытку руководствоваться не только сердцем, но и рассудком, т. е. стать менее органичным, принять пересадку на другую почву, Обломов не становится другим, он не «опускается» нравственно, он всего лишь остается самим собой, человеком чистого и глубокого, доверчивого к добру сердца. Еще в 1840-е гг., в «Письмах столичного друга к провинциальному жениху», Гончаров писал о судьбах нравственно лучших людей: «…и в мраке бедности и неизвестности сохранят ˂…> они и туда унесут с собою… блеск нравственного уменья жить. Они, как драгоценные алмазы, могут затеряться в пыли, не утратив своей ценности...» (Гончаров 1997–2017, т. 1: 480).
Обломов трогает нас не новыми внешними достижениями, а умением остаться самим собой и в любых обстоятельствах сохранить сокровище своей души. Об этом говорил в романе Штольц: «…в нем дороже всякого ума… честное, верное сердце! Это его природное золото; он невредимо пронес его сквозь жизнь. Он падал от толчков, охлаждался, заснул наконец убитый, разочарованный, потеряв силу жить, но не потерял честности и верности. Ни одной фальшивой ноты не издало его сердце, не пристало к нему грязи. Не обольстит его никакая нарядная ложь, и ничто не совлечет на фальшивый путь; пусть волнуется около него целый океан дряни, зла, пусть весь мир отравится ядом и пойдет навыворот — никогда Обломов не поклонится идолу лжи, в душе его всегда будет чисто, светло, честно... Это хрустальная, прозрачная душа; таких людей мало; они редки; это перлы в толпе!» (Гончаров 1997– 2017, т. 4: 467).
Вернемся к вопросу о том, что эпическая по свойствам органичность образа Обломова строится Гончаровым на изображении его «растительности», «природности», связи с почвой. Его жизненный цикл одновременно является и природным циклом смены времен года. В романе, который можно воспринять и как «житие» Обломова, показаны все четыре времени года, крупным планом – и снова в ритме природного цикла – показан роман с Ольгой Ильинской: он начинается весной и оканчивается зимой: «Снег валил хлопьями и густо устилал землю.
– Снег, снег, снег! – твердил он бессмысленно, глядя на снег, густым слоем покрывший забор, плетень и гряды на огороде. – Всё засыпал! – шепнул потом отчаянно, лег в постель и заснул свинцовым, безотрадным сном…» (там же: 373).
В «Сне Обломова» тоже четыре времени года: «Правильно и невозмутимо совершается там годовой круг. По указанию календаря наступит в марте весна, побегут грязные ручьи с холмов, оттает земля и задымится теплым паром ˂…> всё идет обычным, предписанным природой общим порядком…» (там же: 100).
Обломов после разрыва с Ольгой переживает духовный срыв, болезнь, горячку. Время болезни и выздоровления снова проходит свой природный цикл, причем психические и физиологические процессы Гончаров передает природной метафорой, характеризующей незаметные «растительные» изменения в природе: «Но гора осыпалась понемногу, море отступало от берега или приливало к нему, и Обломов мало-помалу входил в прежнюю нормальную свою жизнь. Осень, лето и зима прошли вяло, скучно. Но Обломов ждал опять весны…» (там же: 375). Вообще жизнь в доме Пшеницыной возвращается к природному циклу жизни в Обломовке: «И на Выборгской стороне, в доме вдовы Пшеницыной… дни и ночи текут мирно, не внося буйных и внезапных перемен в однообразную жизнь… четыре времени года повторили свои отправления, как в прошедшем году». Не только жизнь Обломова, но и жизнь других персонажей из этого дома дана в соотнесенности с природными ритмами: «Постепенная осадка ила, выступление дна морского и осыпка горы совершались над всем и, между прочим, над Анисьей…» (Гончаров 1997– 2017, т. 4: 377). Духовное и физическое выздоровление Обломова могло совершиться только в этой органично-природной среде, среди людей, живущих, как и он, сердцем и в цикличном календаре природы.
Хотелось бы затронуть еще одну, чрезвычайно важную, собственно главную особенность поэтики Гончарова, обнаруживающую глубинную основу его эпического миросозерцания и авторского самовыражения. Это вопрос о ритмической повторяемости как основе всех жизненных процессов, что особенно важно для создания гармонического, по сути музыкального, представления о бесконечности и органичности жизни, природы и художественного образа. Шеллинг писал: «…единообразие… связывается с много-различием, а потому единство – со множеством. Например, чувство, которое вызывается музыкальным произведением в целом, вполне однородно, единообразно; так, оно радостно или грустно, однако же это чувство, которое само по себе было бы сплошь однородным, благодаря ритмическим членениям приобретает разнообразие и разнородность. Ритм принадлежит к удивительнейшим тайнам природы и искусства, и, как кажется, никакое другое изобретение не было более непосредственно внушено человеку самой природой. Древние неизменно приписывали ритму величайшую эстетическую силу; и вряд ли кто-нибудь будет отрицать, что все заслуживающее в области музыки или танца (и т. д.) название истинно прекрасного, собственно говоря, происходит из ритма» (Шеллинг 1996: 196). Шеллинг прибавляет: «Ритм есть музыка в музыке» (там же: 198).
Ритмические коды повторяемости в гончаровской прозе организованы многообразно, и эта многообразность еще требует своего глубокого изучения. В настоящей работе мы остановимся на простейшем уровне повторяемости – в рамках одного художественного текста. И. В. Пырков справедливо заключает: «В творчестве И. А. Гончарова ритм проявляется на всех уровнях-системах его текста – от фонического до архитектонического» [Пырков 2018: 95]. В 1891 г., уже перед кончиной, Гончаров пишет три небольшие новеллы, в которых прием его ритмики предельно обнажен. Новеллы обнаруживают главное в поэтике ритма Гончарова: то, что писатель через повторяемость текстовых и смысловых единиц не только придает этим единицам обобщающий смысл (вплоть до символического), но и раскрывает самый «механизм» неуловимого движения жизни. Повторяющиеся образные, сюжетные и иные единицы текста призваны у Гончарова подчеркнуть отнюдь не «циклическое время», свойственное патриархальному сознанию. Именно такую, по сути, трактовку художественного времени в «Обломове» дает Д. С. Лихачев, который называет это «нравоописательным временем»: «Типизация связывалась с художественным обнаружением определенного ритма жизни, и при этом по преимуществу медленного, возвращающегося к тому же самому, обычного, повторяющегося дневного и годового круговорота со спокойным течением событий, отсутствием неожиданностей… Тема ленивого человека, медленно живущего много спящего, много обобщающего (этим дается возможность автору переложить часть обобщений на своего героя), пропускающего впечатления от действительности через свободно текущий поток своего сознания, была удивительно точно сопряжена с новым, реалистическим отношением к времени» (Лихачев 1971: 340–341). По сути, исследователь говорит об очерковом, действительно «нравоописательном» времени. Однако повторяемость в текстах Гончарова иная, ибо Гончаров – представитель «большого» исторического времени, которое мыслится им не только в рамках преходящего земного, но и вечного. В этом плане важно увидеть в произведениях романиста не только ритмические повторы, но и «прорывы» из них. Хронотоп Обломова, например, предполагает не только бесконечное повторение в его жизни ценностей родной Обломовки, даже не только катастрофу в отношениях с Ольгой при попытке выйти из циклического времени в историческое (линейное), но и действительный – пусть микроскопический – выход. Обломов, как мы уже говорили, не «опустился», остался человеком с «хрустальной душой». Он не смог повести за собой Ольгу, у него нет на это сил, которые нужны Ольге: воли и твердого рассудка (у него есть «сердечный ум»). Однако он повел за собой Агафью Пшеницыну, она пережила полное духовное преображение («навсегда осмыслилась жизнь ее: теперь уж она знала, зачем она жила и что жила не напрасно»). В самом деле, Обломов не «опускается», но идет вперед, хотя не на той высоте, на которой он мечтал, и это незаметно для других. Считается, что герой безволен и что он не может взять на себя ответственность. Это не вполне справедливо: на ином уровне своего существования Обломов проявляет высокую степень ответственности. Когда Штольц ужасается жизни Обломова на Выборгской стороне и спрашивает его «кто эта женщина», Обломов отвечает: «Жена!... А этот ребенок – мой сын!» (Гончаров 1997–2017, т. 4: 483).
Таким образом, время Обломова организовано не в виде круга, но в виде спирали, хотя и в искаженном, отклоненном от нормы виде. Спиралевидное движение (очевидная повторяемость и почти незаметный, как правило, прорыв) лежит, в представлении писателя, в основе духовно-психической жизни человека, живущего вне сильных потрясений. По спирали движется и вся романная трилогия Гончарова – от Адуева к Райскому. Обломов в чем-то может напоминать Адуева, но духовно он выше, ибо не предает с легкостью романтических идеалов своей юности. О Райском в статье «Лучше поздно, чем никогда» романист сказал: «Что такое Райский ? Да все Обломов , то есть прямой, ближайший его сын». Но тут же прибавил, что хотя Райский и «потягивается, озираясь вокруг и оглядываясь на свою обломовскую колыбель», но он уже «герой следующей, то есть переходной , эпохи. Это проснувшийся Обломов », «герой эпохи Пробуждения » (Гончаров 1952–1955, т. 8: 82).
Гончаров питает интерес и к самым микроскопическим подвижкам в духовном росте своих героев. В свое время Д. С. Мережковский писал: «Каждый из характеров, созданных Гончаровым, – громадное идеальное обобщение человеческой природы. Обобщение, скрытая идея поднимают на недостижимую высоту микроскопические подробности быта, делают их художественными, прекрасными и ценными ˂...> Он разлагает художественным анализом ткань жизни до её первоначальной клетки, из которой вышло всё, весь организм общества. Вместе с тем он обладает могучей способностью творческого синтеза: воображение его создаёт отдельные миры эпопей и потом соединяет их в стройные системы. Он показывает, что одним и тем же вечным законам добра и зла, любви и ненависти, которые производят в истории перевороты, правят солнцами, подчинены и мельчайшие, для толпы незримые, атомы жизни» (Мережковский 1890). Когда-то В. Г. Одиноков заметил, что с точки зрения «большой жизни» борьба, которую ведет Обломов, представляется «мелким шумом природы», но с позиции самого героя «она представлялась проблемой шекспировского масштаба. Обломов совершал подвиг. Он выламывался из огромного слоя привычек, традиций, представлений своей среды» [Одиноков 1976: 136].
Изображая незаметность и постепенность важнейших духовных изменений жизни, Гончаров следует за Евангелием: во многих притчах
Иисус Христос говорит о том, как неприметным образом приходит «Царство Божие». Иисус, описывая приход грядущего Царствия Божия, постоянно приводит примеры из области природы, ее неприметного роста и развития. Наиболее характерный пример содержится в притче о сеятеле: «И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем; и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе» (Мар. 4: 26–28). Не только в Новом, но и в Ветхом Завете сказано, что все великое совершается в тишине: «…выйди и стань на горе пред лицем Господним, и вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь; после землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня веяние тихого ветра1, и там Господь» (3 Цар. 19:11–12).
Настаивая на незаметности происходящих «подвижек жизни», Гончаров, в сущности, задает одну из своих главных тем, блестяще представленных, например, в новелле «Уха», – тему «Божией тайны», о чем мы еще скажем. Разлагая своим художественным анализом самую «ткань жизни», он постоянно сталкивает в тексте понятия покоя, повторения, цикла – и, с другой стороны, все-таки прорыва, пусть и микроскопического. Он как будто вглядывается в самый механизм движения жизни. Хотя на Выборгской стороне, в доме вдовы Пшеницыной, время «течет мирно», без «внезапных перемен», хотя «четыре времени года повторили свои отправления, как в прошедшем году», но «жизнь все-таки не останавливалась, всё менялась в своих явлениях, но менялась с такою медленною постепенностию, с какою происходят геологические видоизменения нашей планеты: там потихоньку осыпается гора, здесь целые века море наносит ил или отступает от берега и образует приращение почвы» (Гончаров 1997–2017, т. 4: 374). В новелле «Май месяц в Петербурге» тоже акцентирован момент циклических повторов, причем Гончаров проявляет интерес к неизменной основе жизни. Композиционно новелла состоит из нескольких частей. В первой экспозиционной части, описывая жизнь петербургского дома, автор показывает вечно повторяющуюся жизнь голубей, воробьев, кошек: «Утром дом только что просыпался. Раньше всех проснулись, конечно, голуби, воробьи и кошки. Кошки вылезали из труб чердаков, гоняясь за голубями. Но, кажется, сами сознавали бесполезность своих покушений; они только что присядут, чтоб броситься на добычу, голу- бям и воробьям стоило своротить в сторону или перелететь на другую крышу – и кошки притворялись, что это их будто вовсе не занимает и что они делают так только, чтоб не терять своих приемов гоняться за пернатыми. Но горе тем, кто оплошает! Все прочее еще спало…» (Гончаров 1952–1955, т. 7: 410). Вторая часть описывает состояние дома и двора через три года: кажется, что явления циклично повторяются и ничего не меняется: «Прошел один, другой и третий май-месяцы... Их сменяли летние жары, потом осенние непогоды, зимние морозы и так далее. Дом стоит все на том же месте. Надо начать сначала: с голубей, воробьев и кошек. Первые выводили новые поколения, кошки тоже обзаводились котятами. И те, и другие вели между собою войну: кошки учили котят гоняться за голубями и воробьями, а воробьи и голуби, в свою очередь, так же, как и прежде, перелетали на другую крышу» (там же: 423–424) и т. д. Повторяемость явлений специально подчеркнута автором, но тем значимее мотив «подвижек жизни». В. А. Недзвецкий как раз видел в этом произведении только повторяемость и неизменность. Вторую композиционную часть новеллы исследователь называет «концовкой-эпилогом» [Недзвецкий: 441]. Но это не так. Эпилог выделен Гончаровым в третью часть, и здесь происходит переворот. Главным носителем этих изменений является управляющий домом, человек с нарочито «безликим», типичным именем – Иван Иванович.
Во второй части начинает приоткрываться этот эпический авторский замысел, который становится вполне ясен лишь в финале произведения. Третья, финальная, часть произведения не только содержит имена известных ученых (Ньютон, Гершель, Фламмарион), но и выходит на уровень философских размышлений о жизни. Здесь три основных персонажа: управляющий домом Иван Иванович, его приятель, прозванный им «философом», и сестра последнего, молодая вдова, на которой Иван Иванович «не прочь и жениться».
Эти персонажи уже не очерковые, стержневым словом в этой части является слово «философ», ибо автор выражает здесь свою философию жизни, а герои – «охотники рассуждать об отвлеченных предметах». Философ-приятель лет «десять все составляет какой-то лексикон восточных языков, да кроме того занимается астрономией, перечел все авторитеты от Ньютона, Гершелей2, до какого-нибудь Фламмариона3, и все хочет добиться, есть ли жители на Венере, Марсе и других планетах, какие они, что делают и прочее?». В заключительной части новеллы органично и ненавязчиво проступает авторский взгляд на жизнь. Это взгляд эпический: вдумчивый и созерцательный. Настроение автора- повествователя выражено в следующих словах: «Жизнь все жизнь, понемногу движется, куда-то идет все вперед и вперед, как все на свете, и на небе, и на земле... Только, кажется, один Иван Иванович как будто не изменился. Он по-прежнему управляет домом, живет и лето и зиму постоянно в городе, со всеми говорит шутя и все улыбается. Да, он, как будто, не изменился... Нет, видно, изменился и он, и его жизнь идет куда-то вперед, как все на белом свете...» (Гончаров 1952–1955, т. 7: 426).
Акцентировка неизменяемости жизни, ее вечных повторов в новелле идет на уровне чисто природных образов: «Надо начать сначала: с голубей, воробьев и кошек. Первые выводили новые поколения, кошки тоже обзаводились котятами» (там же: 423–424). В новелле подчеркивается отсутствие настоящих, не повторяющихся событий, имеющих характер новизны. Кажется, что пожилой автор чуть ли не «впадает в детство», обращаясь в описании к давно забытым современниками приемам «натуральной школы». Предмет описания – тоже «стариковский»: маленький, замкнутый круг жизни, стоящий перед глазами. Однако заключительная фраза произведения («Нет, видно, изменился и он, и его жизнь идет куда-то вперед, как все на белом свете...»), хотя и не решает вопрос о смысле жизни, но ставит этот вопрос. Маленькая суета, мелкий сор жизни (а способ повествования уравнивает суету жизни маленьких чиновников, кошек и голубей, дворников и аристократов) рассмотрены с космической высоты вопроса о том, есть ли жизнь на Венере. Куда идет жизнь? Автор не отвечает на этот вопрос, предпочитая позицию созерцателя божественной истины. Он лишь подчеркивает, что в этом мире ничего не проходит бесследно, что микроскопические изменения, пробивающиеся сквозь видимую повторяемость событий, имеют высокий, «космический» смысл. Так очерковая «картинка» неожиданно намечает эпическую связь человека с мирозданием.
Новелла «Уха» (1891) тоже построена на столкновении повторов и неожиданных изменений жизни. По дороге на рыбалку, спуская экипаж с женами трех приятелей с волжского обрыва и сидя на облучке, пономарь Ерема истово крестится на церкви, которые попадаются на пути. При этом женщины с хохотом колют его зонтиками. Потом мужчины рыбачат, а Ерема спит в шалаше. Однако его навещают женщины, каждая пребывает в шалаше около часу. На обратном пути Ерема всё так же крестится на церкви, но женщины уже не бьют его по спине зонтиками, хотя мужчины их к этому побуждают: «Он тоже человек, как все люди, а не то, что какой-нибудь!» (Гончаров 1952, т. 7: 215). Известно, что исследователи толковали эту новеллу как симбирский анекдот о лихом пономаре и трех мужьях-рогоносцах. Мы уже писали о том, что новеллу, скорее, следует трактовать как произведение, в котором пономарь выступает в роли неученого апостола-рыбака, проповедника, «ловца человеков», что совершенно меняет смысл произведения и его названия [Мельник 2017]. Несомненно, с женщинами произошли духовные изменения. Притом не микроскопические, а вполне в духе жанра новеллы – переворачивающие всё «до наоборот». Здесь Гончаров не показывает постепенность изменений человека, наоборот, изображает то, что можно назвать «душевным переворотом». Однако тайна изменения жизни, тайна преображения, всё-таки сохранена. Более того, на первый план выдвигается не самый механизм постепенного изменения «ткани жизни», а «Божья тайна», заложенная в человеке. Новелла носит в этом смысле даже мистификаторский характер. Обыденное сознание считает возможным понять и узнать тайну человека: разве трудно понять, что происходило в шалаше между молодым человеком и тремя женщинами, которые приходили по одной и оставались там по часу. Гончаров все смысловые узлы стягивает к детской и истовой вере пономаря Еремы, к его молитвам: «“Святой Иоанне Крестителю, моли Бога за нас!” – снимая шапку и крестясь, сказал Ере-ма. “Ах ты, разбойник! Вот я тебе дам! – говорил мещанин. – Отдуйте-ка его зонтиком! Слышите?” Но женщины не отдули его, продолжали сидеть молча, и Ерема на них не оглядывался. “Святой Николай, чудотворче и угодниче Божий, помилуй нас!” – говорил он, опять крестясь, снимая шапку, когда проезжали мимо церкви Николая Чудотворца. “Я дам тебе угодниче Божий, будешь ты у меня в церкви, вот этак же разговаривать! Ну-ка его в три зонтика!” – сказал с другой телеги дьячок. В первой телеге все молчали, все три женщины и Ерема, и зонтиками не трогали его в спину.
– Тихвинская Мати, Пресвятая Богородица, моли Бога за нас! – проговорил Ерема, когда по-ровнялись с церковью Божьей Матери.
– Вот я тебе дам! Ишь, баловень! Залез к бабам! Чего вы там смотрите! Эй, вы, барыни! Хорошенько его! — кричал мужской голос сзади. Но в первой телеге ехали молча. Только один Ерема, поровнявшись с последней церковью Троицы и крестись, сняв шапку, произнес: “Пресвятая Троица, помилуй нас, грешных!”. С этими словами обе телеги остановились у дома, из которого выехали утром» (Гончаров 1952, т. 7: 216). Таковы последние слова новеллы. В ее центре – «Божья тайна» в человеке, мысль о том, что «последние будут первыми» и что суета жизни и суета человеческого суда отступает перед молчанием вечности. В статье «Нарушение воли» Гончаров определил человеческий суд как «беспощадный»: «Суд общественного мнения вообще беспощаднее законов уложения о наказаниях. Он проникает во все изгибы злоупотребления, редко допускает смягчающие и жадно хватается за отягчающие обстоятельства. Тысячеглазый его аргус производит следствие, и суд этот произносит безапелляционный приговор» (Гончаров 1952–1955, т. 8: 116). В черновых вариантах к «Обрыву» бабушка говорит Вере: «Я скажу тебе о пощечине, не обесчестившей чистого человека, – и о падении, не помешавшем девушке остаться честной женщиной на всю жизнь. Люди злы и слепы, Бог мудр и милосерд – они не разбирают, а Он знает и строго весит наши дела и судит Своим судом. Где люди засудили бы, там Бог освобождает…» (И. А. Гончаров 2000: 142).
Это то, что волновало Гончарова перед смертью.
Внешняя писательская манера Гончарова в целом производит впечатление эпичности за счет неторопливого, широкого и детального описания событий, вообще каких-то внешних проявлений авторской манеры. Но, как мы стремились показать, это не всегда так. Точно так же Гончаров далеко не всегда эпически объективен: порою в его произведениях хорошо ощутима дидактика. Время и события не всегда показаны как текущие последовательно и неторопливо. Порою в его произведениях гремит гроза, время прерывается, как, например, при описании «горячки» Обломова. Четвертая часть романа начинается словами: «Год прошел со времени болезни Ильи Ильича ˂…> Илья Ильич выздоровел» (Гончаров 1997–2017, т. 4: 374). Правда, и здесь автор верен самому себе – и эпическое начало проступает как бы само собой: «Много перемен принес этот год в разных местах мира: там взволновал край, а там успокоил; там закатилось какое-нибудь светило мира, там засияло другое; там мир усвоил себе новую тайну бытия, а там рушились в прах жилища и поколения. Где падала старая жизнь, там, как молодая зелень, пробивалась новая...» (там же).
Эпичность Гончарова основана, в частности, на том, что его антропология предполагает целый спектр чуткого восприятия человеком импульсов окружающего мира, его живых ритмов. Ритм жизни для Гончарова – понятие всеохватное: судьбу человека он рассматривает в ее «космическом», «природном», «общественном», «семейном», «психо-биологическом» ритмическом пульсировании. Отсюда ощущение особой «органичности» романов Гончарова. Эпически-плавное, естественное течение жизни ведет к не- уловимому (а иногда, как в поздних новеллах, в романе «Обрыв», – резко выраженному, драматургическому) – преображению мира и человека. Мировосприятие Гончарова глубоко и последовательно теологично, поэтому главный, всеопре-деляющий ритм жизни, ощущаемый его значимыми героями, – это пульсирующая связь человека и Бога.
Примечания
-
1 На церковно-славянском придан оттенок загадочности: «Глас хлада тонка и тамо Господь».
-
2 Речь идет о семье астрономов Гершелей. Во-первых, это Уильям Гершель (1738–1822) – выдающийся английский астроном немецкого происхождения. Прославился открытием планеты Уран, а также двух ее спутников – Титании и Оберона. Во-вторых, это его сестра Каролина Гершель (1750–1848), сделавшая заметные астрономические открытия. В-третьих, это Джон Гершель (1792–1871) – английский астроном и физик, сын Уильяма Гершеля.
-
3 Камиль Николя Фламмарион (1842–1925) – французский астроном, известный популяризатор астрономии. В библиотеке Гончарова находились книги Фламмариона: «La pluralite des mondeshabites, etudes ou l on expose les condi-tions…» (Paris: Didier, 1872), «Les merveilles celestas, lectures du Soir» (Paris; Hachette, 1869), «Recits de l infini, humaine histoire d unecj-metedans l infini» (Paris; Didier, 1873).