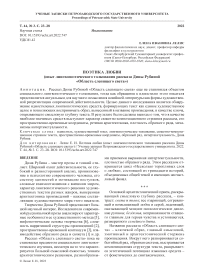Поэтика любви (опыт лингвопоэтического толкования рассказа Дины Рубиной "Область слепящего света")
Автор: Лелис Елена Ивановна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 3 т.44, 2022 года.
Бесплатный доступ
Рассказ Дины Рубиной «Область слепящего света» еще не становился объектом специального лингвопоэтического толкования, тогда как обращение к идиостилю этого писателя представляется актуальным для научного осмысления новейшей литературы как формы художественной репрезентации современной действительности. Целью данного исследования является обнаружение идиостилевых лингвопоэтических средств, формирующих текст как единое художественное целое и позволяющих воспринимать образ, вынесенный в название произведения, в качестве ключа, открывающего смысловую глубину текста. В результате были сделаны выводы о том, что в качестве наиболее значимых средств выступают характер сюжетно-композиционного строения рассказа, его пространственно-временные координаты, речевая архитектоника, плотность образного ряда, механизмы интертекстуальности.
Идиостиль, художественный текст, лингвопоэтическое толкование, сюжетно-композиционное строение текста, пространственно-временные координаты, образный ряд, интертекстуальность, дина рубина
Короткий адрес: https://sciup.org/147237061
IDR: 147237061 | УДК: 81.42
Текст научной статьи Поэтика любви (опыт лингвопоэтического толкования рассказа Дины Рубиной "Область слепящего света")
Дина Рубина – мастер прозы и тонкий стилист. Широкий охват действительности, ее глубокий и разносторонний анализ, проникновение в психологию современного человека, его систему ценностей и мотивацию поступков, сложные взаимоотношения с внешним миром, характер лингвопоэтического решения художественных текстов разных жанров, выверенная архитектоника произведений – важные составляющие художественного мира этого писателя.
Творчество Дины Рубиной представляет большой научный интерес. Исследователи современной русскоязычной прозы анализируют характерные особенности ее художественного метода [5], мифопоэтические основы творчества [6], сложность нарративной структуры произведений [2], пространственно-временной континуум [3], взаимодействие образного ряда и сюжета [1] и др.
Рассказ «Область слепящего света» пока не становился предметом специального лингвопоэтического изучения, несмотря на то что характеризуется большой смысловой емкостью, тонким архитектоническим решением, разнообразны ми приемами выражения интертекстуальности, плотностью образного ряда. Этим рассказом открывается цикл «Несколько торопливых слов о любви», состоящий из тринадцати историй, объединенных общей темой и имеющих несчастливый финал.
***
Основной архитектонический прием, раскрывающий смысловую глубину рассказа, – контраст: света и тьмы ; все озаряющей, согревающей и возвышающей любви и серой, леденящей, оказывающей мощное психологическое давление рутины ; бездомья , неприкаянности ставшего главным для героев чувства и устоявшегося, размеренного семейного быта .
Название рассказа «Область слепящего света» – ключевой образ, главный смысловой, эмотивный и архитектонический стержень произведения. Вокруг него разворачивается событийный ряд, образная система, выстраивается композиционная структура текста, раскрывается эстетический потенциал языковых средств – от фонетических до синтаксических.
В завязке произведения в области света перед глазами героини возникает лицо докладчика - бубнящего зануды , смысл выступления которого ей непонятен и неинтересен. Она досадует, что опоздала и теперь не может сориентироваться. В зале темно , и, чтобы подготовить к публикации материал о конференции, ей предстоит «высидеть несколько докладов вроде этой тяго-мотины»1. Неожиданно возникшее в свете проектора лицо, вернее его половина, напоминает ей персонажа мистерии . Так образ слепящего света приобретает эстетическую значимость, пунктирно прошивая текст и по мере развития сюжета обрастая смысловыми и эмоциональными обертонами. В приведенном лингвистическом контексте этому способствуют композиционный контраст света и темноты, отсылка к мистерии, эксплицирующая диссонанс между окружающей реальностью и воображаемой действительностью.
Дальше в тексте ключевой образ фиксирует новый этап развития отношений между героями: уже не сопротивляясь взаимному притяжению, они безоглядно отдались страстному чувству. И бьющий через окна веранды слепящий зимний свет теперь вырывает из повседневности обоих: они не замечают ни мерзлых простыней, ни ледяных пальцев. Охвативший их бешеный подростковый озноб, как ясно читателю, не только температурного свойства , но знак особого психоэмоционального состояния героев, их отрыва от прозаической действительности, погружения в мир всепоглощающей любви и раство-ренности в ней. С этого момента образ область слепящего света , представленный разными лексическими номинациями, – это константа пространства любви, ее вертикальные координаты, манящий и призывный свет, льющийся откуда-то сверху и взрывающий непроглядность серых будней.
«После чего кран был забыт навеки и подтекает, вероятно, до сих пор. Вернувшись, минут пять стоял в проеме двери, глядя, как она лежит в бисере пота, в области слепящего зимнего света , бьющего через окна веранды» (Рубина: 8).
«Спустя несколько недель она вывалилась в аэропорту “Бен-Гурион” – в расстегнутой дубленке, с мохнатой шапкой в руке - прямо в солнечный средиземноморский декабрь » (Рубина: 9).
«Лишь однажды он сказал, стоя у окна за ее спиной и наблюдая, как горная ночь по одной, словно свечи, задувает горящие отблеском солнца черепичные крыши:
– Этот город заслужил, чтобы его рассматривали не с такой высоты…» (Рубина: 9).
В последний раз этот образ эксплицирован в финале рассказа, когда герой узнал о траги- ческой гибели своей возлюбленной в авиакатастрофе:
«Перед его глазами поплыл огненный шар их коротенькой высотной жизни, легко взмыл, завис в области слепящего света и - вспыхнул над морем...» (Рубина: 10).
В сознании героя промелькнула вся история их любви, материализовавшись в шаровую молнию: в области слепящего света она зарождается, пульсирует, одаряет краткосрочным свечением и исчезает в небытии - поплыл, легко взмыл, завис, вспыхнул : один миг по сравнению с вечностью и механически-бессмысленно продолжающейся жизнью. Нанизанные друг на друга глаголы совершенного вида контрастируют с застывшей « тьмой комнаты», где герой «по-прежнему стоял » (глагол несовершенного вида), «почему-то не зажигая лампы» (деепричастие несовершенного вида).
Читатель становится свидетелем переключения сознания героя из области слепящего света , наполненной красотой черепичных крыш, горной ночи, моря, залива, крана и мачт в порту, еще чем-то « прекрасным и достойным восхищения », в область бытовой ежедневности:
«Ну, если ты еще не переоделся, так вынеси мусор » (Рубина: 10).
Неслучайно он медлит с возвращением : плелся домой, поднимался по лестнице, открывал дверь, думал : что делать, что делать? Торшер, горящий на кухне зеленоватым подводным светом, был не способен хоть сколько-нибудь заменить область слепящего света .
Ключевой образ прирастает эмоциональносмысловыми коннотациями и берет на себя роль смыслопорождающего стержня художественного целого. Эстетическому функционированию ключевого образа способствуют контекстуально значимые лингвопоэтические средства, которые на всем протяжении текста продолжают поддерживать принцип контраста: лицо погасло (световая метафора); темный конференц-зал (световой эпитет); в квартире было темно ; тьма комнаты (лексический повтор) - солнечный средиземноморский декабрь, горящие отблеском солнца черепичные крыши; огненный шар их коротенькой высотной жизни (метафорические эпитеты).
В смысловом обогащении ключевого образа важную роль играет пространственно-временной континуум: встречи влюбленных коротки и исчисляются часами и днями - разлука длится неделями ; пространство повседневности - всепоглощающе и всеохватно , пространство любви - устремлено ввысь : двенадцатый этаж отеля,
Иерусалим, который с высоты вызывает восхищение, прогулка « над заливом, над кранами и мачтами в порту». Но эти короткие встречи, связывающие разные города и страны (Новосибирск, Москва, Тель-Авив, Иерусалим, Хайфа), становятся теми яркими, пронзающими еже-дневность маяками, которые освещают жизнь влюбленных, открывают им их самих и мир, раздвигают пространственно-временные границы их жизни и судьбы. При этом встречи влюбленных неизменно сопровождаются острой и трагической мыслью о том, что отпущенное им счастье хрупко, неустойчиво и не только не обещает быть долгим, но может в одночасье и навсегда прерваться. Дважды (сначала в мыслях героя, потом – в мыслях героини) появляется слово никогда и каждый раз в тот момент, когда они мечтают о следующей встрече. Но, щадя друг друга, не произносят этого слова, ощущая его как жестокий приговор неизбежности. Сначала:
«– А вернешься когда? – спросила она. Он хотел ответить “ никогда ”, и, в сущности, это было бы правдой. Но сказал :
– Н-не знаю. Может быть, через год… Я уезжаю всей семьей в Израиль» (Рубина: 8).
Позже:
«Она стала оправдываться, что иначе шеф ни за что не позволил бы отлучиться, только прицепившись к рутинной командировке, удалось так лихо зарулить сюда. И, бог даст, еще удастся. Когда-нибудь…
– Когда, например? Никогда , вдруг поняла она. Но сказала легко:
– Ну… в марте, скажем… Или в апреле…» (Рубина: 9).
Параллелизм синтаксических конструкций ( хотел ответить… но сказал / поняла она… но сказала ) подчеркивает взаимное притяжение героев, их глубинную, неизъяснимую психологическую взаимосвязь, спаянность, «прорастание» друг в друге. Эти архитектонические переклички выступают в качестве одного из лингвопоэтических приемов, образующих единую систему репрезентации смысловых доминант текста.
Аналогичную композиционно значимую и смыслопорождающую роль играют акустические, в том числе музыкальные, образы, на значимость которых в идиостиле Дины Рубиной указывают современные исследователи [4]. Но особенность их использования в анализируемом рассказе заключается в том, что здесь они приобретают статус композиционно значимых только в проекции на ключевой – зрительный – образ.
С той минуты, когда герои почувствовали свое бессилие перед ослепившей их любовью,
«все покатилось симфонической лавиной , сминающей, сметающей на своем пути их прошлые чувства, привязанности и любови – все то, чем набиты заплечные мешки всякой судьбы…» (Рубина: 7). Затем последуют скрип двери, как позже станет понятно, открывающей для героев совсем иной – светлый – мир, и эротическая хрипло задыхающаяся пауза , после которой на первое место в архитектонике текста выходят исключительно зрительные образы, фокусирующиеся вокруг области слепящего света . Только в финале рассказа, после трагической новости о гибели возлюбленной, герой вынужденно вернется к способности воспринимать акустику повседневности – открыв теперь уже другую дверь, в свою прежнюю жизнь, он услышал, как « лилась вода и звякала посуда».
Авторская мысль о том, что любовь была для героев неожиданным и в то же время трагически предопределенным чувством, воплощается целым набором языковых средств, которые зеркально отражают как внешнюю, событийную, жизнь, так и эмотивный сюжет. Этот композиционный принцип зеркальности «прошивает» весь текст: влюбленные с момента своего знакомства как будто отражают друг друга: испытывают похожее эмоциональное состояние, сближаются в оценке людей и событий, одинаково напряженно начинают осмыслять пространственно-временные координаты своей любви и судьбы. Этот принцип зеркальности объединяет героев и одновременно отделяет от всех остальных.
Среди средств, запускающих принцип композиционной зеркальности, значим звукообраз только зарождающейся любви, репрезентируемый аллитерациями, и зрительный образ героя, и лексический повтор слова вдруг , фиксирующий неожиданность для обоих внезапно вспыхнувшего чувства:
«Этот мгновенный б л иц л унного по л у л ица ос л епи л ее такой вспышкой любовной жа л обы, с л овно ей вдруг показа л и из-за ширмы того, кого давно потеряла и ждать уже зарек л ась» (Рубина: 7).
«Он рассеянно кивну л ей, договаривая что-то ма л енькому то л стяку аспиранту, и вдруг резко ог л яну л ся, л овя обреченным взг л ядом ее л ицо» (Рубина: 7).
При этом решающую роль в экспликации зеркального отражения героями друг друга играет сочетание разных приемов в одном контексте. Ср., например, контекст, в котором аллитерационно мелодия любви продолжает звучать отголоском внутреннего состояния героини, но резко прерывается переключением ее сознания на мысль о предстоящей долгой разлуке, а возможно, и неизбежном расставании:
«Они стоя л и на п л атформе в ожидании э л ектрички. Поода ль прогу л ивалась пожи л ая тетка с л иня л ой из-же л та бо л онкой.
-
- А вернешься когда? - спроси л а она. Он хоте л ответить “никогда”, и, в сущности, это бы л о бы правдой. Но сказа л :
-
- Н-не знаю. Может быть, через год. Я уезжаю всей семьей в Израи ль » (Рубина: 8).
Ср. с аналогичной звуковой организацией фрагмента текста, который репрезентирует звучащую теперь уже в сознании героя мелодию любви и ее резкое прерывание мыслями о возвращении в повседневную жизнь:
«И пока п л е л ся к дому, поднима л ся по л естнице, открыва л к л ючом дверь, все дума л : что де л ать, что де л ать и как прожить хотя бы этот, первый вечер?..» (Рубина: 10).
Зеркальную композицию текста формируют также лексические и частеречные переклички (личные местоимения, нанизывание именительного падежа имен существительных, числительное д ва ), усиленные синтаксическим параллелизмом и близким ритмическим рисунком фразы:
« Он доктор наук, / историк, / специалист по хазарам, / автор двух известных книг, / женат, / две дочери - / семнадцати и двенадцати лет //» (Рубина: 8).
« Она журналист, / автор сценариев двух никому не известных документальных фильмов , / два неудачных брака, / детей нет, / сыта по горло, / оставьте меня в покое.//» (Рубина: 8).
« Ее рассеянные руки , не попадающие в рукава поданного им пальто.» (Рубина: 7).
«.и его беспризорные руки , неловко коснувшиеся <. .> ее груди» (Рубина: 7).
Эстетически значимо и архитектоническое решение текста: зеркально отражающие друг друга действия героев по мере развития событий - сначала улетает он, и они прощаются, как думают, навсегда; потом улетает она, и они прощаются, как выясняется, навечно и т. д. При этом объединяющим героев авторским языковым средством становится отсутствие персонификации: использование личных местоимений он и она вместо имени как идентификатора личности в качестве эстетического знака бытийной несущественности подобной конкретизации.
Благодаря многочисленным интертекстуальным отсылкам история любви героев рассказа воспринимается как реминисценция «Дамы с собачкой» А. П. Чехова. Ситуация, в которую попали нежно и преданно любящие друг друга Гуров и Анна Сергеевна, является для них неразрешимой. Героям рассказа Дины Рубиной эта классическая история и ее финал хорошо знакомы, они ассоциируют себя с чеховскими героями. Дважды возникающий в тексте образ дамы с собачкой, развитие отношений, сопровождаю- щееся короткими встречами и долгими разлуками, мотив двойственности, с одной стороны, тайная жизнь - вместившая в себя все важное, интересное, необходимое, и с другой - явная, утратившая бытийную ценность и смысл. Ср.:
«У него были две жизни: одна явная , которую видели и знали все, кому это нужно было, полная условной правды и условного обмана, похожая совершенно на жизнь его знакомых и друзей, и другая - протекавшая тайно »2.
В интертекстуальной перекличке с рассказом А. П. Чехова важное место занимают и мотив без-домья (у А. П. Чехова герои встречаются в дешевых московских и провинциальных гостиницах, у Дины Рубиной - в дорогом тель-авивском отеле на берегу Средиземного моря), и образ зеркала (у А. П. Чехова - в номере гостиницы, где все покрыто пылью и на кровати - серое солдатское одеяло, у Дины Рубиной - в скоро стном лифте роскошного отеля), и перекличка бытовых деталей (у А. П. Чехова Гуров жадно ест арбуз, у Дины Рубиной - плитку шоколада), и введение второстепенных персонажей - безымянных посторонних людей, случайно замеченных погруженными в себя героями (у А. П. Чехова -«какой-то человек - должно быть, сторож», у Дины Рубиной - «три армянских священника под большим зонтом»), и сама авторская интонация: легкая ирония, переплетающаяся с печалью и сочувствием, - все это сближает два произведения.
Но история любви у А. П. Чехова носит драматический характер, у Дины Рубиной -трагический, жесткий. Сама судьба разрубает гордиев узел, связавший влюбленных, оставляя герою только память о слепящем свете любви, опрокидывает жизненную перспективу: то, что казалось мистерией, оказалось главным, то, что казало сь осязаемой реальностью, приобрело черты карнавальности - той обыденности, которая перелицовывает смыслы, упрощает чувства, утрирует будничность событий, гасит внутренний свет и лишает надежды.
Сюжетно-композиционные и образные параллели между рассказами А. П. Чехова и Дины Руби-ной - это формы интертекстуальной отсылки к основному чеховскому художественному принципу: казалось - оказалось , который репрезентирует изменения в системе ценностей героев и их мировоззренческих установках. То же самое происходит с персонажами Дины Рубиной.
Сначала, когда в темном конференц-зале зажегся свет, как это бывает после киносеанса или театрального представления, в глазах героини ее будущий возлюбленный показался невысоким неярким человеком. Позже в памяти героини этот образ возникнет в том же ассоциативном круге театральности: «из-за ширмы судьбы ей показали карнавальное полулицо с прицельным глазом». Потом, когда любовь стала для обоих самым главным в жизни, эта внешняя неяркость, обнаруживаемая при искусственном свете театрального действа, стала для героини устойчивым знаком, внешней формой, скрывающей его внутреннюю – истинную, человеческую притягательность. Так, встречая ее в тель-авивском аэропорту, он резко выделялся на фоне пестро-цыганской толпы встречающих: стоял отдельно, поодаль, «в какой-то легкомысленной куртке», подняв обе руки, «словно сдавался необоримой силе».
Аналогичный прием несовпадения внешнего и внутреннего находим и у А. П. Чехова: на редкие встречи с Гуровым Анна Сергеевна надевала его любимое серое платье.
Героиня Дины Рубиной усмехнулась невольной ассоциации: прогуливавшаяся по железнодорожной платформе незнакомая пожилая женщина с болонкой напомнила чеховскую даму с собачкой, поскольку и тетка немолода, и собачка из-желта-линялая. Но спустя несколько недель из-за ширмы судьбы на сцене жизни вдруг появляется она сама – обновленная, влюбленная, «в расстегнутой дубленке, с мохнатой шапкой в руке», растрепанной, как болонка . Несуразность внешнего вида героини, прилетевшей в солнечный средиземноморский город, очевидна для ироничного автора и наблюдательного читателя, но остается совершенно незамеченной обоими влюбленными.
Их взаимное чувство, как и любовь героев А. П. Чехова, сначала казалось не тем, чем оказалось на самом деле. Интертекстуальная перекличка закрепляется прямой цитатой – лексическим повтором слова приключение . И в обоих случаях это слово включено в ироничный эмоционально-оценочный контекст, формируемый прилагательными-эпитетами. Ср.:
«…всякое сближение, которое так приятно разнообразит жизнь и представляется милым и легким приключением <…> неизбежно вырастает в целую задачу, сложную чрезвычайно, и положение в конце концов становится тягостным» (Чехов: 129).
«Ну, вот и ладно, и хорошо, прощайте, мое славное приключение !» (Рубина: 9).
То, что казалось милым и легким или славным приключением, для героев обоих рассказов стало смыслом жизни, одарив их способностью любить и быть любимыми. В области слепящего света то, что сначала казалось мистерией и карнавалом, оказалось тем, что взорвало и разнесло в клочья всю прежнюю жизнь. С этим чувством главный герой рассказа Дины Рубиной должен как-то жить дальше. Открытый финал – это тоже отсылка, хотя и неявная, к чеховскому рассказу.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, рассказ «Область слепящего света» представляет собой художественный текст, который репрезентирует идиости-левую авторскую стратегию Дины Рубиной, основанную на применении широкого спектра сюжетно-композиционных, образных и языковых приемов, которые раскрывают авторскую концепцию любви: это чувство составляет в человеческой жизни самую большую ценность. В качестве ключевого образа рассказа выступает вынесенный в название образ области слепящего света, вокруг которого фокусируются сюжет, пространственно-временные координаты нарратива, изменения во внутреннем состоянии героев и их мироощущении, речевая и образная архитектоника текста.
Смысловая емкость рассказа Дины Рубиной открывается в том числе и благодаря интертекстуальным отсылкам к «Даме с собачкой» А. П. Чехова. При перекличке общей тональности двух произведений: передаче ощущения обреченности чувства и описания обретших друг друга героев как людей глубоко несчастных, по-новому осмысляется поэтика любви, предъявлено другое качество времени, существенно расширены сюжетные пространственные границы, предложен жесткий финал знакомой читателю истории. Это открывает перед исследователем перспективы осмысления, с одной стороны, типологических черт идиостиля Дины Рубиной, с другой – творческого развития в современной прозе художественно-эстетических и нравственно-аксиологических традиций классической отечественной литературы.
Лингвопоэтическое толкование помогает осмыслить название рассказа «Область слепящего света» как глубокое сочувствие автора своим героям, которые ощущали предопределенную неизбежность повторения в их собственной жизни судьбы чеховских героев, но не были готовы к столь трагическому концу.
С. 141. Далее в круглых скобках указывается фамилия автора и через двоеточие страницы.
Список литературы Поэтика любви (опыт лингвопоэтического толкования рассказа Дины Рубиной "Область слепящего света")
- Вахрушева Т. С. Своеобразие сюжета и эмблематика образного ряда в малой прозе Дины Рубиной // Филологический аспект. 2021. № 5 (73). С. 119-124.
- EDN: ZELKIH
- Голубцова А. С. Нарративная структура романа Дины Рубиной "Почерк Леонардо" // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки. 2021. Т. 23, № 79-1. С. 72-76.
- EDN: KUHKPH
- Дереченик А. И. Глаголы речи как воплощение пространственно-временного континуума, ретроспекции / проспекции в художественном нарративе Дины Рубиной "На солнечной стороне улицы" // Вестник Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Сер. 3. Филология. Педагогика. Психология. 2021. Т. 11, № 1. С. 38-45.
- Козинец С. Б. Музыкальная метафора в художественном мире Дины Рубиной // Сфера культуры. 2021. № 3 (5). С. 59-65.
- EDN: XULBEA
- Сорокина Н. В., Абраменкова Л. Е. Традиции магического реализма в романе Дины Рубиной «Почерк Леонардо» // Неофилология. 2019. Т. 5, № 20. С. 518-525.
- Шафранская Э. Ф. Синдром голубки. Мифопоэтика прозы Дины Рубиной. СПб.: Свое издательство, 2012. 470 с.