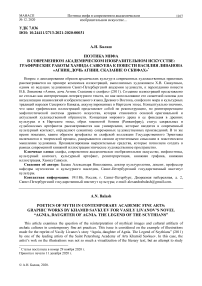Поэтика мифа в современном академическом изобразительном искусстве: графические работы Хамида Савкуева к повести Василия Ливанова "Агния, дочь Агнии. Сказание о скифах"
Автор: Балаш А.Н.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Рубрика: Искусствоведение
Статья в выпуске: 12, 2020 года.
Бесплатный доступ
Вопрос о декодировании образов архаических культур в современных художественных практиках рассматривается на примере комплекса иллюстраций, выполненных художником Х.В. Савкуевым, одним из ведущих художников Санкт-Петербургской академии художеств, к переизданию повести В.Б. Ливанова «Агния, дочь Агнии. Сказание о скифах» (2011). Создание иллюстраций представлено не столько как интерпретация литературного текста, но как использование его сюжетной основы для визуализации взаимосвязей изобразительного языка Древнего Востока, скифского мира и культурных традиций народов Северного Кавказа, аккумулированных в Нартском эпосе. Концептуально значимо, что цикл графических иллюстраций представляет собой не реконструкцию, но реинтерпретацию мифопоэтической системы древнего искусства, которая становится основой оригинальной и актуальной художественной образности. Концепция мирового древа и ее фиксация в древних культурах и в Нартском эпосе, образ змееногой богини (Ранкенфрау), статус сакральных и судьбоносных артефактов рассматриваются как универсалии, которые вводятся в современный культурный контекст, определяют семантику современных художественных произведений...
Скифы, современное академическое изобразительное искусство, мифопоэтика, культурный контекст, культурный артефакт, реинтерпретация, книжная графика, книжная иллюстрация, хамид савкуев
Короткий адрес: https://sciup.org/14118234
IDR: 14118234 | УДК: 7.036 | DOI: 10.24411/2713-2021-2020-00031
Текст научной статьи Поэтика мифа в современном академическом изобразительном искусстве: графические работы Хамида Савкуева к повести Василия Ливанова "Агния, дочь Агнии. Сказание о скифах"
В 2011 г. в издательстве «Азбука-Аттикус» было выпущено переиздание повести В.Б. Ливанова «Агния, дочь Агнии. Сказание о скифах» с иллюстрациями одного из ведущих художников академического направления, руководителя персональной учебной мастерской Санкт-Петербургской академии художеств, члена-корреспондента Российской академии художеств, народного художника Кабардино-Балкарской республики Хамида Савкуева (Ливанов 2011). Произведению, которое в 1976 г., при его первой публикации в журнале «Юность», вызвало широкую и заинтересованную реакцию, предстояло вновь оказаться в фокусе внимания, заговорить с читательской аудиторией нового столетия. Перед текстом, написанным в романтическом переживании скифской легенды, отголоски которой виделись в «Истории» Геродота и в памятниках из курганов Северного Причерноморья, встала сложная задача — обозначить свою уникальность в современном культурном пространстве, перенасыщенном разнообразными практиками визуализации и интерпретации прошлого. Возможно, именно это обстоятельство и стало поводом для сотрудничества с художником и прецедента для создания иллюстраций, которые в то же время могут рассматриваться как самостоятельный графический цикл, выстраивающий собственные отношения с изображаемой исторической эпохой.
Как и все работы Хамида Савкуева, иллюстрации к «Агнии» отличает свободный и выразительный рисунок, генетически связанный с академической монументальной школой. Композиции (всего в комплекс иллюстраций входит 21 графическая работа) выполнены на большеформатных листах. Они образуют сложный в своем разнообразии и в то же время пластически цельный смысловой ряд, свободно сопрягающийся с литературным первоисточником. Уникальные качества и внутренняя самодостаточность рассматриваемых графических работ не утрачиваются и при их публикации в книге. На ее страницах они вступают в ассоциативное взаимодействие с писательским текстом, образуя во многом параллельное повествование, которое также может быть истолковано как составной полиптих. Такое объединение отдельных произведений в новую сложную композицию в целом свойственно творчеству Х. Савкуева (Грачева 2019: 136).
Подлинность выстраиваемого диалога с прошлым в данном случае основывается на мировоззрении художника, для которого бесспорным фактом и лично переживаемым опытом является связь с живыми традициями культур народов Северного Кавказа и их
МАИАСП № 12. 2020
Поэтика мифа в современном академическом изобразительном искусстве… древними истоками (Дюмезиль 1976: 187). Поэтому цикл графических иллюстраций к «Агнии» на скифскую тему занимает свое место рядом с многолетней творческой работой Х. Савкуева над образами Нартского героического эпоса (Кутейникова 2009: 7). Эта работа была начата крупноформатными листами, посвященными отдельным героям и связанным с ними событиям (2009), и привела к масштабному книжному проекту «Нарты. Адыгский героический эпос» (2017), включившему 149 графических произведений (Гутов, Савкуев 2017). Благодаря созданию иллюстраций к повести В.Б. Ливанова в поле зрения художника оказались образы и артефакты, относящиеся к скифской эпохе, возник прецедент для обозначения взаимосвязи и преемственности культур, появилась возможность осознать и показать смысловые переходы между эпической и исторической реальностью. При этом важно отметить, что работа с памятниками скифского и греко-скифского искусства, которая в основном проходила на материалах коллекции Государственного Эрмитажа, состояла не столько в отборе прямых цитат, сколько в поиске и творческом развитии таких композиционных приемов и пластических решений, которые на уровне реинтерпретации транслировали бы архаические коды культуры, вовлекая их в современный художественный процесс.
Повесть В.Б. Ливанова представляет свободное прочтение «Истории» Геродота, при котором события выбираются и монтируются между собой подобно тексту киносценария. Здесь панорамные картины внезапно перебиваются крупными планами и ракурсами, повествование обрывается, рассказ переносится во времени вперед или разворачивается вспять, представляя историю как личное свидетельство и рассказ очевидца. Завязкой действия становится сообщение Геродота о походе скифов в Мидию (Herod. Hist., IV, 1) и об их возвращении, сопровождавшемся кровавой расправой над оставшимися в стане женщинами и рабами (Herod. Hist., IV, 3—4). Сюжет, относящийся к переднеазиатским походам скифов, дополняется деталями, навеянными более поздними эпохами и событиями, в том числе обстоятельствами скифского похода Дария I (Herod. Hist., IV, 134). Царица, оставленная на становище, расправа скифского царя, вернувшегося из похода, и то, как младшее поколение оказывается вовлечено в круг судьбы своих предков, как оно обретает собственный путь, — таковы основные мотивы литературного текста.
Судьба всех героев повести переплетается с историей царицы Агнии, облик которой неоднократно уподобляется скифской огненной богине Табити. В описании царицы также присутствуют иконографические черты змееногой богини (Rankenfrau), хорошо известные по многим скифским памятникам. Один из них отчетливо обозначен в повести: изображение змееногой богини на конском налобнике золотого убора из кургана Большая Цимбалка (IV в. до н.э., ГЭ) (Алексеев 1982: 33—35; Раевский 2006: 289) становится прототипом украшения панциря царского золотомастного жеребца, которое выступает трагическим предзнаменованием для самого коня и для главных героев. Пожалуй, в тексте В.Б. Ливанова это самый очевидный и почти что исключительный пример непосредственного обращения к визуальным источникам. Тот же памятник, изображающий хтоническую богиню, окруженную гибкими побегами, расходящимися вокруг нее сложными многоярусными пальметтами, представляется наиболее адекватным аналогом образу Агнии-всадницы, царицы и амазонки, одному из самых запоминающихся в графическом цикле Х. Савкуева (рис. 1). Гибкая фигура, сильные и уверенные жесты рук, натягивающих поводья и плетью направляющих коня, развивающиеся пряди огненно-рыжих волос, — пластическую характеристику главной героини здесь можно определить как «избыточную», используя характеристику А.Я. Гуревича, данную образным средствам древнего эпоса в описании поступков героев в кульминационные моменты исполнения их судьбы и предназначения
МАИАСП № 12. 2020
(Гуревич 2009: 50). Та же «избыточность» отличает и другую работу художника, изображающую царицу Агнию, поверженную стрелой (рис. 2). Широко раскинув руки и запрокинув голову с взметнувшимися на ветру огненными волосами, замерло перед падением ее тело, напоминая другой известный скифский памятник — нашивную бляшку в виде змееногой богини из кургана Куль-Оба (IV в. до н.э., ГЭ) (Стоянов 2013: 129).
Еще один выразительный лист, косвенно связанный с образом царицы, представляет жертвоприношение золотомастного жеребца (рис. 3). Напрягая жилы и вытягивая шею, животное отчаянно сопротивляется натяжению арканов, спутавших его ноги: пластическое решение отмечено той же избыточностью эпического момента. Частично мотив жертвоприношения повторяет сцену жертвоприношения лошади на Чертомлыкской амфоре (IV в. до н.э., ГЭ) (Алексеев, Мурзин, Ролле 1991: 122, 174), а также известное описание конского жертвоприношения Геродотом (Herod. Hist., IV, 60). Но поскольку у изображенного коня спутаны и затягиваются не только передние, но и задние ноги, его поза также указывает на иконографию жертвенного животного в скифском зверином стиле.
Лишь эхом звучат ритуальные темы в образе Агнии-младшей, темнокожей дочери царицы: ее художник изобразил сидящей на камне на вершине кургана, в котором похоронена ее мать (рис. 4). Обхватив согнутые ноги руками, сомкнув пальцы в замок и слегка склонив голову, она тревожно вслушивается в себя и в отголоски прошлого, звучащие в предметах, опрокинутых рядом на траву. Важно, что брошенными здесь оказались особенные предметы, символы миропорядка и царской власти: навершие ритуального столба (Раевский 2006: 232—233) и золотая чаша — один из мифических «упавших с неба» царских даров, полученных Колаксаем (Herod. Hist., IV, 5—7). Их прототипами стали золотая чаша с изображением бегущих страусов из Келермесского кургана (VII в. до н.э., ГЭ) и бронзовое навершие с изображением коня в сцене жертвоприношения из Ульского кургана (VI в. до н.э., ГЭ). Сакральные предметы, относящиеся к ранней скифской эпохе, они кажутся здесь избыточными и ненужными свидетелями исчерпанной славы и власти. Рядом с поверженным навершием из травы как свидетели былой славы поднимаются наконечники скифских стрел. Единственным действенным защитником Агнии-младшей остается подвеска на ее груди — уменьшенная до небольшой пекторали фигура оленя из кургана Куль-Оба (IV в. до н.э., ГЭ), на которой уже едва различимы грифон, заяц, лев и собака. В этой сцене мифический мир «объединяющий героев и вещи, уже распался» (Гуревич 2009: 61); эпический характер здесь сохраняет лишь место действия: камень со следами выветриваний, поросший травой курган.
Другой важной линией графического цикла становятся образы скифов-воинов и их царя Мадая Трехрукого, прозванного так за умение держать меч обеими руками (рис. 5). Выбранные здесь художественные приемы связаны как с древнеперсидским искусством, так и с эллино-скифской торевтикой. Прежде всего, можно отметить повторяемость черт и композиционных решений, которая напоминает о рельефах Персеполя, умножая впечатление упорядоченной и неотвратимой силы. Царь Мадай, наделенный сверхспособностями, за головой которого светит отраженным светом полная луна, возвышается над поверженными врагами. В схожей композиции два сцепившихся волка, за которыми поднимается солнечный диск, встают над скифской землей, обозначая принципы мирового порядка (рис. 6): «Скифы открылись взглядам внезапно, как волки. Казалось, они вечно стояли здесь, словно врытые в землю на пологих склонах холма» (Ливанов 2011). Интересно различие ассоциаций автора повести, для которого описываемый им образ связан, скорее всего, со скифскими скульптурными изображениями вертикально стоящих каменных воинов, и художником, который обращается к древнеиранским культурным традициям и иконографии сцен борьбы
МАИАСП № 12. 2020
Поэтика мифа в современном академическом изобразительном искусстве… царя с хтоническими силами, творчески переосмысляя потенциал «древневосточных эталонов» (Массон 1996: 5).
Фигура Мадая практически полностью повторяется в изображении воина, опустившего лук с наложенной на него стрелой (рис. 7). На поясе воина изображен акинак, рукоять которого воспроизводит рукоять ахеменидского парадного меча из Чертомлыкского кургана (V в. до н.э., ГЭ) (Алексеев, Мурзин, Ролле 1991: 99—102). Остальные изобразительные элементы этой композиции перекликаются с описанием обстоятельств похода Дария Геродотом (Herod. Hist., IV, 134). Прежде всего, к ним относится выбежавший на ратное поле между войсками скифов и персов заяц, — эта сцена получила оригинальную авторскую интерпретацию в тексте «Агнии». Возможно, в своей работе художник учитывает не только литературный текст и его первоисточник, но и фольклорные мотивы, отразившиеся в Нартском эпосе: воин должен поймать встреченного на пути зайца, чтобы не утратить своей ратной славы (Раевский 2006: 205). Также в композицию введены стрелы, упоминаемые Геродотом среди даров, переданных персам посланником скифского царя (Herod. Hist., IV, 127, 131—132) как предсказание-угроза перед несостоявшейся битвой (Раевский 2006: 206). В графической композиции заяц и стрелы обретают мифический смысл, обозначают пространственные координаты, горизонтали земли и неба, среди которых возвышается воин. Тот же мифический мотив четырех сторон света обозначается в композиции со скифами, стреляющими из луков (рис. 8): смысл этой сцены проявляется при ее сравнении с изображением двух лучников, направивших стрелы в противоположные стороны, на бляшке из кургана Куль-Оба (IV в. до н.э., ГЭ) (Раевский 2006: 207). Структуру пространства легендарной Скифии обозначает еще один выразительный лист, на котором руки воинов, удерживающих копья, защищают простирающуюся за ними землю (рис. 9). Копья с поднятыми вверх наконечниками задают пространственную вертикаль, важнейший вектор мирового порядка, удерживающие их руки, повернутые то внешней, то тыльной стороной, становятся знаками горизонтального пространства, заполняют его, выступая помощниками и проводниками высшего закона и воли. Кисти рук изображаются и в других листах, то поддерживая падающую замертво царицу Агнию, то возвышаясь над землей подобно каменным изваяниям над скифскими курганами.
В графических работах Х. Савкуева изображения древних сакральных артефактов, как и их реальные исторические прототипы, призваны обозначить суть желаний и действий героев, направить их к искомой цели. В связи с чем вторичным кажется вопрос о том, насколько точно представляются здесь элементы скифской культуры и скифской триады, поскольку достоверность образов формируется за счет эпической основы всего художественного пространства. В то же время именно вооружение и упряжь, а также украшения и ритуальные предметы, выполненные в скифском зверином стиле, обретают в композициях к «Агнии» статус особо выделенных, «отмеченных» (Гуревич 2009: 53) судьбой. Пластическая трактовка, данная скифским артефактам, представляет их творческую интерпретацию и далека от норм и правил археологического рисунка, основывается на ассоциативном мышлении, находя некоторые параллели в современном ювелирном искусстве мастеров Северного Кавказа (Ср.: Еутых 2009). Тот факт, что в жизненном пространстве героев им сопутствуют золотые ритуальные предметы, украшенное оружие и украшения-нашивки, многие из которых специально создавались для погребения, еще раз подчеркивает особый, внеисторический и мифический контекст изображенных сцен.
Эпическое повествование не подразумевает развернутого ландшафта, редуцируя его до атрибутов, обозначающих место действия. В «Агнии» Хамида Савкуева, в отличие от ее литературного первоисточника, таким атрибутом является, прежде всего, камень, твердь,
МАИАСП № 12. 2020
которая обозначает особое состояние пространства и времени, становящегося прошлым. Это свойство ярко проявляется в листе с двумя скифскими мальчиками — Саураном и Аримасом, — скачущими на коне, похожем на летящую вперед каменную глыбу (рис. 10). Дети здесь — и участники событий, и те мальчишки, которые грезят о героическом прошлом, вслушиваясь в древние сказания. Эти детские мечты способны объединять времена и культуры: Аримас-мальчик уверенно рисует на прибрежном песке коня, «распластавшегося в бешеном скачке <…> Вот конь изогнул шею, повернул голову и оскалился, обороняясь от кого-то, еще невидимого» (Ливанов 2011). Описанный в тексте конь, представленный сначала как рисунок, сделанный юным скифом, а затем как скачка на реальном коне, переносится в изобразительное пространство работы Х. Савкуева, обретая дополнительные ассоциации, связанные с повторяющимися темами в творчестве самого художника и с их глубоко личными истоками.
Этим истокам созвучны также образы двух важных персонажей «Агнии», — старого кузнеца и прорицателя Мая и его талантливого внука — выросшего и также ставшего кузнецом Аримаса, которые в графических работах Х. Савкуева сближаются с мифическим кузнецом и покровителем кузнечного ремесла нартом Тлепшем (Кутейникова 2009: 10). Изображенный в профиль, кузнец Аримас передает в руки воина выкованный им меч-акинак: компактная, расположенная в вертикальном листе композиция выстраивается по схеме инвеституры (рис. 11). Кузнец держит меч над наковальней, уложенной на бревне, уходящем в землю, к наковальне приставлен кузнечный молот. Именно так в Нартском эпосе выглядит кузница Тлепша, наковальня которого установлена на большом пне, вкопанном «в седьмое дно земли» (Куек 2013), представляя «срединный» и «нижний» миры в мифопоэтической структуре мирового древа (Куек 2013). Причастный им Тлепш обладает силой и знаниями, как и старый скифский кузнец и прорицатель Май (рис. 12). Темными отрешенными глазницами смотрит его изборожденное морщинами старческое лицо, обрамленное спускающимися на плечи краями башлыка с высоким заостренным верхом. Фактура этого лица подобна выветренному камню и каменной маске; голова старика в остроконечном уборе, как древний менгир, ритуальное навершие или гора, обозначает координаты «верхнего» мира, возвышаясь над прошлым.
В целом в графическом цикле Х. Савкуева просматривается ясная мифопоэтическая структура, которая воображением, необычайно развитым и выразительным визуальным мышлением художника возрождается как легитимная основа современного творчества. При этом рассмотренные работы представляют собой отнюдь не попытку реконструкции первоначальных смыслов древних образов, но поиски формы ретрансляции универсального и в то же время личностно обретаемого художественного и культурного опыта. Естественное пребывание творчества Х. Савкуева на пересечении нескольких традиций дает ему возможность не следовать кинематографической структуре повести, несмотря на то, что перенесение методов кинопроизводства в другие области современного искусства — обычная, распространенная и вполне легитимная практика нашего времени. Используя композиционные особенности текста В.Б. Ливанова, которые трансформируют миф о Скифии в ряд коротких и выразительных сцен, художник возвращает ее мифические образы в мир классических изобразительных практик, самоценной пластической формы, представляя им возможность вариативно раскрываться в современном художественном пространстве.
МАИАСП № 12. 2020
Поэтика мифа в современном академическом изобразительном искусстве…
Список литературы Поэтика мифа в современном академическом изобразительном искусстве: графические работы Хамида Савкуева к повести Василия Ливанова "Агния, дочь Агнии. Сказание о скифах"
- Алексеев А.Ю. 1982. Курган Цимбалка и дата его сооружения. СГЭ XLVII, 33—35.
- Алексеев А.Ю., Мурзин В.Ю., Ролле Р. 1991. Чертомлык. Скифский царский курган IV в. до н.э. Киев: Наукова думка.
- Грачева С.М. 2019. Современное петербургское академическое изобразительное искусство. Традиции, состояние и тренды развития. Москва: БуксМАрт.
- Гуревич А.Я. 2009. Избранные труды: норвежское общество. Москва: Традиция.
- Гутов А.М. (сост.), Савкуев Х.В. (художн.). 2017. Нарты. Адыгский героический эпос. Санкт-Петербург: Вита Нова.
- Дюмезиль Ж. 1976. Осетинский эпос и мифология. Москва: Наука.
- Еутых А. 2009. В зеркале традиций. Произведения ювелира Аси Еутых. Каталог выставки. Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж.
- Кутейникова Н.С. 2009. Священные традиции не изживаются никогда. В: Крапивина Н.С. (ред.). Хамид Савкуев. Живопись. Графика. Скульптура. Санкт-Петербург: Артиндекс, 7—10.
- Куек А.С. 2013. Нарт Тлепш в мифопоэтических воззрениях адыгов. ВАГУ 4(128), 171—177.
- Ливанов В.Б. 2001. Агния, дочь Агнии. Сказание о скифах. Санкт-Петербург: Азбука-Аттикус.
- Массон В.М. 1996. Предисловие. В: Массон В.М. (ред.). Между Азией и Европой. Кавказ в IV—I тыс. до н.э. Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж, 5.
- Раевский Д.С. 2006. Мир скифской культуры. Москва: Языки Славянской культуры.
- Стоянов Р.В. 2013. Rankenfrau с маской Силена: к вопросу о контексте находок. В: Павленко Т.А., Схатум Р.Б., Улитин В.В. (ред.). III «Анфимовские чтения» по археологии Западного Кавказа. Материалы международной археологической конференции. Краснодар: Вика-Принт, 128—130.