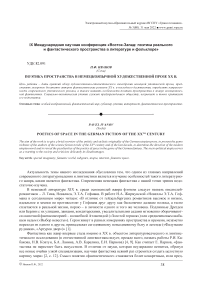Поэтика пространства в немецкоязычной художественной прозе XX в
Автор: Иванов Павел Филиппович
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Статья в выпуске: 3 (80), 2022 года.
Бесплатный доступ
Цель работы - дать краткий обзор художественно-стилистического своеобразия немецкой утопической прозы, представить жанровое богатство авторов фантастических романов XX в. и последнего десятилетия, определить направленность современного утопического романа, а также выявить особенности поэтики пространства в жанре немецкоязычной фантастики. Социально-политическая утопия служит предупреждением обществу, вскрывает и тонко критикует его недостатки.
Особый воображаемый, фантастический мир, субжанр, утопия, интертекст, фантастическое пространство
Короткий адрес: https://sciup.org/148324664
IDR: 148324664 | УДК: 82.091
Текст научной статьи Поэтика пространства в немецкоязычной художественной прозе XX в
Актуальность темы нашего исследования обусловлена тем, что одним из главных направлений современного литературоведения и лингвистики является изучение особенностей такого литературного жанра, каким является фантастика. Современная немецкая фантастика с нашей точки зрения недостаточно изучена.
В немецкой литературе XIX в. среди основателей жанра фэнтези следует назвать писателей-романтиков - Л. Тика, Новалиса, Э.Т.А. Гофмана. В работе Н.А. Жирмунской «Новеллы Э.Т.А. Гофмана в сегодняшнем мире» читаем: «В отличие от гейдельбергских романтиков высокое и низкое, идеальное и земное не противостоят у Гофмана друг другу как бесконечно далекие полюса, а тесно сплетаются в реальной жизни, порою – в личности одного и того же человека. Подлинные Дрезден или Берлин с их улицами, лавками, кондитерскими, увеселительными садами мгновенно оборачиваются сказочной фантасмагорией - волшебной Атлантидой («Золотой горшок») или средневековым шабашем ведьм («Выбор невесты»). Герои живут в разных измерениях пространства и времени, незаметно переходя из одного в другое, принадлежат сегодняшнему повседневному быту и легенде («Фалунские рудники», «Артуров двор»)» [1].
Фантастика как жанр впервые стала именно в XX в. объектом литературоведческого и лингвистического исследования (в отечественной лингвистикеследует, прежде всего, назвать работы Р.И. Кабакова, Н.В. Ковтун, Б.А. Ланина, А.В. Карелина, Е.И. Парнова) [4, 9]. Как считает Е. Парнов, «фантастика не перестает быть искусством. В отличие от науки, которая неудержимо ветвится, образуя все новые ячейки узкой специализации, научная фантастика всякий раз стремится создать целостную картину мира» [2, с. 12]. Смысл понятия «фантастическое» становится более конкретным, если пред мет этого понятия ограничить «элементом необычайного», который вводится в те или иные литературные произведения. Так, Н.В. Ковтун в своих исследованиях использует термин «необычайное» вместо термина «фантастика» [3, c. 2].
В начале XX в. в творчестве немецких писателей «потерянного поколения» смещаются акценты. Опыт Первой мировой войны приводит художников к пересмотру многих прежних идеалов, к разочарованию в оптимистических взглядах на прогресс и на роль всех общественных институтов. Материальные ценности и ценности внешнего мира начали заменяться ценностями внутреннего мира личности. Для XX в. характерен одновременно рост утопических проектов и расширение масштабов утопического эксперимента, что делает границы утопии настолько подвижными, что возникает ощущение утопической реформации, наступление новых времен, когда прежде редкий литературный жанр становится господствующим стилем, модой и привычкой. Как считает А.В. Кузнецова, «разочарование в человеке и его способностях изменить мир послужило новым импульсом к эскалации утопизма как форме бегства от действительности» [4, с. 248]. У немецких авторов есть определенный опыт создания утопии и антиутопии. Одним из основоположников жанра фантастической утопии в немецкой литературе XX в. следует назвать Эрнста Юнгера и его роман «Гелиополь» (перевод с нем. яз. 2018). Многие литературные критики склонны считать этого немецкого автора активным приспешником режима социал-националистов, «любимчиком» Гитлера, но это не так. Несмотря на то, что одну из своих книг он даже посвятил А. Гитлеру, когда тот пришел к власти, идеи национал-социалистов казались Юнгеру ошибочными. И писатель не упускал возможности высказать свое мнение при каждом удобном случае. Доходило до того, что его дом обыскивало гестапо, хотя перед этим Э. Юнгера допустили до членства в Поэтической академии, в которой перед этим устроили «чистку». Юнгер даже мог открыто говорить о своей неприязни к Геббельсу, и за это ему не грозили никакие неприятности, поскольку сам Гитлер сделал его неприкосновенным. Несмотря на изменения во взглядах, Юнгер в глазах Фюрера все равно оставался героем Первой мировой, да и отважным солдатом, которым он предстал перед читателями в своем фронтовом дневнике “In Stahlgewittern”.
Необходимо отметить, что в романе “Heliopolis” (в переводном тексте Гелиополь), написанном в 1949 г., содержится попытка примирить космос и информатику. С одной стороны, фонофор, ставший обычным средством коммуникации, которое незримо связывало каждого с каждым. С другой стороны - тяжелое вооружение, ракеты, летящие в глубины космоса. Граждане описанного Юнгером государства находятся под постоянным пристальным контролем разных ведомственных структур, рассказчик называет их по-разному: Координационное ведомство, Центральный архив и т. д. Необходимо отметить, что это написано в 1949 году! Интересна диспозиция романа. Время действия – несколько десятилетий после мировой войны. В Гелиополе власть оспаривают друг у друга Проконсул (глава армии, опирающийся на аристократию и церковь) и Ландфогт (популист, контролирующий карательные органы, прессу и апеллирующий к инстинкту толпы). Приведем небольшую цитату в качестве иллюстрации: «В принципе, все они уповали на войну, надеясь, что она отдаст всех этих демагогов в их руки. Ландфогт со своей стороны тоже торопил войну, от которой ждал роста беспорядков и дальнейшего распада общества. Оба правителя затаились, как звери, в своих логовах и прощупывали друг друга» [5, с. 60]. В каком-то смысле это противопоставление воскрешает противостояние фашистской партии и прусского генералитета в третьем рейхе. Юнгер ничего не пишет о финале борьбы, но победа Ландфогта неизбежна (как и в случае с Германией). Поскольку Проконсул не предпринимает решительных действий, время работает на его противников, а армия, будучи не в силах чувствовать свое противопоставление населению, разлагается. Кроме Ландфогта и Проконсула в мире есть высшая сила – власть Регента, некогда победившего в войнах, но удалившегося от прямого управления. Регент сохранил за собой контроль над тяжелым вооружением и занят освоением космоса. Восстание масс, парсов, жестоко подавлено, военные-заговорщики арестованы. Однако финал романа не завершается счастливым концом. Пространство романа Юнгера не ограничивается одним лишь Дворцом Проконсула, действие происходит на искусственно созданных планетах, называемых Гесперидами.
Для романа Юнгера характерно большое количество интертекстуальных вставок, аллюзий, псевдоцитат, например: «Вы хотите манипулировать знаниями, как мозаикой, складываемой из кусочков ad hoc – по заранее составленной схеме. Тогда вы снаряжаете археологические экспедиции, которые находят в далеких пустынях и пещерах ледникового периода то, что вам нужно… Теперь этот дурной стиль перекочевывает из естественных наук в гуманитарные. А тому, кто находит нечто нежелательное, грозит инквизиция» [5, с. 29]. Данный отрывок – прозрачный намек на фальсификацию данных в науке в период правления национал-социалистов.
Автор «Гелиополиса» рассуждает над такими понятиями, как свобода, бессмертие, совесть, свобода совести. Борьба двух властителей не ограничивается взаимными обвинениями. Согласно мнению одного из главных персонажей, Луция, «человека должен побороть сверхчеловек, мы одобряем учение Заратуштры. Следующий шаг будет состоять в том, что и сверхчеловека тоже необходимо побороть, и он потерпит крах от человека, который в борении с ним добудет высшую власть» [Там же, с. 407]. Мир Юнгера противопоставлен в романе прошлому миру национал-социалистов.
А.А. Ворожбитова, профессор Сочинского государственного университета, выделяет как «свойства моделей реальности, создаваемых средствами рациональной фантастики, такие особенности, как проецирование в грядущее тенденций развития современного общества; типизацию характеров героев рациональной фантастики: ученого, землянина, инопланетянина, мыслящей машины и т. п.; логическую рационально-фантастическую посылку (открытие, космическую экспансию или войну); поддержание иллюзии достоверности происходящего, сопоставление фантастического будущего с реальным прошлым, апелляцию к научным источникам и документальным материалам» [6, с. 50].
В романе другого немецкого автора Г. Казака «Город за рекой» [3] город – убежище умерших людей, которые готовятся перейти в небытие. Герой попадает в полуразрушенный город. Роберт сразу осознает загадочность города, он заворожен непонятным и непознанным. Постепенно, следуя за Кателем и Анной, он начинает осознавать миссию города и значение его символов. Автор проводит героя от одной инстанции к другой, где Роберт проходит курс обучения новому миропониманию. Как считает Е.В. Майорова в работе «Структура городского пространства в романе Г. Казака «Город за рекой», «условно в горизонтальном устройстве города можно выделить три яруса. Первый – наземный, где находятся здание городской Префектуры, казармы, древний храм, разрушенные жилые помещения, а также трамвай, который развозит жителей и редких гостей; второй и третий - подземные, в которых располагаются районы катакомб, лабиринт с переходами, две фабрики и служебные помещения Архива» [7]. Как справедливо замечает Т.А. Шарыпина, «герои Г. Казака живут как бы в двух измерениях: в вечности и в современности, что роднит взгляды автора с эстетической системой Т. Манна, в творческой практике которого происходит оригинальное сближение категорий мифического и типического» [9, с. 103].
Мир, изображаемый в классической антиутопии, замкнут, он не терпит взгляда извне и уничтожает непокорных. У Г. Казака мы встречаем иную ситуацию: префектура города мертвых приглашает чужака, «неверующего», как его потом называют, для написания хроники, им важен глаз стороннего наблюдателя, а цель создания такой хроники состоит в том, чтобы спасти историю города от забвения. Для сравнения не стоит забывать, как поступали с историческими документами в романе Дж. Оруэлла «1984» [8]. В романе Г. Казака, напротив, главная инстанция – городской Архив, где и работает Р. Линдхоф, а его туда приглашают на роль «хранителя». Помимо этого, герою отведена роль спасите -ля-Мессии – он убеждает умерших солдат вернуться назад, за реку и увещевать живущих: «Как духи являйтесь им в сновидениях, во сне, в этом состоянии, которое так сходно с вашим. Предостерегайте их, напоминайте о себе и, если нужно, мучайте их. У вас в руках ключ суда. Настоящее вашей смерти могло бы спасти будущее их жизни» [12, с. 241].
В художественном дискурсе другого автора, Нобелевского лауреата Г. Грасса, происходит создание системы идиолекта, уникального в своем роде. Фантасмагорические модели реальности выражены в дискурсе рассказчика с частотной регулярностью. В романе «Крысиха» Г. Грасс рисует катастро- фическую картину после ядерной войны, в которой уцелели только крысы. В «Крысихе» речь идет о судьбах всего человечества, о возможностях выживания. Само произведение сближается - по форме и композиции - с антиутопией, в которой автор использует элементы сатирической притчи, фантастики. Роман начинается с описания рассказчиком своего рождественского желания – получить в подарок крысу. Его желание получить крысу в подарок вызывает насмешки: «Зачем? только потому, что они теперь в моде? Почему не ворону? Или как в прошлом году: стаканы, изготовленные стеклодувом? Ну да ладно, желание есть желание» [10, с. 7] (перевод наш. - П.И.). Полученный рождественский подарок начинает вести себя странным образом: рассуждать обо всем на свете, постоянно поучать человека. Крысиха становится собеседником, партнером героя. Предметом бесконечных диалогов Крысы и рассказчика являются судьбы мира, выживание человечества, проблемы будущего. В значительной части романа хозяйничает Крысиха. Такая отчуждающая инстанция, неожиданный угол зрения открывают перед рассказчиком возможность нетрадиционной интерпретации катастрофического положения, когда природа и люди оказались на грани вымирания. В «Крысихе» Г. Грасс пытается решить для себя глобальные проблемы: речь идет о перспективах человечества, о судьбах цивилизации. Он широко пользуется приемами условности при написании этой антиутопии, в которой сочетаются элементы сатирической притчи, фантазии, пародийной автобиографии. Фрагментарное изложение событий 1980-х годов соединяется с постъядерными видениями, путешествиями во времени и пространстве, чередуется вставками стихотворений на тему главных авторских рассуждений. Картина высохшего леса в некогда обширном лесном бору представлена автором в сатирическом ключе: на фоне искусственных декораций из бумажных елок произносит свою предвыборную речь федеральный канцлер, работают журналисты, выступление снимает телевидение. Никто не замечает, что лес ненастоящий.
Роман Грасса был воспринят немецкой критикой как преувеличение, «провокация». Автор от имени рассказчика призывает людей, все человечество быть бдительными перед угрозой новой мировой войны, необходимо, по мнению автора, уже сейчас принимать действенные меры по сохранению экологического баланса на нашей планете: “Als wir noch kürzlich durch die alte Stadt Danzig gingen und du unverhohlen Freude zeigtest über den zwar rußgeschwärzten guterhaltenen Zustand der vielen historischen Sehenswürdigkeiten, magst du gedacht haben: erstaunlich wie unbekümmert der Rattenalltag nach dem Großen Knall verläuft. Doch dieser Eindruck täuscht. Immer noch werden wir von plötzlichen Staubstürmen heimgesucht, gegen deren zersetzenden Wirkung nur Flucht in die Gangsysteme hilft” [Там же, c. 228].
Повесть-утопия современного швейцарского автора Кристиана Крахта описывает события в воображаемой Швейцарской Социалистической республике, воюющей с Германией и Англией, причем военные действия длятся уже несколько десятков лет. Как оказалось, «великий конфедерат товарищ Ленин, вместо того чтобы вернуться в опломбированном вагоне в распадающуюся, раздираемую на части Россию, остался в Швейцарии и после десятков лет войны основал Советы в Цюрихе, Базеле и Нойберне. Гигантская Российская империя была сплошь вымершим пространством, наполненным ядовитой пылью и смертоносным пеплом» [11, с. 84]. Одной из ярких реалий войны в описаниях К. Крахта является Редут, оборонительное сооружение, построенное на границе Швейцарской республики. Ряды воюющей ШСР постоянно пополняют жители Мозамбика, Центрально-Африканской республики, Ньяса-Ленда. Сюжет повести разворачивается при помощи описания переживаний чернокожего офицера швейцарской армии, который преследует врача-телепата с заданием убить его. Женщина, в которую влюблен главный герой, - биоробот, «от ее затылка исходит металлический запах, рядом с подмышкой у ней в кожу вживлена розетка». Автор проводит этого швейцарского офицера через смерти близких и незнакомых людей на встречу с Николаем Рерихом. Псевдореалистичность описания обстановки, окружения главного героя, постоянно продолжающихся военных действий очень напоминает роман Дж. Оруэлла «1984» [8]. Например: «Швейцарские войска одерживали одну победу за другой. На юге и Мозамбике они противостояли в позиционной войне бурам, на севере их влияние простиралось до границ эфиопской империи.... Вниз по Замбези, вверх по Нилу и на восток до самого Конго возводились укрепленные порты, останавливалось течение рек, гнали декадентских англи- чан, холерных немцев и вонючих миссионеров, одолевали чуму у крупного рогатого скота и истребляли муху цеце» [11, c. 113]. В конце концов комиссар-африканец совершает исход к истокам – в Африку, к своим соплеменникам, которые так же, как и он, отказались от благ цивилизации в пользу мира и покоя. По всему тексту щедро раскиданы символы и намеки. Данное произведение К. Крахта, по нашему мнению, можно отнести к жанру социально-политической утопии.
Фантастичесие миры, представленные в произведениях немецкоязычных писателей, можно рассматривать как утопии или антиутопии, как постапокалиптическую картину (в особенности в вышеназванном произведении Г. Грасса), как зловещее предсказание автора о возможном будущем, как перспективу возможного развития событий при условии – «что было бы, если?». В настоящем виде антиутопия и утопия могут рассматриваться как единый жанр.
Список литературы Поэтика пространства в немецкоязычной художественной прозе XX в
- Ворожбитова А.А., Стасива Г.Д. Русский научно-фантастический дискурс XX века как лингвориторический конструкт: моногр. Сочи: РИЦ ФГБОУ ВО «СГУ», 2018.
- Жирмунская Н.А. Новеллы Гофмана в сегодняшнем мире. [Электронный ресурс]. URL: https://www.litmir.me/br/?b=176761&p=1 (дата обращения: 18.05.2022).
- Казак Г. Город за рекой / пер. с нем. Т Холодовой. М.: Прогресс, 1992.
- Ковтун Н.В. Поэтика необычайного: художественные миры фантастики, сказки, утопии, притчи и мифа (на материале европейской литературы первой половины XX в.). М.: Изд-во Моск. ун-та, 1999.
- Крахт К. Я буду здесь, на солнце и в тени / пер. с нем. С. Горбачевской, Д. Лынника. М.: Литпром: Астрель, 2009.
- Кузнецова А.В. Генезис жанров утопии и антиутопии в английской литературе XX в. // Проблемы истории, филологии, культуры. 2012. № 2(36). С. 248–264.
- Майорова Е.В. Структура городского пространства в романе Г. Казака «Город за рекой» // Вестник Санкт-Петербур. ун-та. Сер. 9. Филология. Востоковедение. Журналистика. 2007. № 3-2. С. 37–42.
- Оруэлл Дж. 1984 / пер. с англ. И. Мизининой. М.: Яуза, 2020.
- Парнов Е.И. В увеличительном зеркале фантастики / Сборник научной фантастики. Вып. 22. М.: Знание, 1980. [Электронный ресурс]. URL: http://litlife.club/br/?b=67112&p=1 (дата обращения: 18.05.2022).
- Шарыпина Т.А., Новикова В.Г., Кобленкова Д.В. История зарубежной литературы XX в. М.: Юрайт, 2018.
- Юнгер Э. Гелиополь / пер. с нем. Г. Косарик. М.: АСТ, 2018.
- Grass Günter. Die Rättin. Darmstadt: Luchterhand Verlag, 1986.