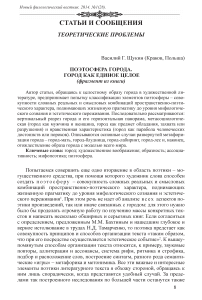Поэтосфера города. Город как единое целое (фрагмент из книги)
Автор: Щукин Василий Георгиевич
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Статьи и сообщения. Теоретические проблемы
Статья в выпуске: 1 (28), 2014 года.
Бесплатный доступ
Автор статьи, обращаясь к целостному образу города в художественной литературе, предпринимает попытку классификации элементов поэтосферы - совокупности сложных реальных и смысловых комбинаций пространственно-поэтического характера, поднимающих жизненную прагматику до уровня мифологического сознания и эстетического переживания. Последовательно рассматриваются: вертикальный разрез города и его горизонтальная панорама, метасоциологическая (город как мужчина и женщина, город как предмет обладания, захвата или разрушения) и нравственная характеристика (город как парабола человеческих достоинств или пороков). Описываются основные случаи развернутой метафоризации города - город-мать, город-блудница, город-лабиринт, город-лес и, наконец, отождествление образа города с моделью всего мира.
Город, художественное воображение, образность, ассоциативность, мифопоэтика, поэтосфера
Короткий адрес: https://sciup.org/14914428
IDR: 14914428
Текст научной статьи Поэтосфера города. Город как единое целое (фрагмент из книги)
Попытаемся совершить еще одно вторжение в область поэтики – могущественного средства, при помощи которого художник слова способен создать поэтосферу – совокупность сложных реальных и смысловых комбинаций пространственно-поэтического характера, поднимающих жизненную прагматику до уровня мифологического сознания и эстетического переживания1. При этом речь не идет об анализе всех аспектов поэтики произведений, так или иначе связанных с городом: для этого нужно было бы проделать огромную работу по изучению массы конкретных текстов и написать несколько обширных и серьезных книг. Если согласиться с определением, предложенным М.М. Бахтиным и нашедшим глубокое и верное истолкование в трудах Н.Д. Тамарченко, то поэтика предстает как совокупность принципов и способов организации текста «таким образом, что при его посредстве осуществляется эстетическое событие»2. К вышеупомянутым способам организации текста относятся, к примеру, звуковые повторы, аллитерации и ассонансы, система рифм, ритмика и строфика, подбор и расположение слов, построение синтагм, разного рода семантические «игры» – метафорика и метонимика. Все эти важные и интересные элементы поэтики литературного текста я обхожу стороной, обращаясь к ним лишь спорадически, когда представится удобный случай. За пределами так построенного исследования по большей части останутся также
проблемы сюжетосложения и композиции, хотя именно в этой области, как блестяще показал Бахтин в фундаментальном исследовании о хронотопе3 не столь трудно проследить известный изоморфизм между композицией городской среды в пространстве и жизнью горожан во времени. Главное мое внимание будет сосредоточено на изображенном в литературно-художественном произведении мире, на сфере образов. Иными словами, я буду говорить преимущественно об эйдологической поэтике.
* * *
Описание реестра образов, при помощи которых может быть описан город, его составные части и конкретные локусы, я начну с поэтической характеристики города как единого целого.
Визуально он может быть изображен двояко. Писатель может использовать прием вертикального разреза города или его горизонтальной панорамы, в том числе вида сверху, «с птичьего полета».
По вертикали чаще всего рассекается не целый город, а отдельный дом, «от чердака или мансарды до подвала». Дом при этом выступает в роли синекдохи города: целое уподобляется его части. При этом на дом проецируются все предполагаемые свойства города как социального организма, как их определяет Ю.В. Манн: «соединяемость, объеди-ненность всех при разъединении и изолированности семей или лиц (на каждом этаже – люди определенного социального уровня); перемещение с одного этажа на другой как эмблема успехов, удач, трагедий – словом, всей жизни»4. Он же приводит примеры рассечения городского дома по вертикали: «Исповедь» Ж. Жанена, «Феррагус» Бальзака, «Пять этажей» Беранже, некоторые европейские и русские физиологии. Ярким примером может послужить также характеристика Буркова двора и обитателей большого доходного дома, в котором поселился герой повести А.М. Ремизова «Крестовые сестры».
Горизонтальная панорама города тоже может служить комплексом образов, позволяющих проиллюстрировать социальную структуру общества и всевозможные социальные контрасты. Достаточно расска-

зать о парадных площадях со стоящими на них великолепными храмами и дворцами, а потом поведать о кварталах, где ютится городская беднота. Уникальное решение удалось найти Гоголю в «Невском проспекте»: он изобразил не разные районы Петербурга, а только главную улицу, но эта улица, в отличие от демократичного по своей природе карнавала, в котором смешиваются друг с другом люди разных состояний и званий, «сохраняет между ними перегородки и дистанцию»5.
Однако поэтика города далеко не всегда служит целям социологического анализа. Немецкие романтики открыли город как высшее проявление противоречий в области человеческих отношений. «Нигде человек не чувствует себя одновременно столь связанным и столь отъединенным, как в городе, – утверждает Ю.В. Манн, излагая их мысли со ссылкой на работу М. Тельман6. – Город – знак коммуникабельности и отчуждения вме-сте»7. Разумеется, это тоже социология, но социология в высшем смысле – социологическая метафизика.
Тот же Гоголь изображает Миргород издали и как бы немного сверху. Повествователь «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» утверждает, что этот город «весьма походит на тарелку, наполненную блинами, а еще лучше на губки, нарастающие на дереве»8. Миргород не составляет единого пространства: он весь разделен на «блины» или «губки» – растительные и «пищевые» метафоры отдельных домиков-мирков, ущербных подпространств собственности. И вполне обоснованно звучит в этой связи блестящая характеристика Ю.М. Лотмана: «Миргород, обуянный эгоизмом, перестал быть пространством – он распался на отдельные частицы и стал хаосом»9. (Подробнее о пространстве Миргорода см. там же10). Другие классические примеры «метафизических» городских панорам – это прощальная панорама Москвы с Воробьевых гор, с «ломаным солнцем», радугой, пьющей воду из Москва-реки, и «пряничными» башнями Новодевичьего монастыря, в тридцать первой главе романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»11, или несравненно прекрасная и в то же время тревожная панорама Петербурга с Николаевского моста во второй главе второй части «Преступления и наказания»:
«Небо было без малейшего облачка, а вода почти голубая, что на Неве так редко бывает. Купол собора, который ни с какой точки не обрисовывается лучше, как смотря на него отсюда, с моста, не доходя шагов двадцать до часовни, так и сиял, и сквозь чистый воздух можно было отчетливо разглядеть даже каждое его украшение <...> Он стоял и смотрел вдаль долго и пристально; это место было ему особенно знакомо. Когда он ходил в университет, то обыкновенно, – чаще всего, возвращаясь домой, – случалось ему, может, раз сто, останавливаться именно на этом же самом месте, пристально вглядываться в эту действительно великолепную панораму и каждый раз почти удивляться одному неясному и неразрешимому своему впечатлению. Необъяснимым холодом веяло на него всегда от этой великолепной панорамы; духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина... Дивился он каждый раз свему угрюмому и загадочному впечатлению и
откладывал разгадку его, не доверяя себе, в будущее»12.
Город как целое, это грозное и прекрасное нагромождение дворцов и трущоб, может стать для героя препятствием, а встреча с ним – суровым испытанием. Герой очень часто берет город приступом в прямом или метафорическом значении этого слова. В этом случае активизируется «мифологема въезда (вхождения) в город божественного персонажа, оказывающегося спасителем и женихом, что в свою очередь связано с мифологической идеей о женской природе города. Город завоевывают, подчиняют себе, берут, как невесту»13.
«Пол» города – это особая проблема, заслуживающая отдельного исследования. Мифопоэтика не любит половой нейтральности, ибо одним из ее основополагающих принципов является антропоморфизм. Все мы представляем известные нам города в образе или мужчины, или женщины – чаще всего в зависимости от грамматического рода имени города: Москва – немолодая, немодно одетая женщина, мать; Петербург – немного чопорный, вытянутый в струнку мужчина, скорее всего, военный; Париж – остроумный красавец-щеголь... Но современный грамматический род – образование вторичное, далеко не всегда отражающее глубоко укоренившиеся в нас мифологические представления. У города как явления человеческой культуры женская, а не мужская природа. К.Г. Юнг замечает в этой связи: «Город – это символ материнства, женщина, которая лелеет обитателей города как своих детей <...> Ветхий Завет рассматривает города Иерусалим и Вавилон как женщин»; «Крепости, непокоренные города – это девственницы; колонии – это сыновья и дочери матери. Но города могут быть также распутными девками...» (перевод мой. – В.Щ. ) 14.
Архетип города-женщины сложился в далекие доисторические времена, о чем свидетельствуют многочисленные фольклорные источники15. Далее: и Афины (Aqina, Athina), и Рим (Roma) – женского рода, и античная традиция всегда символизировала их в образе женщины16. И, наконец, библейская топика города-девы и города-блудницы, вобравшая в себя древнейшие мифологические представления17, многократно актуализируется и в Средневековье, и в Новое время. Так, например, с развратным и деспотическим Вавилоном постоянно сопоставляются дореволюционный Петербург и Москва после 1918 г. И наоборот: для славянофилов ХIX в. роль невинной девы играет Москва, а для западников ХХ в., живущих на берегах Невы, – северная столица. Мифологема города-женщины оказалась исключительно важной для Гоголя, создавшего «женский» (по своей глубинной мифопоэтической сути) образ города в «Ревизоре» и образ Хлестакова – травестируемого «жениха», который покоряет этот город мнимым обаянием и мнимой значительностью. Еще более «женственен» польский город Дубно в повести «Тарас Бульба»18.
Город как целое может выступать в словесно-художественном произведении как парабола некоего комплекса свойств – например, националь-
ной и, шире, человеческой добродетели или такого же всеохватывающего недуга, исторической драмы и т.п. Исследователи неоднократно писали о параболичности гоголевских городов – Миргорода, Петербурга, Парижа и Рима (в повести «Рим»), в несколько меньшей степени – Москвы, к которой Гоголь относился двойственно19. К этому можно добавить Лихов (в романе «Серебряный голубь») и Петербург Андрея Белого, горьковский «городок Окуров», Любимов из одноименной повести Абрама Терца, Ибанск из «Зияющих высот» Александра Зиновьева и многие другие города, созданные воображением русских писателей. О параболичности их образов зачастую свидетельствуют их названия.
Гораздо чаще город вызывает у писателей свободные поэтические ассоциации. Таким образом возникают самые разнообразные метафоры, служащие раскрытию его поэтической и мифопоэтической сущности. Например: коль скоро город – женское существо, которое призвано защищать своих жителей («детей»), то он может быть назван матерью . Эту метафору применяет, к примеру, Лермонтов в поэме «Сашка» («Москва, Москва!.. Люблю тебя, как сын...»), Лев Толстой в «Войне и мире», а в не столь отдаленные времена хотя бы Юрий Визбор и Дмитрий Сухарев – авторы текста песни «Александра» из кинофильма «Москва слезам не верит» (1979):
Любовь Москвы не быстрая, Но верная и чистая, Поскольку материнская Любовь других сильней20.
Другие женские метафоры, которые появляются в воображении поэтов и писателей, создающих образы городов или города вообще, – это, как уже говорилось, дева и блудница, а также просто женщина.
Город может быть изображен и как животно е – спящее, шевелящееся или агрессивно настроенное, но во всяком случае неприятное, вызывающее отвращение – черные, мохнатые или слизкие чудовища, с противными лапами-щупальцами. Таковыми бывают города «вавилонского» типа (города-блудницы), а литературе Нового времени – большие капиталистические города. Наиболее распространенная метафора подобного рода – город-спрут, получившая широкую популярность благодаря поэтическому сборнику Эмиля Верхарна «Города-спруты» («Les Villes tentaculaires», 1895). Встречаются также города-пауки и даже города-кроты (Петр Лопатин). Так, наприме р , антиурбанист Петр Кожевников сравнивает в рассказе «Вокзал» сеть пригородных железных дорог с паутиной: «И тогда куда-то, почему-то, как слепые, должны ехать люди. И едут каждый день, часть горожан – дань просторам. – Это ими откупился город. А сам – он уцелел. И опять стоит и строит и, как паук, ткет над землей свою геометрию»21. А Петр Лопатин в пропагандистской книге, посвященной градостроительству, пишет о городах «капиталистического 12
Запада»:
«Там город, как слепой крот, врывается в подземные галереи, как бы прячась в них от солнечного света. Он заливает асфальтом и сковывает желбетоном каждое дерево, каждый кустик, каждый побег травы. Побольше выгоды для власть имущих и поменьше света, воздуха и зелени для всех остальных – вот основная заповедь растущего сейчас капиталистического города»22.
Но, в принципе, вполне можно вообразить себе сравнение города с симпатичным животным – собакой, кошкой, птицей. Довольно часто город изображается как жилище многочисленных животных – муравейник, гудящий улей, термитник, курятник. Так легче всего создать образ городской сутолоки и городского шума. Возможны и неодушевленные метафоры – например, «каменный мешок»: вышеупомянутый П. Кожевников сравнивает город с мешком, который «мнет» ночных любовниц «в своих лапах, в объятиях каменных»23. На фоне этих распространенных, а иногда и избитых метафор гоголевское сравнение Миргорода с тарелкой блинов представляется редкой и удивительной находкой.
Еще одна примечательная метафора, великолепно передающая сущность города – это лабиринт, в котором легко заблудиться. Позволю себе в связи с этим рассказать сон, который мне приснился 28 января 2007 г., около пяти часов пополудни. Мне снилось, что я вышел из моего краковского дома буквально на часок, только для того, чтобы зайти в кафе и выпить чашечку кофе, пока жена не пришла с работы (потом уже не погуляешь). Я иду в центр города, ищу подходящего места и замечаю новую симпатичную булочную на углу Гродской улицы и Доминиканской площади, в которой, как в Италии, подают кофе, пирожные и булочки. Но я иду не туда, а в соседнее кафе слева: нельзя же взять да и зайти в первое попавшееся. Но слева слишком много народу, все столики заняты, а у самой двери стоит группа веселых подвыпивших мужчин, в том числе негр, видимо, прилетевший из Лондона погулять. Они жестами приглашают меня войти, но я не хочу. Возвращаюсь в булочную на углу, смотрю в окно – но там уже нет ни булочек, ни кофейного экспресса, а только хлеб и подозрительного вида пироги с творогом. И совсем пусто. Последние покупатели выходят на улицу с хлебом, и продавщица вроде бы собирается закрывать. «Пойду-ка я еще в одно место, напротив, рядом с магазином, где продаются галстуки, – думаю я. – Там уютно. Нет, а может, лучше рядом слева, в самом углу площади? Там ведь открылась новая чайная». В это время колокол на Мариацком костеле начинает звонить три часа: минут через двадцать жена придет домой и меня не застанет. Надо бы ей позвонить и предупредить, но вот беда – я вспоминаю, что оставил телефон дома, на письменном столе. Мелькает мысль: «Это потому что пятница, конец недели и конец семестра». Досадно – но я все-таки не хочу сдаваться и иду в чайную. Заглядываю в окно: пустых столиков полным-полно. «Но там же надо ждать, пока подойдет официант и пока обслужит», – вспоминаю я, но
вхожу. В дверях мне мешают выходящие люди. Внутри темная, прокуренная зала, дым коромыслом; слева диван, а на нем лежит пьяный мужчина в пиджаке и брюках. Иду по лестнице вниз, в подвал: там, наверное, есть зал для некурящих. Навстечу мне поднимаются какие-то пьяные русские бабы, которые разговаривают друг с другом с недовольством в голосе. В подвале туман и совсем-совсем темно. Все тонет в туман: не видно ни стойки, ни столиков. Нет, тут страшно, скорей бежать отсюда, – иду назад, наверх, выбегаю на улицу и... просыпаюсь.
Почему я считаю, что это сон о городе-лабиринте? Я понимаю это следующим образом. В городе западного типа человек попадает в ловушку – в тесное, плотно застроенное пространство со множеством возможностей для выбора. Человеческая психика начинает чувствовать себя как в лабиринте, потому что в неупорядоченном хаосе потребительских предложений на самом деле легко заблудиться. Но ни одна из предоставленных возможностей в действительности не в состоянии человека до конца удовлетворить – потому во сне я и продолжал искать лучшего места. Город-лабиринт – метафора общества, целиком и полностью зависящего от спроса и предложения: тут и иллюзия неограниченных возможностей, и недоступность полной, настоящей радости от их действительного удовлетворения. В моем сне кофе можно было вроде бы выпить всюду – но всегда с примесью чего-то неприятного, добавленного правилами безжалостного рынка.
Современный город – это тоже лабиринт, образованный напряженным и «закрученным» временем. В таком городе, как в моем сне, всегда что-нибудь не успеваешь сделать, там всегда надо смотреть на часы, тебя на каждом шагу подгоняет время, и о спокойной, размеренной жизни приходится только мечтать. Городская свобода становится проклятьем, когда человек оказывается связанным по рукам и ногам сложной путаницей норм и обязанностей. А бывает, что хочется просто расслабиться и отдохнуть от всего этого. Но, с другой стороны, не надо забывать, что, слушая подобные рассуждения, наверное, очень обрадовался бы Илья Ильич Обломов...
Синонимом города-лабиринта может стать город-лес. «Москва окружает нас, как лес», – писал Юрий Трифонов в своем последнем романе с многозначительным заглавием – «Время и место» (1981). Мысль писателя может, на мой взгляд, быть понята двояко. Во-первых, лес защищает, укрывает от опасности, и, таким образом, город выполняет свою первичную, архаическую роль. Но, с другой стороны, в городе, как в дан-товском лесу, можно заблудиться в смысле духовном или нравственном, как это часто случалось с героями Трифонова. Чем больше город и чем сложнее он устроен, тем большую нравственную опасность он представляет, но человека честного и сильного духом он и защитит, и приголубит.
Не так уж трудно восстановить в памяти или просто представить себе наиболее типичные эпитеты, связанные с образами городов. Рискну предложить читателю небольшой их список. Город может быть: пышный , бедный (А.С. Пушкин – первое, что приходит в голову при слове «город», ког-
да думаешь о поэзии), душный («неволя душных городов» в «Цыганах»), большой («А Москва – город большой» в рассказе А.П. Чехова «Ванька»), огромный , непобедимый , непреклонный , легендарный , маленький , крохотный , родной , милый , любимый , знакомый , приветливый , уютный , тихий , сонный , зеленый , голубой (Л. Куклин: «Снятся людям иногда голубые города, у которых названия нет»), вечный (обычно связывается с Римом). И целый ряд негативных: грязный , зловонный , вонючий , пыльный , знойный , холодный , проклятый , больной , призрачный , обманный , колдовской , дьявольский , мертвый , подземный , адский (хотя вряд ли может быть город райский )... А также несогласованные определения: с характером , у моря , на краю , на берегу , на заре , в потоках света , в лучах солнца , в облаке тумана ... Перечень, разумеется, может быть продолжен.
Исследователи форм городской среды справедливо обращают внимание на то, что человек мысленно соединяет переживаемое городское пространство с переживаемым историческим временем24. Городская архитектура хранит в себе живой образ старины. Кроме того, в городе есть места, непосредственно вошедшие в историю. Это улицы, площади и здания, на которых и в которых происходили события, изменившие судьбу страны и человечества в целом. Это также места, связанные с воображаемой, а следовательно, мнимой жизнью литературных героев: в Париже можно без труда найти место, где был убит Гаврош, а в Петербурге – дома, где жили Пиковая Дама, Илья Ильич Обломов и Родион Романович Раскольников. Писатели и поэты, создавая образы городов, не забывают об исторической памяти, которую хранят городские улицы и стены их домов. Отсюда возникают исторические ассоциации : Новгород – город «древних вольностей», Петербург – «град Петра» или «колыбель революции», Козельск – «злой город», дольше всех других сопротивлявшийся монголам. Широко используются современные мифы и легенды, связываемые с городом в устной молве: Петербург – «город военных», «город женихов»; Иваново – «город ткачих», в городе Валдай живут податливые девицы (у А.Н. Радищева в «Путешествии из Петербурга в Москву») в польском городке Пацанове куют коз (в детском комиксе Яна Бжехвы «Козлик-глупоз-лик»).
Образ города как целого тоже может послужить метафорой, например, в соответствии с древней традицией отождествления города и мира, микро- и макрокосма. Антропоморфность архитектурного образа древних городов, ориентированность их структуры на четыре стороны света, расположение на семи холмах и прочие случаи использования мифологии чисел, а также уподобленность старинных городов городам «святым», Иерусалиму, Риму или Константинополю – все это облегчало поэтические проекции образа городов в идеальную, но конгениальную человеку территорию, а также в историю и вечность. Весь мир представлялся древним людям как обжито е пространство, а оно, в свою очередь, в мифах и легендах изображалось как чистое и красивое. Латинское слово mundus – ‘мир’ буквально означает «чистый, красивый, нарядный, элегантный». По
своему происхождению это слово связано с древнеиндийским mandala – ‘магический круг, шар’, производным от той же самой основы – mondo . Город, таким образом, представлял собой микромодель «мандального», идеально упорядоченного, гармоничного мира. Город мечтался как «космос» – порядок, противопоставленный хаосу, недостатку цивилизованности по ту сторону городских стен25. Этот идеал образа города был необходим и для того, чтобы по контрасту с ним создавать образы городов-призраков, городов-спрутов и городов-блудниц.
Приведенный мною перечень развернутых метафор, служащих для образного представления города как целого, разумеется, не является полным. С другой стороны, он принципиально не может быть бесконечен. Строгая ограниченность арсенала поэтических средств, а также родов и жанров – один из важнейших принципов, лежащих в основе поэтики и культуры в целом. Иное дело – алгоритмы, творческие модификации моделей, «хранящихся» в поэтическом арсенале. Их число практически неограничено.
Список литературы Поэтосфера города. Город как единое целое (фрагмент из книги)
- Топоров В.Н. Аптекарский остров как городское урочище (общий взгляд)//Ноосфера и художественное творчество. М., 1991. С. 200-201
- Тамарченко Н.Д. Теоретическая поэтика. Введение в курс: Учебное пособие для студентов филологических факультетов университетов и пединститутов. М., 2006. С. 45
- Бахтин М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике//Бахтин М. Проблемы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М., 1975. С. 234-407
- Манн Ю.В. Творчество Гоголя: смысл и форма. СПб., 2007. С. 495
- Thälmann M. Romantiker entdecken die Stadt. München: Nymphenburger, 1965. P. 18
- Манн Ю.В. Творчество Гоголя: смысл и форма. С. 495
- Гоголь Н.В. Собрание сочинений: В 6 т. М., 1949-1950. Т. 2. С. 186
- Лотман Ю.М. Проблема художественного пространства в прозе Гоголя//Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. Т. 1. Таллинн, 1992. С. 433
- Лотман Ю.М. Проблема художественного пространства в прозе Гоголя//Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. Т. 1. Таллинн, 1992. С. 433
- Булгаков М.А. Избранное: Мастер и Маргарита. Роман; Рассказы/Предисл. Е. Сидорова; примеч. М. Чудаковой. М., 1988. С. 363-364
- Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 6. Л., 1973. С. 89-90
- Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 6. Л., 1973. С. 89-90
- Манн Ю.В. Творчество Гоголя: смысл и форма. С. 493
- Фрейденберг О.М. Въезд в Иерусалим на осле (из евангельской мифологии)//Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М., 1978. С. 491-531
- Фрейденберг О.М. Въезд в Иерусалим на осле (из евангельской мифологии)//Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М., 1978. С. 491-531
- Jung C.G. Wandlungen und Symbole der Libido. Leipzig; Wien, 1938. P. 200, 201
- Неклюдов С.Ю. «Баба идет -красивая, как город...»//Живая старина. 1944. № 4. С. 8
- Неклюдов С.Ю. «Баба идет -красивая, как город...»//Живая старина. 1944. № 4. С. 8
- Анциферов Н.П. Проблемы города в русской художественной литературе [машинопись кандидатской диссертации]. М., 1944//Российская национальная библиотека. Отдел рукописей. Ф. 27. Дисс. Т. II. С. 124
- Франк-Коменецкий И.Г. Женщина-город в библейской эсхатологии//Сергею Федоровичу Ольденбургу к пятидесятилетию научно-общественной деятельности: 1882-1932. Л., 1934. С. 531-548
- Топоров В.Н. Текст города-девы и города-блудницы в мифологическом аспекте//Топоров В.Н. О мифпоэтическом пространстве. Lo spazio mitopoetico: Избр. статьи/Изд. подгот. М. Евзлин и Н. Михайлов. Genova, 1994. С. 245-259 (Studi slavi. Instituto di Lingua e Letteratura russa. Università degli studi di Pisa. № 2)
- Кривонос В.Ш. Повести Гоголя: пространство смысла: Монография. Самара, 2006. С. 114-116
- Манн Ю.В. Творчество Гоголя: смысл и форма. С. 491-501
- Манн Ю.В. Москва в творческом сознании Гоголя (Штрихи к теме)//Москва и «московский текст» русской культуры: Сб. статей/Отв. ред. Г.С. Кнабе. М., 1998. С. 63-81
- Кривонос В.Ш. Мотивы художественной прозы Гоголя. СПб., 1999
- Кривонос В.Ш. Повести Гоголя: пространство смысла. С. 34-53, 104-126, 242-258, 394-428
- Щукин В.Г. Романтический урбанизм и смысловые координаты гоголевского городского пространства//Гоголь как явление мировой литературы. По материалам международной научной конференции, посвященной 150-летию со дня смерти Н.В. Гоголя. 31 октября -2 ноября 2002 г. М., 2003. С. 61-66
- Любимые песни и романсы: Сб. песен/Сост. Н.В. Полетаева, В.Н. Халамова. Изд. 3-е. Челябинск, 2002. С. 392
- Кожевников П. Рассказы. М., 1908. С. 33-34
- Лопатин П.И. Город настоящего и будущего. М., 1925. С. 103
- Кожевников П. Рассказы. Кн. II. СПб., 1910. С. 81-82
- Иконников А.В. Искусство, среда, время (Эстетическая организация городской среды). М., 1985. С. 111-160
- Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры: Опыт исследования. М., 1997. С. 96-106