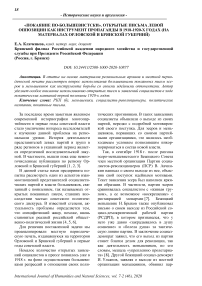"Покаяние по-большевистски". Открытые письма левой оппозиции как инструмент пропаганды в 1918-1920-х годах (на материалах Орловской и Брянской губерний)
Автор: Кляченков Е.А.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Исторические науки и археология
Статья в выпуске: 7-2 (46), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе материалов региональных архивов и местной периодической печати рассмотрен вопрос использования большевиками покаянных писем эсеров и меньшевиков как инструмента борьбы со своими идейными оппонентами. Автор уделяет особое внимание использованию открытых писем и заявлений социалистов в ходе политических кампаний первой половины 1920-х годов.
Ркп (б), меньшевики, социалисты-революционеры, политические кампании, покаянные письма
Короткий адрес: https://sciup.org/170190843
IDR: 170190843 | DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10877
Текст научной статьи "Покаяние по-большевистски". Открытые письма левой оппозиции как инструмент пропаганды в 1918-1920-х годах (на материалах Орловской и Брянской губерний)
За последнее время заметным явлением современной историографии многопартийности в первые годы советской власти стало увеличение интереса исследователей к изучению данной проблемы на региональном уровне. История деятельности представителей левых партий и групп в ряде регионов в указанный период является определенной исследовательской лакуной. В частности, вышли пока еще немногочисленные публикации по региону Орловской и Брянской губерний [1, 2, 3].
В данной статье нами предпринята попытка рассмотреть один из аспектов взаимоотношений представителей социалистических партий и власти большевиков, связанный с появлением, так называемых открытых покаянных писем, ставших впоследствии частью советского политического дискурса. В известной степени, актуальность проблемы определяется тем, что специфический жанр, похоже, вновь становится реалией российской общественно-политической жизни [4, 5, 6].
Для решения поставленной задачи мы проанализировали местную периодическую печать, издававшуюся на территории Орловской и Брянской губерний в первые годы советской власти.
Немалое количество открытых заявлений социалистов в прессе появилось уже в 1918 г. на фоне осуществления большевиками репрессий в отношении своих поли- тических противников. В таких заявлениях социалисты объявляли о выходе из своих партий, нередко с подробной мотивировкой своего поступка. Для эсеров и меньшевиков, порвавших со своими партийными организациями, это являлось необходимым условием позволявшим инкорпорироваться в состав новой власти.
Так, в сентябре 1918 г. после разгона эсеро-меньшевистского Бежицкого Совета член местной организации Партии социалистов-революционеров (ПСР) В. Авчин-кин написал о своем выходе из нее, объяснив свой поступок идейными мотивами. Текст заявления эсера был наполнен яркими образами. В частности, партия эсеров сравнивалась социалистом с «живым трупом», а ее возможное «воскрешение» с реставрацией монархии [7]. Бежицкий меньшевик Н. Брыков также опубликовал письмо о своем выходе из Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), в котором признавался, что у него уже давно «закрадывалось в душу сомнение» и «болела душа» за тактическую линию партии. В заключение социал-демократ заявил, что его выход из партии станет благим делом для революции, так как деятельность меньшевиков, по его словам, мешала «укреплению пролетариата» [8]. Другой бежицкий социал-демократ И. Ульянов, заявляя о выходе из местной организации меньшевиков, обвинил пар- тию в «лени и бездействии», что, по мнению социалиста, являлось «великим грехом» перед революцией. Вместе с тем, свой выход из партийной организации меньшевик также мотивировал желанием принести пользу [9].
Однако имелись и другие образцы нового эпистолярного жанра, которые скорее походили на обвинения в адрес социалистических партий, чем на публичное объяснение своих идейных разногласий с бывшими однопартийцами. В частности, орловский эсер М. Пантелеев обвинял свою партию в том, что она шла «рука об руку с англо-французскими империалистами, старающимися задушить… молодую Советскую республику» [10]. Немало таких писем-заявлений орловских левых эсеров было опубликовано в местной печати в сентябре 1918 г., то есть сразу после того, как губернский комитет Партии левых социалистов-революционеров (ПЛСР) подвергся репрессиям со стороны власти большевиков. В письмах социалисты-революционеры осуждали действия своего Центрального Комитета. Так, левый эсер Стопаничев в своем письме признал «факт отступления партии левых-эсеров от лозунгов октябрьской революции», выразившийся, по его мнению, в выступлении Центрального Комитета (ЦК) 7 июля в Москве и подготовке вооруженного восстания в Орле [11].
Вероятно, часть открытых писем и заявлений была написана исходя из личных убеждений. Например, орловские эсеры С. Ковалев и В. Абрамов заявили, что выйдя из партии «из-за тактических разногласий» остаются левыми эсерами [12]. Другой левый эсер Ф.Е. Дыбенко опубликовал не только письмо о выходе из партии, но и подробное объяснение своего поступка, адресованное крестьянам орловской губернии. Вместе с тем, социалист-революционер не обрушился с погромной критикой и обвинениями в адрес ПЛСР. Риторика Дыбенко была весьма корректна. По мнению эсера, его однопартийцы произвели «неправильный учет сил и истинных настроений низов» [13].
Тем не менее, в ряде случаев, очевидно, немалую роль играл элемент принужде- ния. Так, осенью 1918 г. председатель орловской ЧК откровенно отметил, что после энергичной работы чекистов фракция левых эсеров была ликвидирована, а все ее члены, после ареста некоторых из них, вынесли «горячие протесты» ЦК и вышли из партии [14]. То есть «горячие протесты», опубликованные некоторыми социалистами в печати, очевидно, явились ничем иным, как прямым следствием соответствующего «внушения» со стороны чекистов. Надо отметить, что такие случаи были вовсе не редки.
В 1920-е годы содержание открытых писем социалистов изменилось. Если первоначально представители оппозиционных партий указывали лишь на причины ухода из своих организаций, то затем стала проводиться идея о том, что лишь РКП (б) является единственной выразительницей интересов рабочих и крестьян. Так, весной 1920 г. лидером бежицких меньшевиков Д.В. Тернавским было опубликовано открытое письмо к членам Брянской и Бежицкой организаций РСДРП, в котором он заявил о своем выходе из партии и вступлении в ряды РКП (б). В письме меньшевик описал эволюцию своих политических взглядов, итогом которой стало признание правильности линии компартии. В частности, социал-демократ отметил, что когда он стал изучать необходимую литературу, то был вынужден признать, что позиция Ленина, оказалась более правильной, нежели политические взгляды «представителей других течений социалистической мысли» [15]. Текст письма меньшевика сводился к объяснению несостоятельности взглядов социал-демократов и правильности линии коммунистов.
Однако типичными для 1920-х гг. стали другие письма социалистов - короткие обвинения в адрес своих однопартийцев, в которых бывшие меньшевики и эсеры оправдывались перед обществом в своем пребывании в рядах «непролетарских» партий. Так, бывший меньшевик Ф.Б. Бо-тулев написал, что работая в подполье с 1901 года все время держался «большевистской линии». Свое же участие в меньшевистской партии он объяснял «случаем». По мнению Ботулева, единственной выра- зительницей интересов рабочего класса и крестьянства являлась партия большевиков. Похожее содержание имело письмо рабочего механического завода А. Сурнина, вступившего в партию эсеров, по его словам, будучи захваченным «революционной волной» в 1917 г. Как отмечал Сурнин, убедившись, что партия эсеров «старается закабалить рабочий класс в когти буржуазии», он порвал с этой «предательской партией» [16]. Другой бывший эсер В.А. Тулаев, проживавший в с. Опы-хань Овстугской волости, указывал на то, что порвал связь с партией эсеров с 19191920-х гг., а свое недолгое пребывание в ней назвал «политической ошибкой». И. Ромашевский оправдывал свое вступление в 1917 г. в РСДРП и короткое пребывание в ее рядах желанием «принести пользу революции» [17, с. 160].
Таким образом, структура покаянных писем социалистов, оформившаяся к 1920м годам, чаще всего представляла собой следующее: констатацию факта пребывания в рядах другой партии, оправдание своей «политической ошибки» и признание выдающейся роли РКП (б).
Следует отметить, что покаянные письма и речи социалистов стали одним из элементов политических кампаний, развернутых большевиками против своих идейных оппонентов в первой половине 1920-х годов. Возможность использования открытых заявлений социалистов как инструмента борьбы с политической оппозицией, в частности с меньшевиками, была озвучена еще в сентябре 1922 г. Л.Д. Троцким. Так, на одном из заседаний Политбюро Троцкий заявил о своем убеждении «в необходимости и возможности произвести внушительное выступление «советских» меньшевиков и бывших меньшевиков против Мартова-Дана» [18, с. 589].
В 1923-1924 гг. по Советской России прокатилась целая череда ликвидационных съездов и конференций меньшевиков и эсеров, инспирированных Государственным политическим управлением (ГПУ), на которых идейные оппоненты коммунистов каялись и публично расписывались в несостоятельности своих взглядов.
В частности, при непосредственном участии ГПУ в марте 1923 г. в Москве состоялся ликвидационный Всероссийский съезд партии социалистов-революционеров [19, с. 86]. По заранее подготовленному сценарию участники съезда зачитали доклады, в которых говорили о разложении партии и об отрыве ее от «подлинно-революционных» масс. В итоге, в заключительной резолюции социалисты-революционеры отметили факт «разложения народнических группировок и воплощения истинных социалистиче-ских-революционных принципов» лишь в РКП (б) [20].
«Ликвидационное» движение было перенесено в провинцию и проходило, как правило, по стандартному сценарию. В регионе начиналась газетная кампания, заключавшаяся в публикации заявлений и статей бывших социалистов, а затем некая «инициативная группа» местных эсеров уведомляла общественность через печать о предстоящем губернском съезде партии социалистов-революционеров. Так, 13 октября 1923 г. в губернском печатном органе «Брянский рабочий» было опубликовано открытое заявление группы брянских левых эсеров, обрушившихся с критикой на своих коллег по партии, которых «уроки русской революции… ничему не научили». В заявлении подчеркивалось «идейное банкротство» идеологии социалистов-революционеров, павшей, по словам подписантов, не только от ударов «могущественной критики марксизма, но и логикой исторических событий» [21].
В рамках пропагандистской кампании, в ноябре 1923 г. в губернской газете были напечатаны две статьи местных эсеров. В статье «Уроки прошлого» В. Кругликов не только подверг критике деятельность партии эсеров и ее ЦК, но и провел идею покаяния рядовых партийцев, на которых, по его мнению, лежала вина за «весь этот преступный путь» [22]. Другой брянский эсер и член Учредительного собрания Д. Тюриков опубликовал статью под названием «Что погубило партию эсеров?». Автор сделал подробный экскурс в историю партии, останавливаясь на «ошибках» и «заблуждениях», которые, по его словам, послужили причиной поражения социалистов-революционеров. Он отмечал, что эсеры «мыслили слишком абстрактно и схематично», «не имели единого мировоззрения, целостной историкосоциологической системы», «единой партии фактически не существовало» [23]. Следует сказать, что риторика помещенных в губернский печатный орган статей говорила о том, что их целевой аудиторией являлись сами члены партии социалистов-революционеров. Такие статьи были призваны внести идейный раскол в ряды социалистов.
Логическим завершением анти-эсеровской газетной кампании в провинции стала губернская конференция бывших членов партии социалистов-революционеров, которая состоялась 2 декабря 1923 г. На конференции присутствовал 41 делегат из Бежицы, Трубчевска, Людиново, Карачева, Дятьково, Городища. Делегаты осуждали тактику партии социалистов-революционеров, перечисляли ее «ошибки» и «просчеты». По итогам конференции была принята специальная резолюция, в которой констатировалось, что партия социалистов-революционеров потерпела «полное политическое поражение» и «разложилась на ряд группировок», не представляющих политической силы [24].
Вслед за эсеровской конференцией 20 февраля 1924 г. в Бежице состоялась конференция меньшевиков Брянской губернии, которая также прошла по традиционному сценарию. В докладах социал-демократов звучала критика в адрес ЦК РСДРП и комплиментарная риторика по отношению к коммунистам. Как подчеркивалось в официальной прессе, «конференция отметила ошибки партии меньшевиков и признала, что для пролетариата существование какой-либо другой партии кроме РКП, является, безусловно, вредным». По итогам же конференции было постановлено все меньшевистские организации на территории Брянской губернии считать ликвидированными [25]. Позднее, в марте 1924 г., в «Правде» была опубликована большая статья брянского социал-демократа А. Тихонова, в которой он не только осветил работу бежицкой конференции, но и обрушился с критикой на лидеров меньшевиков, находящихся в эмиграции. Автор статьи проводил мысль о том, что «Дан и Ко», которые «отсиживались где-то за границей», не могли судить о процессах протекающих в рядах меньшевиков в России. Реальным же положением вещей, по мнению Тихонова, было «постепенное умирание и разложение партии» [26].
Социалистами, которые участвовали в подобных конференциях, вероятно, двигало желание реабилитироваться перед властью, либо получить возможность вступить в ряды РКП (б). Надо полагать, часть бывших социалистов вступила в компартию после ликвидационных конференций. Например, если сравнить состав членов Бежицкого Укома РКП (б) по состоянию на сентябрь 1923 г. и на май 1924 г., то можно заметить, что число бывших меньшевиков в организации увеличилось на 16 человек, бывших левых эсеров на 9, а бывших членов ПСР на 2 [27, 28].
Довольно интересное замечание на счет губернской ликвидационной кампании было сделано в 1927 г. местным Губотде-лом Объединенного государственного политического управления (ОГПУ). В одном из информационных обзоров отмечалось, что к конференции по ликвидации меньшевиков в Брянской губернии примкнуло около 140 человек, из которых около 90%, действительно, порвали с партией, а остальные «ликвидировались» формально, преследуя цель реабилитировать себя перед властью, в частности, перед органами ОГПУ [29].
Следует сказать, что советский феномен покаянных писем и заявлений был обязан своим появлением большевикам. В публичном раскаянии и признании своих «политических ошибок», вероятно, можно разглядеть и какой-то квазирелигиозный мотив, которым был наполнен весь революционный дискурс. Но, думается, основные истоки появления покаянных писем и заявлений кроются, прежде всего, в политической нетерпимости коммунистов. В этом ключе интересно замечание о партийных собраниях социал-демократов на- чала XX века, сделанное американским историком А. Уламом. «Партийные собрания, обсуждения самых важных проблем, – отмечал исследователь, – постоянно прерывались некоторыми участниками, сердито требующими, чтобы докладчик «взял свои слова обратно», или заявляющими, что в протокол следует внести особое мнение, или обвинительное заключение» [30, с. 174]. То есть, требования публичного самоотречения в революционных кругах были совсем не новы. Коммунисты же превратили их не только в обязательное условие для вступления в РКП (б), но и в важную часть своей пропаганды против оппозиционных партий.
Кроме того, публичное самоотречение от своих прежних взглядов, критика в адрес бывших однопартийцев была, своего рода, демонстрацией лояльности перед властью. В начале 1920-х сложилась ситуация при которой сторонникам других партий находиться в составе региональных органов власти стало невозможно. Для со- на выхолащивание любой альтернативной точки зрения в публичном пространстве. Например, видный член партии эсеров В.Г. Архангельский впоследствии отмечал следующее: «Ежедневная печать и толстые журналы, кинематограф и театры, плакаты и квазинаучные труды, манифестации и демонстрации, покаянные письма ренегатов и показания провокаторов, инсценировки «народного гнева» и народной преданности большевицкому режиму, – все используется советской властью для того, чтобы оглушить терроризированного обывателя, не дать ему возможности одуматься и внушить убеждение, что большевиц-кий деспотизм и есть самый настоящий социализм и что социалисты, требующие свободы, предатели рабочего класса…» [31, с. 12].
Итак, открытые письма и заявления социалистов о выходе из своих партийных организаций, появившиеся на волне репрессий большевиков в отношении своих политических противников в 1918 г., фак- циалистов, которые претендовали на из- тически, явились родоначальниками со- вестную должность в местных органах управления или в партийных структурах, демонстрация лояльности к власти была необходима для инкорпорирования в региональную политическую элиту.
Между тем, использование такого эпистолярного жанра властью большевиков нельзя рассматривать в отрыве от общего подхода политики РКП (б), направленной ветского эпистолярного жанра покаянных писем. В 1920-е годы покаянные письма и заявления стали важным элементом политических кампаний большевиков против социалистической оппозиции, уникальность которых состояла в том, что теперь сами идейные противники коммунистов признавались в «несостоятельности» и «банкротстве» своих идей.
Список литературы "Покаяние по-большевистски". Открытые письма левой оппозиции как инструмент пропаганды в 1918-1920-х годах (на материалах Орловской и Брянской губерний)
- Брянцев М.В. Борьба за власть весной-осенью 1918 г. // Право: история, теория, практика. Сб. статей и материалов. Вып. 14. Брянск, 2010. С. 202-227.
- Брянцев М.В. Борьба большевиков с политическими оппонентами в 1919-1921 гг. // Брянский край в XX в.: общество, политика, экономика. Брянск, 2012. - С. 88-102.
- Кляченков Е.А. Политические кампании большевиков в отношении социалистической оппозиции в 1920-е годы (по материалам Брянской и Орловской губерний) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. - 2014. - №2-2. - С. 92-95.
- Созаев-Гурьев Е. Путин рассказал о письмах Березовского // "Известия". 2013. 25 апреля. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://izvestia.ru/news/549401 (дата обращения: 14.07.20).
- Посмертное оружие. В России становится популярным жанр покаянных писем // "Газета. Ru". 2014. 13 января. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.gazeta.ru/comments/2014/01/13_e_5845833.shtml (дата обращения: 14.07.20).