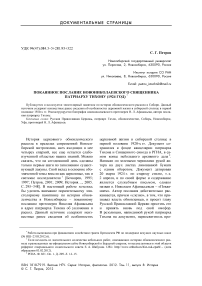Покаянное послание новониколаевского священника патриарху Тихону (1924 год)
Автор: Петров Станислав Геннадьевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Документальные страницы
Статья в выпуске: 8 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Публикуется и исследуется эпистолярный памятник по истории обновленческого раскола в Сибири. Данный источник содержит неизвестные ранее сведения об особенностях церковной жизни в сибирской столице в первой половине 1920-хгг. Реконструируется биография новониколаевского протоиерея Н. Л. Афанасьева, автора послания патриарху Тихону.
Русская православная церковь, патриарх тихон, обновленчество, сибирь, новосибирск, уфа, протоиерей н. л. афанасьев
Короткий адрес: https://sciup.org/14737916
IDR: 14737916 | УДК: 94(47).084.3–5+281.93+322
Текст научной статьи Покаянное послание новониколаевского священника патриарху Тихону (1924 год)
История церковного обновленческого раскола в пределах современной Новосибирской митрополии, всех входящих в нее четырех епархий, все еще остается слабо-изученной областью наших знаний. Можно сказать, что на сегодняшний день сделаны только первые шаги по заполнению существующей лакуны. Свой вклад в освоение обозначенной темы внесли как церковные, так и светские исследователи 1 [Бочкарев, 1995; 1997; Петров, 2001; 2009; История…, 2005. С. 295–348]. В настоящей работе хотелось бы уделить внимание поразительному эпистолярному памятнику по истории обновленчества в Новосибирске – покаянному посланию протоиерея Николая Афанасьева в адрес патриарха Тихона об уклонении в раскол. Данный источник содержит неизвестные ранее сведения об особенностях церковной жизни в сибирской столице в первой половине 1920-х гг. Документ сохранился в фонде канцелярии патриарха Тихона и Священного синода в РГИА, в самом конце небольшого архивного дела 2. Написан он зелеными чернилами рукой автора на двух листах линованной бумаги с одним оборотом. Документ датирован 20 марта 1924 г. по старому стилю, т. е. 2 апреля, и по своей форме и содержанию является служебным письмом, однако назван о. Николаем Афанасьевым – «Покаянием». Автор послания действительно раскаивается, причем «слезно», в том, что признавал власть обновленцев, и просит главу Русской Православной Церкви простить его и принять вновь под свой омофор. В резолюции, написанной рукой патриарха Тихона на документе, первосвятитель про-
* Работа выполнена при финансовом содействии гранта Президента РФ по поддержке ведущих научных школ (№ НШ–2318.2012.6).
стил жившего в Новониколаевске священника и разрешил ему дальнейшее церковное служение.
Отметим, что подобных посланий духовенства из тогдашней Томской епархии, удостоенных ответа патриарха Тихона, чрезвычайно мало. Наибольшую известность получило письмо священника Николая Троицкого из Богородице-Казанской церкви с. Усть-Каменного Истока Бийского уезда (ныне с. Коробейниково Усть-При-станского района Алтайского края) 3. Однако оно было отправлено в Москву совсем в другое время, сразу же после октябрьского переворота большевиков. Его составили 18 декабря 1917 г. и послали в адрес заседавшего Всероссийского поместного собора. После получения послание обнародовали в пересказе в «Церковных ведомостях», главном официальном периодическом органе Православной Российской Церкви 4. По всей видимости, изложенная Николаем Троицким проблема отражала наиболее острые моменты в церковной жизни страны. Во время оглашения в храме соборного послания об ограблении церквей и монастырей он был подвергнут обструкции со стороны молившихся «солдат-большевиков», потребовавших под угрозой насилия прекратить темную «агитацию». Потрясенный всем произошедшим о. Николай просил поместный собор оградить «беззащитных пастырей церкви от подобных случаев».
Обстоятельный ответ сибирскому священнику, напечатанный полностью в тех же «Церковных ведомостях», дал сам патриарх Тихон 5 [Акты…, 1994. С. 88–89]. Письмо из Томской епархии стало поводом для его обращения ко всем пастырям Православной Российской Церкви «мужественно сносить испытания» – именно под таким общим заголовком в церковном журнале опубликовали данную переписку. В открытом письме от 30 января 1918 г. первосвятитель призвал о. Николая Троицкого, а в его лице и все духовенство, не взывать о помощи, а укреплять и наставлять своих прихожан, особенно «лучших людей» и «благочестивых жен- щин», способных удерживать своих мужей и братьев от беззаконных поступков, а также создавать из их числа братства, союзы и советы для защиты храмов и пастырей.
Несмотря на то, что апрельское 1924 г. послание священника из Новониколаевска отражало состояние, в котором пребывала огромная масса уклонившегося в раскол духовенства, глава Православной Российской Церкви не счел нужным пространным письмом отвечать своему сибирскому адресату. Тем не менее, как видим из патриаршей резолюции, письмо новониколаевского священника нашло отклик в душе первосвятителя, и он простил о. Николая без наложения какого-либо взыскания.
В послании о. Николай Афанасьев достаточно подробно поведал о своих переживаниях по поводу пребывания под властью схизматических архиереев. Как следует из письма, автор его служил с марта 1921 по ноябрь 1923 г. в Никольской часовне на Красном проспекте, затем вплоть до написания «покаяния» – в городской Покровской церкви. Когда начался раскол и Новониколаевск стал центром сибирской обновленческий митрополии, о. Николай, понимая незаконность притязаний раскольников, тем не менее, признал прибывших в город самозваных епископов. Сделал он это из-за боязни ареста и желая оградить Никольскую часовню от служения в ней безблагодатных «экзурпаторов» из обновленческой «Живой церкви». По признанию о. Николая, он не покинул часовню только потому, что знал, если все это не угодно Богу, то обновленцы уже давно бы его выгнали. Со слов автора письма, пока он был в часовне, раскольничьи архиереи и поставленные ими священники не совершали здесь богослужений. Сам же протоиерей все время поминал патриарха и канонических иерархов поименно «за проскомид і ей, за задостоиникомъ и на молебныхъ», т. е. негласно, или редко, или в частном порядке, а новых епископов – только на ектениях, т. е. открыто и гласно, но «съ большой скорб і ю и небрежност і ю».
После освобождения из-под ареста первосвятителя о. Николай в течение нескольких месяцев не возносил имен схизматиков вообще, за что в ноябре 1923 г. последние перевели его, как приверженца патриарха Тихона, «на приход» (вполне возможно, сельский). И тут протоиерей проявил, по его собственным словам, мужество и решил не подчиняться более власти самочинных архиереев, которые до этого момента хотели даже наградить его палицей, давали место ключаря в Александро-Невском соборе и три раза предлагали стать обновленческим епископом. Дополнительную убежденность придала ему изученная самостоятельно Книга правил святых апостолов, вселенских и поместных соборов и святых отцов, врученная самозванцами при увольнении из часовни. Теперь он твердо знал, что все духовенство обновленческого поставления должно быть лишено обретенных в расколе степеней, а такие, как он, обязаны раскаяться по поводу погружения в «греховную пучину» схизмы, дабы соединиться с патриаршей церковью с сохранением сана 6.
Несмотря на все это, новониколаевский протоиерей занял выжидательную позицию и медлил с «покаянием» до апреля 1924 г., когда стало известно, что президиум ЦИК СССР своим постановлением, опубликованным в советских газетах, прекратил производством дело патриарха Тихона 7 [Архивы Кремля…, 1998. С. 414–415]. Согласно письму, после ухода из часовни о. Николай стал молиться и служить изредка в близлежащем Покровском храме, где священник Александр Васильев и прихожане тоже не признали обновленцев, но находились под их властью из-за страха перед возможными арестами. По сведениям Николая Афанасьева, в начале апреля 1924 г. паства о. Александра и он сам хотели вернуться в патриаршую церковь. Автор письма патриарху Тихону просил его помолиться за «великого грешника», простить и разрешить ему служить в «старой церкви», которой руководил первосвятитель. Он обещал никогда более не общаться с обновленцами и даже не ходить в храмы, где хоть и не признают раскольников, но находятся под их властью. Чтобы у патриарха не возникло какого-либо сомнения, что автор письма был обновленцем, протоиерей сообщил, что, даже болея тифом, не стриг волос и не снимал священнических одежд, а само послание написал по правилам дореволюционной орфографии с использованием юлианского летосчисления, отмененных раскольничьим поместным собором 1923 г.
По-видимому, получив от патриарха Тихона ответ, зафиксированный в резолюции на письме новониколаевского священника, о. Николай Афанасьев исполнил данное главе Православной Российской Церкви обещание. Как известно из литературы по истории православных храмов в Новосибирске, из единственного сюжета, связанного с протоиереем Афанасьевым, он возглавил тех самых прихожан Покровской церкви, которые решили открыто заявить о своем уходе к патриарху [Шабунин, 2002. С. 13]. Они купили за речкой Каменкой частный жилой дом, где организовали старо-покровскую общину (т. е. общину «староцерковников», так называли тогда приверженцев патриарха Тихона), настоятелем которой стал о. Николай.
Никаких иных сведений, заполняющих пробелы в его биографии, в исследованиях, посвященных истории Новосибирской епархии, нет. Из письма самого Николая Афанасьева следует, что он прибыл в Новониколаевск из Уфы во время Гражданской войны – 26 июля 1919 г. по старому стилю, т. е. 7 августа. К сожалению, он ничего не сообщает о том, что происходило с ним дальше, вплоть до марта 1921 г. Правда, говорит о сыпном тифе, которым болел, не исключено, в Новониколаевске, именно в этот период, когда волнами одна эпидемия сменяла другую. О своем служении в Уфимской епархии о. Николай практически тоже ничего не пишет. Из письма можно сделать только вывод, что в 1893 г. после окончания духовной семинарии его рукоположил в священника выдающийся православный иерарх – архиепископ Уфимский и Мензелинский Дионисий (Д. В. Хит-ров), ученик и сподвижник святителя Иннокентия Московского, апостола Сибири и Америки.
В работах, принадлежащих перу уфимских авторов, о нем приводятся столь же немногочисленные сведения 8 [Максимов, 2003. С. 13, 19]. Согласно этим работам, автор письма из Новониколаевска патриарху Тихону – это священник-выкрест Николай Львович Афанасьев из Уфы, который служил в Симеоно-Верхотурской церкви. Она являлась средоточием жизни большого рабочего русского района под названием «Северная слобода» и была известна своими монархическими и стойкими православнопатриотическими традициями. В либерально-демократической среде данный храм слыл самой черносотенной церковью Уфы. В годы Первой русской революции священник Николай Афанасьев был активным организатором монархических шествий и кружков патриотов, выступавших за возвращение жизни города в нормальное русло. Во время молебнов на площади перед церковью, в которой он служил, о. Николай обращался к собравшимся рабочим с призывами разоблачать «социалистов и крамольников» и защищать «Веру, Царя и Отечество».
Из вышеприведенного становится понятно, почему в ходе Гражданской войны о. Николай Афанасьев оказался в Сибири. Продвижение на восток страны большевиков не сулило уфимскому протоиерею, зарекомендовавшему себя гонителем социалистов и революционеров, ничего хорошего. Как сообщила нам знаток истории Уфимской епархии, сотрудница Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Н. П. Зимина, в результате боевых действий летом и осенью 1918 г. в западных уездах Уфимской губернии среди местного духовенства имелись многочисленные жертвы. Уже тогда правящий уфимский епископ Андрей (А. А. Ухтомский) разрешил священнослужителям епархии и их семьям уходить с мест своего служения, если их жизнь подвергалась опасности. В июне 1919 г. в Уфе окончательно закрепились большевики, незадолго до этого владыка Андрей вновь издал распоряжение об эвакуации духовенства. По всей видимости, о. Николай Афанасьев воспользовался этим распоряжением и покинул Уфу, что косвен- но подтверждается указанным им в письме временем прибытия в Новониколаевск.
По наблюдениям Н.П. Зиминой, документов со сведениями об этом священнике в уфимских архивах практически нет (клиро-вых ведомостей, послужных списков и т. д.). Документация Уфимской духовной консистории частью была вывезена, частью – уничтожена. Восполнить образовавшие лакуны можно только за счет периодических и справочных изданий тех лет («Уфимские епархиальные ведомости», «Адрес-календари и справочные книжки г. Уфы»). Но имеющиеся в этих изданиях редкие сведения о Николае Афанасьеве носят отрывочный и зачастую формальный характер. Так, известно, что он с 1883 по 1887 г. находился в Уфимском мужском духовном училище, а с 1887 по 1893 г. учился в Уфимской духовной семинарии. В причте Симеоно-Верхотурской церкви о. Николай состоял до 1915 г. В мае этого года он был награжден Святейшим Синодом за заслуги перед духовным ведомством наперсным крестом. А в августе освобожден от службы приходским священником и назначен наблюдателем церковных школ Уфимского уезда. Именно духовно-учебному поприщу о. Николай уделял огромное внимание. До революции он был членом уфимского уездного отделения епархиального училищного совета, законоучителем городских училищ, преподавал на различных кратковременных курсах, в частности, при уфимском уездном полицейском управлении 9. В 1917/18 уч. г. являлся председателем совета епархиального женского училища. В начале сентября 1918 г. был в комиссии по духовно-учебным заведениям уфимского епархиального собрания, которая пыталась освободить от военного постоя Народной армии Комуча помещения семинарии, мужского и женского духовных училищ. На собрании он был выдвинут в кандидаты для избрания в состав Уфимского епархиального совета, учрежденного вместо духовной консистории, но снял свою кандидатуру. Возглавлял о. Николай в разное время епархиальный книжный склад, являлся казначеем правления епархиальных эмерительной и похоронной касс 10.
В общем, Николай Афанасьев был заметным и, скажем прямо, не рядовым священником Уфимской епархии. Сходный вывод можно сделать и о его священнической деятельности в пределах Томской епархии, в Новониколаевске. Поэтому «покаяние» перед патриархом Тихоном – это не случайный документ. Получается, что вместе с другими немногими иереями и мирянами этот священник стоял у истоков возрождения патриарших общин и борьбы с обновленцами в Новониколаевске, главной цитадели сибирских схизматиков, еще до приезда осенью 1924 г. законного архиерея Никифора (Н. П. Асташевского) и создания Новониколаевской епархии.
«Покаяние» протоиерея Николая Афанасьева публикуется с сохранением орфографии и пунктуации источника. В квадратных скобках раскрываются имеющиеся в документе сокращения.
Покаянное письмо протоиерея
Н. Л. Афанасьева патриарху Тихону об уклонении в обновленческий раскол
2 апреля 1924 г. г. Новониколаевск
(Л. 14) Свят h йшему Пaтрiaрху всея Руси Тихону
Прото і ерея Николая Аθанасьева г. Уфы, проживающаго въ город h Ново-Николаевск h съ 26-го Їюля ст[арого] ст[иля] 1919 года
Покаяніе.
Прибhгая къ Первосвятительскимъ сто-памъ вашего Святhйшества слезно приношу раскаяніе за то, что я служилъ у живыхъ-са-мозванныхъ епископовъ и прошу прощенія и благословенія. Я служилъ въ часовнh Святителя Николая 1 города Ново-Николаевска а съ марта мhс[яца] 1921 года и остался служить въ той же Часовнh по пріhздh въ г. Ново-Николаевскъ живыхъ-самозванныхъ епископовъ, желая сохранить Часовню отъ служенiя въ ней обновленческихъ apxi-ереевъ и ими постановленныхъ іереевъ (что мною и было достигнуто пока я тамъ слу-жилъ) и думая, что я какъ получившій благодать священства по окончаніи курса въ Семинаріи въ 1893 году отъ благодатнаго епископа Діонисія 2, умершаго в 1897 году, предохраню молящихся, посhщающихъ Часовню во время своихъ скорбей и находя-щихъ утhшенія во время молитвы предъ Образомъ Святителя Николая, въ коемъ хранится частица мощей Святого Великомученика Пантелеймона 3, отъ неблагодат-ныхъ священниковъ, посвященныхъ самозваными епископами. Съ Ноября мhсяца я у нихъ не служу и хожу молиться и служить иногда въ Покровскую церковь 4, гдh свя-щенникъ о. Александръ Васильевъ 5 и прихожане не признаютъ новыхъ архіереевъ и вообще обновленческаго движенія, но находятся подъ властію обновленцевъ только изъ за боязни быть арестованными и за послhднее время думаютъ отдhлиться отъ обновленчества. // (Л. 14 об) Служа въ Ча-совнh я всегда поминалъ Ваше Святhй-шество, старыхъ митрополитовъ, архіепис-коповъ и епископовъ поименно за проскомидіей, за задостоиникомъ и на мо-лебныхъ, новыхъ же самозванныхъ только на ектеніяхъ съ большой скорбію и небреж-ностію, а послhдніе б мhсяца служенія тамъ и совсhмъ ихъ не поминалъ, за что и былъ уволенъ. Въ своемъ увольненіи я вижу особое попеченіе о мнh грhшномъ и недостой-номъ Иверской Божіей Матери и Святителя Николая, которыхъ я все время просилъ устроить такъ, что если мое служеніе подъ властію обновленцевъ не угодно Богу, то меня убрали бы изъ Часовни, а у самаго чистосердечно сознаюсь не хватало мужества уитти изъ за боязни ареста, и вотъ я уво-ленъ какъ приверженецъ Вашего Святhй-шества съ переводомъ на приходъ, отъ чего отказаться в у меня мужества хватило и я теперь благодарю Божію Матерю и Святителя Николая за то, что по ихъ ходатайсту
Господь избавилъ меня отъ обновленцевъ. Во время служен і я въ Часовн h обновленческая власть хот h ла наградить меня палицей, назначить ключаремъ Собора, три раза предлагали арх і ерейство, но я отъ всего эта-го отказался. До сего времени я никогда не см h нялъ духовной одежды и не стригъ во-лосъ даже во время бол h зни сыпнымъ ти-фомъ и вотъ на старости л h т д і аволъ во-влекъ меня въ эту гр h ховную пучину, подчинивъ меня обновленческимъ еписко-памъ, экзурпаторамъ, захватившимъ святительскую власть самочинно. Служа въ Часовн h и подчиняясь имъ я съ ними не служилъ, не признавалъ ихъ благодатными и вс h мъ в h рующимъ и священникамъ, которые со мной им h ли разговоръ // (Л. 15) или спрашивали моего сов h та говорилъ, что вс h новые арх і ереи (обновленческ і е) и г ими рукоположенные і ереи и д і акона не благодатные и что за нихъ нужно молиться только какъ о заблудшихся, чтобы Господь об-ратилъ ихъ къ покаян і ю, не зная въ тоже время, что и мы своимъ подчинен і емъ тяжко согр h шаемъ. По увольнен і и изъ Часовни мн h дали Правило Св[ятыхъ] Апостоловъ, Вселенскихъ и Пом h стныхъ Соборовъ и Св[ятыхъ] Отцевъ, изъ коихъ я и уразум h лъ, что вс h новые арх і ереи обновленческ і е [и] ими хиротонисанные подлежатъ изверже-н і ю, а мы стали великими гр h шниками и должны принести покаян і е. Сознавая въ настоящее время свою погр h шность слезно прошу Ваше Свят h йшество, какъ Первосвятителя Росс і йской Православной Церкви и Всемилостив h йшаго нашего Отца помолиться за меня гр h шнаго и недостойнаго Николая, простить и разр h шить служить въ старой Церкви, находящейся подъ Вашимъ Первосвятительскимъ руководствомъ. По получен і и отъ Васъ прощен і я, разър h шен і я и благословен і я служить въ старой Церкви я даю об h щан і е больше не им h ть общен і я съ обновленцами и не ходить даже въ т h церкви, гд h священники, хотя и не признаютъ и не сочувствуютъ обновленческому движе-н і ю, но находятся подъ власт і ю обновлен-цевъ, если и это гр h шно.
Вашего Свят h йшества, Всемилостив h й-шаго Отца и Первосвятителя Православной Церкви всея Руси Смиренный послушникъ
Прото і ерей Николай А θ анасьевъ.
Марта 20 дня ст[арого] ст[иля] 1924 г.
РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 209. Л. 14–15. Рукописный подлинник, автограф. На л. 14 в левом верхнем углу фиолетовыми чернилами рукой патриарха Тихона резолюция: « 18 Апр[еля] 1924 г. Прощаю и благословляю совершать служен і я. П[атр і архъ] Тихонъ ». Слева от нее теми же чернилами рукописный делопроизводственный номер данной резолюции: « № 339 ».
CONFESSED MESSAGE OF NOVONIKOLAEVSK,S PRIEST