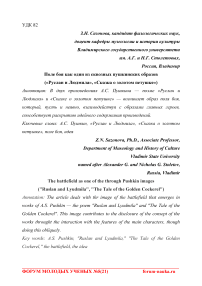Поле боя как один из сквозных пушкинских образов ("Руслан и Людмила", "Сказка о золотом петушке")
Автор: Сазонова З.Н.
Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka
Статья в выпуске: 5-3 (21), 2018 года.
Бесплатный доступ
В двух произведениях А.С. Пушкина - поэме «Руслан и Людмила» и «Сказке о золотом петушке» - возникает образ поля боя, который, пусть и неявно, взаимодействуя с образами главных героев, способствует раскрытию идейного содержания произведений.
А.с. пушкин, "руслан и людмила", "сказка о золотом петушке", поле боя, идея
Короткий адрес: https://sciup.org/140283069
IDR: 140283069
Текст научной статьи Поле боя как один из сквозных пушкинских образов ("Руслан и Людмила", "Сказка о золотом петушке")
Два описания поля боя — в «Руслане и Людмиле» и в «Сказке о Золотом петушке» — по времени создания отделены друг от друга почти пятнадцатью годами. Однако смысловое сходство между этими описаниями кажется нам неоспоримым, хотя, возможно, оно и не слишком очевидно на первый взгляд. Это сходство связано с двумя образами в обоих произведениях: Головой в поэме и Шамаханской царицей в сказке. Они возникают близ смертного поля, — Не-мертвая/не-живая Голова, хранящая по воле Черномора волшебный меч, и прекрасная Шамаханская царица, — и возникновение их определенно символично.
Шамаханская царица — фантом, призрак, появляющийся практически на «пустом месте». Она — вне закономерностей, вне прямой логики. Несколько лет, прошедшие с последнего нападения, убеждают Дадона, что опасаться соседей нечего. Более того, в этом убежден и народ его царства, поэтому крик петушка, возвещающего о приближении новой опасности, становится причиной «страха и шума во всей столице» [I, 648]1. Однако же войско во главе со старшим сыном отправлено — и царь «забылся» [I, 649].
Отправка войска — традиционный способ решения проблемы для царя Дадона: через восемь дней «от войска нет вестей», он отправляет еще одно — с младшим сыном, и, наконец, еще через восемь дней
Царь скликает третью рать
И ведет ее к востоку, –
Сам не зная, быть ли проку [I, 649].
Привычный способ решения проблемы в данном случае, как известно, не сработал. Шамаханская царица — неизвестная величина, появившаяся ниоткуда и в никуда исчезнувшая2. Однако же мудрец, даря петушка царю, предупреждал:
Но лишь чуть со стороны
Ожидать тебе войны,
Иль набега силы бранной,
Иль другой беды незваной … [I, 647]3 (Курсив мой. — З.С.)
Шамаханская царица как раз и становится такой «незваной бедой», избавиться от которой обычным способом нельзя. Числа, указанные в сказке, сомнений не оставляют: мы знаем, что путь до гор (до шатра Шамаханской царицы) занял восемь дней — именно столько шел Дадон с войском. Восемь же дней прошло с момента отъезда старшего сына с войском, когда петушок закричал вторично. Следовательно — просто встреча с Шамаханской царицей таила в себе опасность. Третий крик петушка с одинаковым успехом мог свидетельствовать и о встрече младшего сына с царицей, и о побоище вокруг ее шатра — убийстве братьями друг друга. Но битва произошла именно между войсками братьев, царица как враг воспринята не была, ни царевичами, ни — Дадоном. Они знали об опасности, но, парадоксально, не заметили ее, хотя опасность царицы вроде бы задана изначально — словами мудреца, сопровождавшими дарение петушка, и криком самого петушка. Однако жажда обладания ею неодолима — и смерти следуют одна за другой. Вокруг девицы погибают два войска, два их предводителя — сыновья Дадона, мудрец — и самое Дадон, «казненный» петушком.
Голова великана, отдав меч Руслану и после увидев поверженного Черномора, умирает — ее предназначение выполнено: голова — посредник между Русланом и Черномором, хранитель меча. Но предназначение Шамаханской царицы более загадочно. «Шелковый шатер», «безмолвие чудесное», «сияя как заря», «солнце» — характеристики самой царицы не содержат в себе ничего зловещего или мрачного. Смущает только ряд «чудесное», «околдован», «восхищен», свидетельствующий о неких чарах, вольно или невольно создаваемых таинственной девицей.
Контрастом входит в повествование описание смертного поля:
Все в безмолвии чудесном
Вкруг шатра; в ущелье тесном
Рать побитая лежит [I, 649].
И далее:
Что за страшная картина!
Перед ним его два сына
Без шеломов и без лат
Оба мертвые лежат,
Меч вонзивши друг во друга.
Бродят кони их средь луга
По притоптанной траве,
По кровавой мураве…[I, 649]4
Чудесное безмолвие оказывается сильнее горя царя, сильнее природы, отзывающейся на скорбь Дадона и его войска:
Застонала тяжким стоном
Глубь долин, и сердце гор
Потряслося… [I, 650]
а появление девицы, «тихо» встречающей царя, как будто стирает «страшную картину» смертного поля.
Любопытно, что Шамаханская царица сравнивается с зарей и с солнцем (пред которым Дадон как «птица ночи» «умолк» и «забыл… смерть обоих сыновей»). Она, по крайней мере внешне, символизирует жизнь, начало нового дня, отменяющего ночь… но — только внешне.
Содержание образа Шамаханской царицы двойственно: с одной стороны, сияющая, как заря, девица, уподобленная солнцу, фактически воплощает собой жизнь, заставляя забыть о смерти. С другой стороны, существуют два момента, разрушающие этот светлый образ. Первый момент — сыновья Дадона, лежащие у шатра «без шеломов и без лат». Сложно представить себе предводителя войска, приближающегося к врагу без доспехов. Следовательно, битва началась не сразу, младший сын успел разоблачиться, то ли поверив брату, то ли задумав его обмануть. Царица не помешала, да и не могла помешать взаимному истреблению братьев. Собственно, смертное поле вокруг шатра ее как будто и не касается… И это равнодушие явственно демонстрирует, что «свет» и красота девицы не несут на самом деле ничего «светлого».
Второй момент — спор звездочета с царем из-за девицы, заканчивающийся смертью звездочета.
Вся столица
Содрогнулась, а девица —
Хи-хи-хи да ха-ха-ха!
Не боится, знать, греха [I, 651].
Смерть мудреца забавляет Шамаханскую царицу, ибо она, в данном случае, сама — воплощение смерти. Звездочет парадоксально получил то, что просил. Поддавшись чарам Царицы, он оказался обречен.
«Первопричина беды Дадона — вовсе не неисполнение слова; неисполнение слова — лишь частный и последний случай того способа жизни, который показан в самых первых строках этой сказки о человеке, считающем себя хозяином в мире»5. Трактовка В. Непомнящего определенна: Дадон получает по заслугам за свой невероятный эгоцентризм. Однако, представляется нам, Шамаханская царица все же является в сказке не просто зеркалом, «которое создает мир в ответ на поведение и желания героя»6 чудо Шамаханской царицы видится нам более сложным.
Возникновение петушка, созданного мудрецом-«звездочетом», нарушает равновесие. Возмездие царю за его бурную и веселую молодость подзадержалось, мудрец его отсрочил, подарив рукотворное чудо — своего петушка. Звездочет вмешался в естественный ход судьбы. Вот тут-то и возникает Шамаханская царица. Царица — «беда незваная», призванная равновесие восстановить, но она еще и чудо, и чудо иррациональное, загадочное. Недаром мудрец тоже попадается в ее сети, как и сыновья Дадона, как и сам Дадон: чудо Царицы нельзя объяснить, оттого оно так притягательно. Дадон привозит Царицу в столицу — и два чуда сталкиваются. Мудрец, создатель чуда петушка, встретил то, что объяснить не может, да и не пытается, как не пытался совсем не мудрый Дадон.
Петушок, слетающий со спицы и клюющий царя в темя, разрушает чудо мудреца, возвращая Дадона к исходной точке, к тому моменту, от которого, возникнув, и начала накручиваться несправедливость. А царица исчезает
Будто вовсе не бывало [I, 652].
Вспоминается «Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимо наслажденье…». Притягательное неведомое в данном случае таково, что к нему лучше не приближаться, Царица — инструмент Судьбы, яйцо, в котором таится «смерть Кащеева», смерть Дадона. Смертное поле вокруг нее, гибель сыновей — намеки на грядущее, «подсказки» для царя, которых он не замечает. Она — не сама Смерть, конечно же, она — ее дыхание, временное воплощение.
Именно образ смертного поля в поэме «Руслан и Людмила» значим в гораздо меньшей степени, нежели в «Сказке о золотом петушке», хотя бы потому, что оно, поле, находится не рядом с головой великана, а перед ней. Руслан, выбрав себе доспехи и копье, некоторое время едет, прежде чем видит «холм огромный» — голову брата Черномора. Но в данном случае смертное поле выполняет две функции: во-первых, как бы предупреждает витязя о будущей опасности, пусть и не связанной со следами этой, давней, битвы (в этой функции есть сходство с полем боя сказки); во-вторых, задается цель Руслана — найти меч, ибо мечи на поле ему не подходят. По логике сказки головы великана князь уже миновать не может. И в этой неотвратимости встречи тоже чувствуется сходство с ситуацией сказки, только там «беда незваная» — Шамаханская царица — была озвучена с самого начала, а появление головы на пути Руслана на первый взгляд неожиданно.
Далее действие разворачивается вроде бы совсем иначе, нежели в сказке. Руслан несопоставим с эгоистичным царем… Зато история Черномора и его брата-великана явно таит в себе исток истории Дадона.
Я разобрал во тьме волшебной,
Что волею судьбы враждебной
Сей меч известен будет нам;
Что нас он обоих погубит:
Мне бороду мою отрубит,
Тебе главу… [I, 687]
– так Черномор говорит своему брату, склоняя его отправиться за мечом.
Умен как бес — и зол ужасно… [I, 687]
…В его чудесной бороде, таится сила роковая,
И, все на свете презирая, –
Доколе борода цела —
Изменник не страшится зла[I, 687].
— так характеризует карлика великан. Конечно же, про Дадона трудно сказать, что он «умен как бес». Но зато у обоих, и у царя, и у Черномора, есть некие волшебные вещи, защищающие их (до поры до времени) от беды: борода — у Черномора, золотой петушок — у царя… И обоим этого мало. Умный карлик, прознав про меч, способный погубить его, возжелал добыть этот меч, а добыв — срубил им голову брату, лишь бы поставить над оружием подходящего стража. Черномор не забирает меч себе, он помнит о его опасности, а вот Дадон, встретившись с Шамаханской царицей, забыл «перед ней» обо всем, и о крике петушка, возвестившем ее появление, и о смерти сыновей, и — позже — о своем обещании мудрецу.
Черномор остерегся оставить меч себе, но, срубив голову брату, — он вольно или не вольно начал исполнять предсказание, вычитанное им в волшебных книгах. Дадон же, не вняв «подсказкам» и поддавшись чарам царицы, безусловно обрек себя на гибель.
Нельзя считать себя лучше и сильнее других, не имея на то морального права. Дадон права на чудо не имел. Равно как и Черномор и его брат не имели права на чудесное оружие. Черномор решил обмануть судьбу и добыл меч, который должен был стать его погибелью, добыл коварством и коварством же сохранил. Великан, чья голова скрывает меч, повинен разве что в простоте и излишней доверчивости, он — только некое промежуточное звено между Русланом и Черномором. Но это не отменяет его особой функции: брат карлика, его голова, — то же Кащеево яйцо, хранящее гибель Черномора. В поэме есть два полюса Добра и Зла — Руслан и Черномор. Добро добывает меч, зло лишается силы. Образ головы великана, под которой спрятан меч — символизирует смерть, пусть и не физическую, Черномора и заключает в себе ту же идею равновесия, что и образ Шамаханской царицы. Великан жаждет возмездия для брата, но он же невольно становится хранителем равновесия.
В сказке полюса Добра нет, поэтому Шамаханская царица, Кащеево яйцо, смерть Дадона, действует напрямую. Дадон, в отличие от Черномора, не подозревает о гибельности Шамаханской царицы для себя — он слеп, слишком привык ни в чем себе не отказывать. Глупость Дадона и мудрость Черномора оказываются уравнены друг с другом. Обманщик Черномор стал жертвой собственного обмана. Дадон, не умеющий отказать себе ни в чем, исполнил свое последнее желание — и подписал себе приговор.
-
1 Здесь и далее цитируется по А.С. Пушкин. Сочинения в трех томах. М., 1985.
-
2 Пушкин поначалу намеревался подробно описать внешность «девицы» («черноброва, круглолица» — III, 1121), но потом оставил подобный замысел, зато усилил в структуре задуманного образа элементы недосказанности, таинственности. Читатель остается в неведении, откуда появилась Шамаханская девица и куда исчезла. — Б е л к и н Д . И . К истолкованию образа Шамаханской царицы // Временник Пушкинской комиссии, 1976 / АН СССР. ОЛЯ. Пушкин. комис. — Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1979. — С. 123.
-
3 В. Непомнящий указывает на связанность Мудреца, Царицы и Петушка через смысловой слой «исполнения желаний». Но нам кажется, что это все же не так.
-
4 Из мотива «кровавого братоубийственного побоища», промелькнувшего у Ирвинга вскользь, Пушкин сделал центральный эпизод. В середине лишенного цветовых эпитетов рассказа, как на крупном плане, чудовищно разросся образ травы, красной от крови. — Непомнящий В.С. Поэзия и судьба. Над страницами духовной биографии Пушкина. — М.: Советский писатель, 1987. — С. 239.
-
5 Непомнящий В.С. Поэзия и судьба. Над страницами духовной биографии Пушкина. — М.: Советский писатель, 1987. — С. 249.
-
6 Непомнящий В.С. Поэзия и судьба. Над страницами духовной биографии Пушкина. — М.: Советский писатель, 1987. — С. 250.
-
1. Белкин Д.И. К истолкованию образа Шамаханской царицы // Временник Пушкинской комиссии, 1976 / АН СССР. ОЛЯ. Пушкин. комис. — Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1979. — С. 123.
-
2. Непомнящий В.С. Поэзия и судьба. Над страницами духовной биографии Пушкина. — М.: Советский писатель, 1987.
-
3. Пушкин А.С. Сочинения в трёх томах. М., 1985