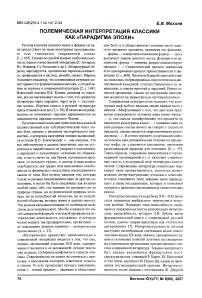Полемическая интерпретация классики как "Парадигма эпохи"
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются интертекстуальные ссылки и отдаленные повторы классических образов и произведений в современной литературе как один из основных приемов построения художественного текста, актуализирующий грани смысла прототекста, модифицирующий и обогащающий вновь создаваемый текст, доказывается, что «тотальное цитирование» классики может быть названо «парадигмой эпохи»
Короткий адрес: https://sciup.org/147151264
IDR: 147151264
Текст научной статьи Полемическая интерпретация классики как "Парадигма эпохи"
«Историческое преемство» применительно к современной литературе видится в том, что она, являясь наследницей классики XIX века, одновременно становится и ее заложницей: лучшие тексты уже созданы, глубинные конфликты и страсти описаны. Современность не может не считаться с прошлым, а вынуждена повторять известные сюжеты и строки. То есть происходит процесс замещения, когда «... новый предмет... занимает в обществен ном быту и в общественном сознании место какого-то прежнего предмета, принимая его функцию. ... форма — в широком понимании формы — здесь выступает знаком занятого места, функции или назначения, форма — значима, форма санкционирует предмет. /.../ Семиотический процесс замещения есть одновременно процесс преемственности и эволюции» [5, с. 608]. Читатели бывшей советской страны оказались «перекормлены» идеологически адаптированной классикой, отсюда стремление к ее замещению, к замене иронией и пародией. Имена остаются прежними, однако их внутреннее наполнение меняется на диаметрально противоположное.
Современная культурология полагает, что культурный миф любого явления связан прежде всего с именем: «Миф начинает с того, что дает всем предметам окружающего человека мира некие имена / .../и, тем самым, зашифровывает эти предметы на некотором культурном языке /.../ названия сами по себе ровным счетом ничего не говорят о сущности предмета, однако являются сверхзначимыми реальностями /.../. И оттого предмет, получивший мифологическое имя, автоматически становится предметом мифа: он становится предметом, имеющим сверхзначимый характер для человека» [6, с. 59]. Таким образом, сохранение имен авторов и героев, названий произведений и т. п. включает современные тексты в культурный миф литературы классической. Современная литература сознательно маркирует свою преемственность, используя всевозможные интертекстуальные отсылки к классике, которые становятся теми знаками звена предыдущего в звене последующем, которые и позволяют говорить о наличии «эволюционных семиотических рядов».
Интертекстуальность на рубеже XX—XXI веков стала знамением вербального творчества и искусства вообще. Поражает сама масштабность включения в современные тексты разнородных интертек-стем, масштабность, которую Л.В. Зубова, автор фундаментальной книги о современной русской поэзии, удачно охарактеризовала как «тотальное цитирование» [7]. Интертекстуальность сегодня выступает своеобразным системным кодом нового человека конца XX века, являясь одновременно одним из ключевых понятий эстетики постмодернизма и принципом организации художественного текста в современной литературе. Термин «интертекст» был введен виднейшим французским постструктуралистом, ученицей Р. Барта, Ю. Кристевой и стал затем, как пишет И. Ильин [8], одним из принципов постмодернистской критики. Интертекстуальность тесно связана с положением Ж. Деррида
«мир есть текст» и предстает прежде всего как единый механизм рождения текстов. Литературоведов же интересует в качестве средства анализа произведения, а в настоящее время еще и как формула определения самоощущения человека конца XX века в контексте культуры. Среди выдающихся отечественных исследователей, внесших существенный вклад в изучение интертекста, нужно отметить М. Бахтина, Ю. Лотмана, И. Ильина, М. Липовец-кого, Н. Фатееву.
В узком смысле интертекстуальность может рассматриваться как факт соприсутствия в одном тексте двух и более текстов, и формами ее реализации выступают цитаты, аллюзии, реминисценции, плагиат и т. п. (см. классификацию Н. Фатеевой [9]). Согласно Ю. Кристевой, «любой текст построен как мозаика цитат, это поглощение и трансформация других текстов» [10, с. 6]. Поскольку место не прочитанных, а «пройденных» классических произведений в сознании массового читателя на сегодняшний день занимает рецепция классики в современных текстах, то интертекстуальность представляется вершиной «эволюционного семиотического ряда» [11, с. 608] классического культурного концепта в литературе, происходит процесс замещения классических образов отраженными, переосмысленными и мифологизированными.
Критика неоднозначно относится к подобным явлениям. Так М. Золотоносов весьма негативно высказывается по поводу римейков «Идиот» Ф. Михайлова, «Отцы и дети» И. Сергеева, «Анна Каренина» Л. Николаева и «Чайка» Б. Акунина: «Еще недавно вторичность считалась признаком убожества. Теперь плагиат обрел респектабельность, бездари приосанились, гордясь тем, что владеют чужим (так Ноздрев гордился тем, что щенки ворованные). В этом производстве смешались неспособность литераторов придумать оригинальный сюжет и обусловленное потребностями издательств промышленное создание ухудшенных копий» [12]. Думается, что подобное «нешкольное перечитывание» классики есть реакция на современный дефицит духовности, способ возврата утраченных ценностей, переосмысление классического наследия. Именно интертекстуальные отсылки к классике делают современные тексты более глубокими и интересными, заставляют читателя быть соавтором и сотвор-цом подобных рецепций.
В контексте паратекстуальности очень важен вопрос взаимоотношения художественного текста и его названия. В названиях произведений конца XX в. широко распространен прием апелляции к прототексту. Часто новые названия возникают путем оценочной трансформации классических: М. Гатчинский «Раскольников и ангел», В.Пьецух «Город Глупов в последние 10 лет», О. Шишкин «Анна Каренина-2». Творчество И.С. Тургенева интерпретируется в ремейках Е. Попова «Накануне накану- не», И. Сергеева «Отцы и дети»; актуальная проблема чистоты и величия русского языка (тургеневская аллюзия) раскрывается в рассказах В. Пьецуха «Драгоценные черты», «Успехи языкознания» и в публицистике Т. Толстой «Русский мир», «Надежда и опора», «На липовой ноге». Известный текст Л.Н. Толстого пародируется в «Анне Карениной» Л. Николаева, сюжетное сходство аллюзивно разрабатывается М: Мареевой («Зависть богов, или Последнее танго в Москве»), В качестве тропа толстовские аллюзии находим в «Роковой Марусе» В. Качана. Известное высказывание «Красота спасет мир» парадоксально переосмысливается В. Маканиным в «Кавказском пленном»... Наиболее востребованными современной литературой оказались А.С. Пушкин, А.П. Чехов и герои их произведений.
«Пушкинский миф» [13], берущий свое начало в статьях ВТ. Белинского и Ф.М. Достоевского, анекдотах Д. Хармса и «Прогулках с Пушкиным» А.Терца, активно достраивается современными текстами. В рассказе Т. Толстой «Ночь» Пушкин — любимый (и единственный!) писатель у слабоумного Алексея Петровича, возможно, потому, что есть в «наружном, дурном, неправильном» мире такое название: Пушкинская площадь (аллюзия на эссе М. Цветаевой «Мой Пушкин»: маленькая героиня тоже впервые знакомится не с поэтом, а с его памятником — «...просто Памятник-Пушкина» [14, с. 23]). Автор подчеркивает детское восприятие взрослого человека. Толстая включает в текст пушкинскую цитату с атрибуцией дважды: в каноническом варианте, а затем в варианте героя:
«Вечерами Мамочка садится в просторное кресло, спускает на нос очки и густо читает:
Буря мглою небо кроет, Вихри снежные крутя, То как зверь она завоет, То заплачет, как дитя. /.../
Так вот слова до конца дойдут — и назад поворачивают, снова дойдут — и снова поворачивают.
Бурям, глою, небак, роет, Вихрись, нежны, екру, тя! Токаг, зверя, наза, воет, Тоза, плачет, кагди, тя!
Очень хорошо! Вот так она завоет: у-у-у-у-у!» [15].
Это не просто восприятие пушкинских строк слабоумным героем, это современное их восприятие: мы слышим ритм строк, но не погружаемся в их смысл.
Ю. Буйда в рассказе «Синдбад Мореход» описывает старушку, прожившую на редкость неудачную жизнь и получившую прозвище за дальние походы в поисках пивных бутылок. Перед смертью героиня просит уничтожить свои бумаги, содержание кото- рых — стихотворение А.С. Пушкина «Я вас любил». Вновь, как и в случае с Алексеем Петровичем, известные строки цитируются неточно, однако не становятся менее магическими: «Сохранилось восемнадцать тысяч двести пятьдесят два листа бумаги разного формата, на каждом — восемь бессмертных строк, не утративших красоты даже без знаков препинания — ни одного из тринадцати старуха ни разу не употребила. Она писала, видимо, по памяти и делала ошибки: например, слово «может» непременно с мягким знаком в конце. Слово же «Бог» — вопреки тогдашней советской орфографии — всегда с большой буквы». «На каждом листочке стояла дата, а на некоторых были приписки; «5 марта 1953 года — «помер Сталин», 19 апреля 1960 года — «помер Федор Федорович», 12 апреля 1961 года — «Гагарин улетел на Луну», 29 августа 1970 года — «Петинька (это был внук) родил дочку Ксению»...» [16]. Это дневник жизни и души героини.
В рассказе «Сюжет» (миф открыт любому будущему) Т. Толстая позволяет осуществиться невозможному: выживший на дуэли поэт умирает от ледышки, пущенной ему в голову маленьким Володей Ульяновым, и случайно спасает Россию от кровавого коммунистического террора, отлупив сорванца палкой по голове. Удивительно, но мифологическим подвигом становится именно это избиение, а не стихи, которые по сюжету уже забыты народом. В рассказе Т. Толстой «Лимпопо» прочитывается мысль о возможном мифическом воскрешении Пушкина во втором рождении, что, по мысли героев, может стать единственным способом изменения мира к лучшему.
В отличие от пушкинского, чеховский миф начинает оформляться лишь в конце XX века. Происходит это чрезвычайно интенсивно. Думается, он вызван потребностью в совершенной, однако реальной личности. Не случайно на вопрос о том, кто бы мог стать идеальным правителем, Эжен Ионеску ответил: «Чехов».
Название рассказа В.А. Пьецуха «Уважаемый Антон Павлович!» [17] — реминисценция из писем к Чехову. Подобное обращение может прочитываться двояко: и как элемент игры, и как факт мифологизированной действительности. Автор создает «живого Чехова», для чего описывает его внешность с помощью реминисцентных деталей известного портрета писателя «пиджака, /.../ пенсне». Образ Антона Павловича рождается, как «мозаика цитат» (Ю. Кристева), а точнее, реминисценция из школьного учебника литературы («Личность Чехова поражает сочетанием душевной мягкости...»), воспоминаний его жены («человек будущего») и друзей («Чехов источает какой-то свет»). Наполнение образа «плотью и кровью» происходит за счет реми-нисцентного перечисления фактов биографии: «...строил на свой счет школы для крестьянских детей, даром лечил и т. д.» Вывод Пьецух делает с помощью точной атрибутивной цитаты: «В человеке должно быть все прекрасно...» и преобразованной цитаты без атрибуции («как было загадано»), отсылающей нас к рассказу «Крыжовник». В конце рассказа: Пьецуху удается не только возродить «живого Чехова», но и поселить его в нашем времени, как реального адресата писем.
Повесть Ю. Кувалдина «Ворона» [ 18] («выворотка» «Чайки», по его собственному определению [19]) организована по принципу гипертекстуальности (по классификации Ж. Женетта [20]), но в тексте есть также реминисценции из других пьес, что ставит ее в полемические отношения со всем драматическим творчеством классика.
Реминисценции, открывающие повесть, сразу заявляют о ее пародийной, «вывороченной» сущности: смена названия («Чайка» — «Ворона»), замена изображения на занавесе («Занавес, на котором была изображена ворона, открылся»), точная цитата («Солнце только что зашло»). Называя «Ворону» повестью, автор подчеркивает ее синтезирующую природу: в начале занавес поднимается, в конце — опускается, герои постоянно выходят к рампе, спрашивают друг друга, где сцена, невидимый режиссер подсказывает следующий выход... Пародирование жанра драмы содержится в авторской ремарке («актеры в этом месте хорошо продержали паузу»), в «Чайке» пауза повторяется 31 раз, подчеркиваются реминисценции, буквально реализующие драматический принцип Чехова: «Люди обедают, только обедают...» Герои Кувалдина, даже говоря о жизни и смерти, не перестают что-нибудь готовить или жевать. Такая игровая ситуация наводит на мысль о пессимистическом отношении автора к своим героям, это предсказание их дальнейшей судьбы, данное опосредованно, через реминисценции. Семь раз в действие вступают скрипка и виолончель, что является аллюзией на звук лопнувшей струны в «Вишневом саде».
Использование реминисценций из «Чайки» позволяет читателю сопоставить героев в пьесе и повести. Наиболее многогранный образ Маши. Участие в пьесе, влюбленность в ее автора, повторяемая Машей «вывороченная» реминисценция «Я ворона» напоминают о Нине Заречной. Хотя черный цвет одежды через реминисценцию («— Почему ты всегда ходишь в черном?») соотносит героиню с чеховской Машей.
Сопоставимость с Ниной есть в образе Ильинской, которая «всю жизнь мечтала сыграть Заречную», к тому же цитирует ее монолог: «Люди, львы, орлы и куропатки...» Смысловая нагрузка усиливается за счет авторской ремарки: слова актриса произносит картинно, «не своим голосом», осознавая всю их неуместность в данный момент. Светлые чеховские идеалы добра и красоты оказываются вывернутыми по воле неумолимого времени.
Читают Чехова у Кувалдина лишь Ильинская и Александр Сергеевич: «Мне Чехова достаточно:
«Дуплет в угол... Круазе в середину...», «— Но и Борхес для компании Гоголя и Чехова, думаю, маловат, — сказала Ильинская».
Из анализа всевозможных реминисценций у читателя рождается мысль об измельчании интеллигенции, девальвации духа в современной ситуации. Как и герои «Вишневого сада», они «опоздали на поезд». Тема невозвратимо ушедшего времени также вводится через реминисценции (Ср.: «Вот были роли! Вот были тексты!»,«— Как это хорошо, Александр Сергеевич! — сказала с придыханием Ильинская. — Какие были годы!» и « Лопахин . Да, время идет. Гаев . Кого? Лопахин . Время, говорю, идет». Это единственная серьезная тема, которую обсуждают герои, не перставая «обедать».
В тексте совершенно отчетливы реминисценции из «Трех сестер»: «Зачем мы в Москву приехали? Не понимаю. Учиться, учиться! В Москву, в Москву!...», «Дяди Вани»: «— Все пройдет, все успокоится... /.../ Мы услышим ангелов и увидим небо в алмазах». За беспощадно ироничной игрой цитатами слышны ноты горечи по отношению к нашему времени, для которого «вороны и чайки — одно и то же», а «полет над свалкой человечества» — проявление «сложных форм поведения» индивидуальной человеческой личности.
В современной литературе прием интертекстуальной ссылки и отдаленного повтора классических образов и произведений выходит на первый план, став одним из основных приемов построения художественного текста, как модернистского и постмодернистского, так и реалистического, прозаического, драматического и поэтического. Интертекстуальные элементы актуализируют определенные грани смысла текста-предшественника, модифицируют и обогащают новыми смыслами вновь создаваемый текст. Отсылки к каждому отдельному автору образуют семиотические эволюционные ряды, которые объединены не только общим первоисточником (классикой), но и типологией интертекстуальных элементов. Таким образом, интертекстуальное взаимодействие русской классики с современной литературой и читателем может быть названо «парадигмой эпохи».
Список литературы Полемическая интерпретация классики как "Парадигма эпохи"
- Степанов, Ю. Семиотика концептов//Семиотика: Антология/Сост. Ю.С. Степанов. Изд. 2-е, испр. и доп; -М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2001.
- Адамович, М. Юдифь с головой Олоферна (псевдоклассика в русской литературе 90-х)/М. Адамович//Новый мир. -2001. -№ 7.
- Катаев, В.Б. Игра в осколки: Судьбы русской классики в эпоху постмодернизма/В.Б. Катаев. -М.: Изд-во МГУ, 2002.
- Ключевский, В.О. Методология русской истории. Лекция IV//В.О. Ключевский. Соч. в 9 томах. Т. VI. Специальные курсы. -М.: Мысль, 1989.
- Степанов, Ю. Семиотика концептов//Семиотика: Антология/Сост. Ю.С. Степанов. Изд. 2-е, испр. и доп. -М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2001.
- Лобок, А. Антропология мифа/А. Лобок. -Екатеринбург, 1997.
- Зубова, Л. В. Современная русская поэзия в контексте истории языка/Л. В. Зубова. -М.: Новое литературное обозрение, 2000.
- Ильин, И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм/И. Ильин. -М.: Интрада, 1996. 9.
- Фатеева, Н.А. Контрапункт интертекстуальности/Н.А. Фатеева. -М.: Агар, 2000.
- Кристева, Ю. Бахтин, слово, диалог и роман/Ю. Кристева//Диалог. Карнавал. Хронотоп. -1994, -№4.
- Степанов, Ю. Семиотика концептов//Семиотика: Антология/Сост. Ю.С. Степанов, Изд. 2-е, испр. и доп. -М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2001.
- Золотоносов, М. Игра в классики: ремейк как феномен новейшей культуры/М. Золотоносов//Московские новости. -2002. -№ 23. -27 августа.
- Загидуллина, М. Пушкинский миф в конце XX века/М. Загидуллина. -Челябинск, 2001. 14.
- Цветаева, М.И. Мой Пушкин/М.И. Цветаева, -Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1978.
- Толстая, Т. Ночь/Т. Толстая//Любишь -не любишь, -М., 1997. С. 105-115.
- Буйда, Ю. Синдбад Мореход//Ю. Буйда. Прусская невеста. -М.: НЛО, 1998.
- Пьецух В. Уважаемый Антон Павлович!/В. Пьецух//Веселые времена. -М.: Моск. рабочий, 1988.
- Кувалдин, Ю. Ворона//http://kuvaldin -yurij. bookru. net/cont/kuwaldin/10 html
- Кувалдин, Ю. Никакая схема не устоит // Интернет-журнал молодых писателей России «Пролог» //http:// www. ijp. га/show/pr. php? failn= 01401600208. 20.
- Женетт, Ж. Палимпсесты: литература во второй степени/Ж. Женетт. -М., 1982.