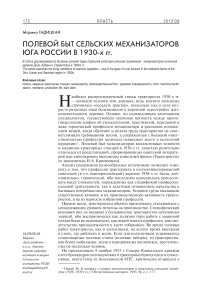Полевой быт сельских механизаторов юга России в 1930-х гг
Автор: Гадицкая Марина Александровна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 9, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются бытовые условия труда отдельной категории сельских тружеников – механизаторов колхозной деревни Дона, Кубани и Ставрополья в 1930-х гг.
Колхоз, машинно-тракторная станция, механизатор, производственный быт, трудовая повседневность
Короткий адрес: https://sciup.org/170167141
IDR: 170167141
Текст научной статьи Полевой быт сельских механизаторов юга России в 1930-х гг
Н аиболее распространенный типаж тракториста 1930-х гг. — молодой человек или девушка, ведь именно молодежь стремилась «оседлать трактор», поскольку уже в силу воз -раста разделяла идеи большевиков о коренной перестройке жиз-недеятельности деревни. Однако, по справедливым замечаниям специалистов, «существовала огромная пропасть между пропа-гандистским мифом об увлекательной, престижной, передовой и даже героической профессии механизатора и реальным положе нием вещей, когда обучение и оплата труда трактористов не соот ветствовали требованиям жизни, а сопряженная с большой ответ ственностью профессия занимала невысокое место в колхозной иерархии»1. Полевой быт механизаторов коллективных хозяйств и машинно тракторных станций в 1930 х гг. зачастую разительно отличался от представлений, сформированных советской литерату рой или киноэкраном (вспомним известный фильм «Трактористы» со знаменитым Н.А. Крючковым).
Анализ содержания разнообразных источников позволяет гово рить о том, что профессия тракториста в коллективизированной советской (в т.ч. южнороссийской) деревне 1930-х гг. была, дей-ствительно, героической, ибо последним приходилось преодоле вать массу сложностей, порожденных как спецификой профессио нальной деятельности, так и халатным отношением начальства к бытовым потребностям механизаторов. Условия труда оказывали существенное влияние и на производственную активность тракто ристов, и на их верность избранной профессии.
Прежде всего, трактористам обычно приходилось сталкиваться с ненадлежащим уровнем гигиены на производстве. Специфический внешний вид не вызывал у большинства трактористов негативных эмоций, ибо воспринимался как должное (при работе с машиной нельзя было не испачкаться), как некий знак их профессии, как сви-детельство принадлежности к касте избранных. Во время полевых работ трактористы, как и колхозники, на долгое время выезжали в степь, где работали и жили. Если для колхозников устраивались стационарные полевые станы (полевые таборы), то трактористы, как более мобильные, жили в передвижных вагончиках, рассчитан ных на несколько человек.
На проходившем 9 ноября 1933 г. Северо-Кавказском краевом слете бригадиров полеводческих и тракторных бригад один из участ-ников, некто Гегер из Аполлонской МТС, критически отзывался о внешнем виде механизаторов, говоря, что если посмотреть на среднестатистиче -ского тракториста, то «свинья и то бывает иногда чище этого человека». Колхозы, на полях которых работали трактористы из той или иной МТС, практически не заботились о них. Поэтому, продолжал Гегер, ему пришлось лично ухаживать за собственным 16-летним сыном, работав -шим в одном из тракторных отрядов. Он вынужден был запрячь «пару лошадей и поехать за 10—15 километров, чтобы его выкупать и отчистить»1.
Довольно распространенными явля-лись случаи, когда дирекция МТС прояв-ляла равнодушие в вопросе обеспечения трактористов спецодеждой, необходи мость в которой особенно ощущалась в осенне зимний период, когда требова лись фуфайки, теплые штаны, сапоги. Если летом механизаторов не очень - то заботило отсутствие отдельных элемен тов одежды или обуви, то с наступлением холодов вопрос приобретал крайнюю остроту. Не удивительно, что участники совещания бригадиров тракторных бри гад, проходившего 25—26 октября 1933 г. при управлении Северо Кавказского Крайзернотрактора в Ростове - на-Дону, высказывали множество претензий к своему начальству, не обеспечивавшему их теплой одеждой2.
Неудовольствие трактористов вызы вала и неудовлетворительная постановка их продовольственного обеспечения на производстве. В отдельных МТС адми-нистрация внимательно следила за поло жением своих работников, особенно передовиков, которым предоставлялись бесплатные обеды3. Зачастую, однако, МТС и колхозы, как монополисты работодатели, не очень то беспокоились о питании механизаторов. Показателен следующий пример: в марте 1934 г. в Коноковскую МТС и в ряд подчинен ных ей колхозов прибыл корреспондент газеты «Молот» с проверкой положения трактористов. Положение оказалось неу довлетворительным, а когда журналист спросил о причинах, «руководители кол хоза им. Тельмана... прямо удивились: “Да ведь трактористы-то наши колхозники — чего же их кормить хорошо?!”»4. В этой фразе явственно звучит интонация: «да что нам возиться с нашими то колхоз никами, куда же они от нас денутся?». В итоге меню во многих тракторных отря дах оставалось скудным и однообразным, а то и вовсе ограничивалось только хле бом и жидкой похлебкой. Такие случаи с наибольшей частотой наблюдались в пер вой половине 1930-х гг., когда ситуация в коллективизированной деревне была наиболее тяжелой вследствие вызванной форсированным «колхозным строитель ством» дезорганизации аграрного произ водства и всего жизненного уклада кре стьянства.
Если мужчины механизаторы сталкива лись с массой бытовых проблем на произ водстве, то вдвойне труднее приходилось их коллегам женщинам. Как известно, представители власти в СССР всячески стремились активизировать процесс фор мирования механизаторских кадров за счет привлечения женского населения деревни. В частности, партийное руко водство на Юге России не оставляло без внимания гендерный подход в сфере под готовки механизаторских кадров. Бюро Северо-Кавказского крайкома ВКП(б) своим постановлением «О развертывании подготовки механизаторских кадров» от 24 декабря 1933 г. обязывало райкомы ком -партии, политотделы МТС и дирекцию совхозов «обеспечить выдвижение жен щин и комсомольцев» на курсы механиза торов5. Поскольку механизаторами стано-вились в основном молодые жительницы села, задача более активной отправки их на механизаторские курсы возлагалась и на местные организации ВЛКСМ («ком-сомольские организации должны в пер вую очередь возглавить движение женщин за освоение сложной сельскохозяйствен ной техники»6).
Призывы: «Девушки — на трактор!» вызывали отклик у многих молодых кол хозниц, привлеченных как романтикой профессии механизатора, так и возможностью получения материальной неза-висимости и достижения относительно высокого социального статуса. Однако бытовые условия на производстве осту -жали пыл многих новоявленных тракто ристок.
Во - первых, женщинам было физически труднее работать на тракторе или ком байне, чем мужчине. Особенность техни ческих средств 1920- х—1930 - х гг. заключа -лась в том, что они требовали приложения значительных физических усилий, на что по определению не способны большин -ство представительниц слабого пола. М.А. Шолохов в одном из своих произ -ведений привел рассказ председателя дон -ского колхоза о том, насколько тяжело давалась девушкам работа на тракторе: «...завести от руки нахолодалый трактор, — как ты его ни грей, — скажем, дело не легкое. И вот идешь по полю, а она, девчонка трактористка, за два киломе тра к тебе по борозде бежит, спотыкается. “Дяденька Корней Васильевич, крутни! Силы у меня не хватает”. А ты ведь пони -маешь, как с девичьим, нежным животом такую тяжесть провернуть?! Тут нетрудно и надорваться. Тут и наш мужчинский, кряжистый костяк, и тот иной раз в хря щах похрустывает.. ,» 1
Кроме того, тракторы и комбайны, как закупленные за границей, так и произ веденные на советских заводах (в основ -ном по западным образцам), рассчи-тывались исключительно на габариты мужчины. Женщинам, работавшим на таких машинах, было даже сложно дотя нуться до рычагов или руля. Руководство Наркомзема СССР в августе 1936 г. пред -писало переделать сиденья колесных тракторов на более удобные для женщин, но местные власти проигнорировали это решение2.
Во вторых, женщины гораздо острее реагировали на неудовлетворительные санитарно гигиенические условия в трак торных отрядах, чем мужчины, ибо нуж дались в большей личной гигиене. Их не очень то устраивало проживание в вагон чиках, рассчитанных на несколько чело век, совместный сон вповалку и т.д. Не случайно представители власти предпо читали формировать из женщин отдель ные механизаторские бригады. Так, к исходу 1934 г. в Северо- Кавказском крае насчитывалось 11 тракторных, 3 комбай нерских и 1 пиккерная женских бригады3. Но такие меры давали ограниченный эффект, поскольку руководство МТС нередко не желало усложнять ситуацию на производстве выделением женских бригад.
Тяжелые условия труда и быта отрица тельно сказывались на производственной активности, профессиональном уровне механизаторов обоих полов и их при верженности избранному роду деятель ности. Взаимосвязь между неудовлетво рительным положением механизаторов и их отношением к работе и к технике пре красно отразил в своем докладе на 2 м краевом съезде колхозников - ударников Северо - Кавказского края в начале 1935 г. заведующий сельхозотделом крайкома ВКП(б) В.Ф. Дятлов. Рассказав, в каких неприглядных материально бытовых условиях механизаторам приходится работать, Дятлов обоснованно заме тил, что тракторист «как живет в грязи, так и к машине относится неряшливо», ибо «как же он, тракторист, при таком к нему отношении будет хорошо работать и аккуратно относиться к тракторам и машинам?»4
Сложности полевого быта заставляли многих механизаторов отказываться от избранной ими профессии. Немало трак тористов переходили с одной машинно тракторной станции в другую или вовсе меняли род деятельности. В начале 1930 х гг. отмечалось, что «текучесть трак тористов по отдельным МТС доходит до 80-90%»5. К исходу 1932 г. текучесть удалось несколько снизить в результате введения гарантированной оплаты труда трактористов, доплат за хорошее состоя ние трактора, за ночные работы, за эко номию горючего и т.д. Однако советские авторы признавали, что и в это время «положение с трактористами в МТС оста ется далеко еще неудовлетворительным»1. До 1933 г. из МТС «ежегодно выбывала почти половина механизаторов», и даже в 1934—1939 гг. — «примерно четверть»2. Высокой текучестью отличались и кадры трактористок. В частности, по данным Трактороцентра СССР, в 1932 г. в Северо-Кавказском крае 4 833 колхозницы рабо-тали в качестве «рулевых трактористов»3. Но в 1934 г. в Азово - Черноморском и Северо Кавказском краях в совокупности насчитывалось лишь 1 878 трактористок (и еще 1 083 комбайнерки)4, т.е. почти на 3 тыс. меньше, чем в 1932 г.
Даже в конце 1930-х гг., когда ситуа-ция в коллективизи рованной де ревне и в сфере колхозного производства на Дону, Кубани, Ставрополье заметно улучшилась, трактористы и в особенно сти трактористки нередко отказывались от работы, причем ведущей причиной выступали именно производственно бытовые трудности. Так, к весне 1939 г. Троицкая машинно тракторная станция Краснодарского края «растеряла» 23 из 28 обученных девушек механизаторов, на собственном опыте убедившихся в том, что работать с техникой - это, пре -жде всего, удел мужчин5. К началу 1941 г. в Орджоникидзевском крае не хватало 900 трактористов6, что являлось законо-мерным следствием текучести кадров, обусловленной невысокой зарплатой и трудностями на производстве.
Итак, полевой быт трактористов Дона, Кубани и Ставрополья на протяже-нии 1930-х гг. формировался под влия-нием особенностей исторической эпохи. Характерное для колхозной системы пренебрежение интересами и потребно стями непосредственных производителей имело своим закономерным результа том массив материально бытовых про блем, которые во весь рост вставали перед механизаторами. Трактористы постоянно сталкивались с неудовлетворительными санитарно гигиеническими условиями на производстве, дефицитом и низким каче ством питания, нехваткой спецодежды и пр. Под влиянием перечисленных трудно -стей немало трактористов отказывались от профессии, которая ранее казалась им такой престижной. Тем не менее, несмотря ни на что, большинство сельских механи заторов Юга России сохраняли верность своей профессии и доблестно трудились на машинно тракторных станциях и на колхозных полях, обеспечивая продо вольственную безопасность Советского Союза.