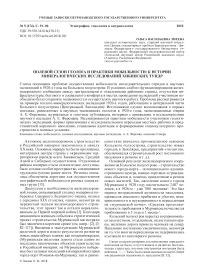Полевой сезон геолога и практики мобильности: к истории минералогических исследований хибинских тундр
Автор: Змеева Ольга Васильевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Этнография, этнология и антропология
Статья в выпуске: 5 (174), 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме осуществления мобильности исследовательских отрядов и научных экспедиций в 1920-е годы на Кольском полуострове. В условиях слабого функционирования железнодорожного сообщения между центральными и отдаленными районами страны, отсутствия инфраструктуры, бытового и социального комфорта в местах проведения экспедиций участникам необходимо было сохранять подвижность и осуществлять научную работу. Проблема рассматривается на примере геолого-минералогических экспедиций 1920-х годов, работавших в центральной части Кольского полуострова (Центральной Лапландии). Источниками служат воспоминания о первых поездках, разведочных и научных экспедициях геологов в 1920-е годы, экспедиционные очерки А. Е. Ферсмана, журнальные и газетные публикации, интервью с краеведами и исследователями научного наследия А. Е. Ферсмана. Рассматриваются практики мобильности участников геологических экспедиций, формы привлечения к исследовательским переходам местных рабочих и представителей коренного населения, социальная адаптация и формирование социокультурного пространства в полевых условиях.
Мобильность, полевые исследования, научные экспедиции, а. е. ферсман, освоение севера
Короткий адрес: https://sciup.org/147226325
IDR: 147226325 | УДК: 39:550.34.016(470.21) | DOI: 10.15393/uchz.art.2018.181
Текст научной статьи Полевой сезон геолога и практики мобильности: к истории минералогических исследований хибинских тундр
Активное железнодорожное строительство в Российской империи закончилось к началу XX века. Основные маршруты были проложены, интеграция центра страны с окраинными территориями (прежде всего Закавказьем, Средней Азией и Сибирью) осуществлена. Отдаленные районы империи стали относительно доступны, было создано особое пространство, соединившее труднодоступные ранее места. Регионы оказались обеспечены дорогами для осуществления географической мобильности разных социальных групп [15].
Дискуссии о необходимости железнодорожной линии, связывающей столицу империи и побережье Северного Ледовитого океана, велись с середины XIX столетия, однако, несмотря на пережитый подъем железнодорожного строительства, этот проект так и остался нереализованным до Первой мировой войны [1]. Благодаря начавшимся военным событиям стратегический проект строительства Мурманской магистрали был закончен в короткие сроки1 (см. напр.: [2], [3: 82–117]). Введение в эксплуатацию Мурманской железной дороги имело результатом развитие новых масштабных планов: как позднеимперских (Мурманская железная дорога стала одним из последних законченных объектов строительства в Российской империи; на Мурманском побережье был заложен последний в имперской истории город-порт Романов-на-Мурмане), так и ранне- советских (началось промышленное освоение Кольского полуострова, строительство новых городов в Заполярье, предприятий-«гигантов», обеспечивался стремительный рост постоянного населения в регионе и т. д.).
Основной результат железнодорожного сооружения на Кольском полуострове – строительство нового города-порта - потенциального административного центра, военно-торговых и гражданских объектов и, конечно, привлечение в регион новых жителей. Так, население нового города Мурманска в 1920 году насчитывало 2487 человек, а в 1926-м – уже 7001 человека2. Это был период миграционной активности населения, процессов массового прибытия и убытия, незакрепленности и неукорененности переселенцев на «мурманской почве»: «Средняя продолжительность пребывания в Мурманске исчисляется приближенно в 3 года и 1 месяц»3.
Кольский полуостров перестал восприниматься захолустным, отдаленным, недоступным краем, железная дорога привела человека на север. Население постепенно увеличивалось, несмотря на то, что многие переселенцы не задерживались и уезжали из заполярного региона:
Своих сельских резервов для пополнения городского населения не было, отсутствовала и развитая поселенческая структура, поэтому внутренная миграция была невелика. <…> Здесь была самая высокая на всем Севере миграционная подвижность населения [8: 53].
Мурманская железная дорога, эта «узкая лента культуры», по яркому высказыванию А. Е. Ферсмана, связала наконец центр страны с Мурманским берегом. Она позволила приезжать в северные районы людям, стремящимся найти новый дом на отдаленном севере, желающим переселиться, а также реализовываться многим этносоциальным, научным, экономическим и промышленным планам.
Вплоть до 1920 года, то есть до ухода интервентов и белогвардейцев с Мурмана, Кольский полуостров воспринимался многими россиянами как неразвитая и малоперспективная территория. Регион, конечно, был труднодоступен, однако отдельные сведения по истории, этнографии, географии и экономике полуострова имелись. Начиная с XVIII века на территории края осуществлялись исследования Петербургской академии наук, затем были Финляндская экспедиция, Мурманская научно-промысловая экспедиция и другие. Были получены топографические данные и составлены карты полуострова, заложены основы геологических изысканий, регулярно проводились океанологические исследования. Важнейший результат – создание стационарной научной базы - Мурманской биологической станции. Наиболее результативными научные поиски оказались на побережьях и в районах, омывающих Кольский полуостров Баренцева и Белого морей. Это исследования Н. Я. Озерецковского, И. И. Лепехина, Н. М. Книповича, Л. Л. Брейтфу-са, С. В. Аверинцева, К. М. Дерюгина, Ф. П. Литке, М. Ф. Рейнеке и многих других.
За весь дооктябрьский период изучение центра полуострова, минеральных и рудных ресурсов практически не производилось. Но почва для исследования недр подготовлена была, прежде всего благодаря геологическим экспедициям финского исследователя В. Рамзая и русского ученого Е. С. Федорова.
Экспедиции крупнейших специалистов из «столичных» учреждений многократно проводились в 1920-е годы. Комплексные исследования Мурмана начаты усилиями Северной научно-промысловой экспедиции4 (см. напр.: [7]). 1920-1930-е годы - это десятилетия благополучного и успешного исследования Кольского полуострова, когда осуществлялся советский проект индустриализации и модернизации северных и отдаленных районов страны.
Остановимся на исследовании центральной части Кольского полуострова периода так называемой «хибинской эпопеи» А. Е. Ферсмана, времени геолого-минералогических открытий в Хибинских и Ловозерских тундрах.
Особого внимания заслуживает сюжет о первой поездке А. Е. Ферсмана на Кольский полуостров. В июне 1920 года, через два месяца после освобождения Севера от «английской оккупации», сотрудники Академии наук поя- вились в Мурманском крае. На Кольский полуостров приехала комиссия в составе президента Академии наук А. П. Карпинского, академика А. Е. Ферсмана и геолога Геологического комитета А. П. Герасимова. Целью было «представить соображения о развитии производительных сил Кольско-Карельского района и решить вопрос дальнейшего использования Мурманской железной дороги» [6: 264]. «Разрушенность» Мурмана, которую наблюдали академики, приехавшие из Петрограда, и разнообразный минеральный мир Хибин, с которым они столкнулись, неоднократно упоминались коллегами-геологами, историками и журналистами в качестве первых контрастных впечатлений А. Е. Ферсмана от этой поездки. Вслед за академиком Ф. Н. Чернышевым они сравнивают участников поездки с «пришельцами, которые пробудят ее (природу Кольского полуострова. – О. З.) к новой жизни» ([14: 141], то же [5: 15]). Это высказывание стало прецедентным, его же использовал Ферсман в экспедиционных очерках.
Важнейшая остановка произошла на участке Кандалакша - Кола Мурманской железной дороги. Известно, что в связи с отсутствием топлива для паровоза вечерняя запланированная остановка поезда на станции Имандра превратилась в долгую стоянку. Заправка дровами обернулась для единственного минералога из группы, поднявшегося на вершину ближайшей возвышенности, десятилетиями исследований Хибинского горного массива и выдающимися открытиями.
Для меня сразу же стало ясным, что Хибины – это целый новый своеобразный мир камня и что углубленное изучение природы Хибин не может не привести к крупным открытиям новых полезных ископаемых5.
В рассказах Александра Евгеньевича, воспоминаниях его спутников и учеников эта случайная остановка приобрела статус знакового события. Ее последствиями стали не только научные геолого-минералогические открытия в горных районах Кольского полуострова, но и в целом индустриализация заполярного региона. С одной стороны, Хибины открылись взгляду профессионала-минералога благодаря проложенной еще в Российской империи железной дороге. Несмотря на поврежденное и местами разрушенное состояние, она привела исследователей к подножию горного массива. С другой стороны, потенциальным открытиям способствовали отсутствие электричества на железнодорожной линии и несовершенная техника, управление которой требовало длительных остановок и выходов за пределы железнодорожных путей. Наконец, специфика заполярного климата позволила совершить ночную прогулку. «Поздно вечером», но в «светлый полярный день» специалисты смогли не только осмотреть окрестности, но и провести первые наблюдения. Вообще все в этой первой поездке и остановке кажется парадоксальным:
время выезда, полярный день, поздняя остановка именно в районе возвышенности, решение членов комиссии подняться на эту возвышенность, присутствие единственного специалиста, способного оценить перспективы, и т. д. Исследования Хибинских гор начинаются фактически со сказочного сюжета, а главный герой «выступает во всех функциях культурного героя: провидца, первопроходца, просветителя, имядателя и даже трикстера» [9: 61].
Воспоминания о первой поездке, точнее, случайной остановке поезда закрепляют за Александром Евгеньевичем роль первооткрывателя и символического создателя, условно первого человека, вступившего на землю: экспедиции показывали, что карты предыдущих исследователей Хибин были неправильно составлены, «там, где на наших картах нанесены низины, открывался целый новый совершенно неведомый горный мир» [14: 141]. За первыми восхищениями и последовавшими многочисленными научными экспедициями, великими открытиями, созданием городов и предприятий совершенно потерянными оказались сведения об этой первой поездке академика Ферсмана в Заполярье. В частности, мало что известно о времени выезда на Мурман и возвращении в Петроград президента Академии наук А. П. Карпинского и академика А. Е. Ферсмана. Известно лишь то, что в конце мая (или, по другой версии, начале июня 1920 года) «…их состав прибыл на станцию Имандра, где паровоз должны были снабдить дровами» [4: 6]. Несмотря на большой объем воспоминаний, очерков и статьей, написанных самим Александром Евгеньевичем, исследователи его научного наследия не соглашаются со сведениями, приведенными академиком, а утверждают: «Тот первый маршрут остался запечатленным лишь в памяти Ферсмана» [11: 220]. Как говорят геологи, в случае подобной остановки и кратковременной прогулки нет «привязанности» к месту и времени. Таким образом, первый маршрут на окраинную возвышенность Маннепахк в 1920 году – отправная точка «хибинской эпопеи» открытий – остался незамеченным, условно зафиксированным. Поход участников поездки на возвышенность, первый сбор минералов современные кольские геологи по-прежнему называют «прогулкой». Но именно она, эта прогулка, не предусмотренная планом официальной поездки, вызывает дискуссии в среде профессионалов и в настоящее время. При этом сам факт поездки не подвергается сомнению, нет претензий и к «остановке» паровоза на конкретной станции (это подтверждается официальными документами, выписками из архивов и т. д.). В данном случае миф о «первооткрывателе» Ферсмане поддерживается. Переоценке подвергаются временные рамки поездки. Историки и краеведы выясняют точную дату выезда академика из Петрограда. Обсуждается не только время, проведенное Ферсманом в первой поездке на Кольский полуостров, но и состав участников экспедиции, уточняются направляющие организации и другие обстоятельства [5], [6]. Геологи, последователи А. Е. Ферсмана, повторяют первый маршрут академика от станции Имандра до вершины ближайшей возвышенности, замеряя время в пути, делая отметки расстояний, желая наблюдать увиденное академиком, запечатлеть свои эмоции и сравнить их с впечатлениями А. Е. Ферсмана, выученными наизусть [4], [11]. Противоречивые сведения о времени выезда приводят наших современников к выводу, что последовательность действий академика-первооткрывателя требует детального, пошагового анализа. Расхождение в каких-то незначительных деталях, например в установлении даты выезда (20 мая или 4 июня 1920 года) или в определении состава экспедиции, дает возможность аналитикам, идущим по тропам А. Е. Ферсмана, выдвигать новые гипотезы. В конечном счете, детали признаются незначительными, а сама поездка – судьбоносной (как для самого академика, так и для будущего региона, в центре которого А. Е. Ферсман и оказался). Для геологов и краеведов существенным остается превращение официальной поездки академика из запланированного мероприятия в неожиданную находку. В ожидании подобной удачи начинают путь в горы многие современные исследователи-полевики.
И участники первой «прогулки» академика, и другие специалисты многочисленных геолого-минералогических и комплексных экспедиций 1920-х годов в центральную часть Кольского полуострова свидетельствуют об отсутствии сформированного социального пространства в этом районе. Мурманск в 1920 году имел статус города, пусть с многочисленными коммунальными и бытовыми проблемами, отсутствием благоустроенного жилья, стихийностью застройки, но имеющим постоянное население, специалистов, продовольствие и прочие атрибуты поселенческой общности с определенной социальной структурой и культурным пространством. Расстояние от Мурманска до станции Имандра составляло приблизительно 150 км. Станция Имандра, как правило, и была отправной точкой экспедиционных отрядов, направленных на работу в Хибины. Здесь не было подготовленной инфраструктуры – только линия железной дороги, небольшая железнодорожная станция, а дальше - естественный ландшафт неизведанных Хибинских гор. Обычная и привычная для геологов-минералогов география. В этой самой малонаселенной губернии СССР (в 1926 году население составляло 23 тыс. человек, из них 7001 человек – это жители Мурманска) [13: 117], в центральной ее части геологам приходилось контактировать с рабочими железной дороги и отдельными группами саамов, ведущими полукочевой образ жизни. Представители этих двух категорий – профессиональной и этнической групп – стали первыми помощниками и проводниками «первопроходцев» Хибинских тундр. Одну из первых книг о научных экспедициях в центральную часть Кольского полуострова А. Е. Ферсман посвятил железнодорожным рабочим.
Им, этим страдальцам северной жизни, работникам, оторванным от своей родины, во мраке ночных месяцев и в утомительно длинном дне лета делающим культурное дело – кто за станционной стрелкой, кто за лентой телеграфа, у железнодорожного полотна или в поселковой больнице, – им, мурманским железнодорожникам, я посвящаю эту книжку6.
В коротком посвящении автор аккумулирует основные проблемы новоселов и будущих переселенцев заполярного региона: это и природноклиматические условия, в которых вынуждены трудиться рабочие, и социокультурные обстоятельства, и ситуация потенциальной миграции (скорее всего, возвратной, маятниковой или вахтовой). Это посвящение – своего рода признание существования особого железнодорожного мира, ленточного социокультурного пространства, не только создавшего возможность реализовать векторное движение на Север, но и призванного обеспечить передвижения по Кольской земле.
Проникнуть в заполярный регион было невозможно не только без железной дороги – линии, соединяющей разрозненные объекты строительства, но и без первых проводников, которыми стали сотрудники железнодорожной службы. Наличие рабочих, сопровождавших и обслуживавших железнодорожные составы, можно рассматривать в качестве необходимого условия организации серьезных научно-исследовательских мероприятий в хибинских ландшафтах.
Добираться до района проведения исследовательских работ участникам экспедиции, естественно, удобнее всего было по Мурманской железной дороге. Время в пути от Петрограда до станции Имандра составляло в 1922 году около трех суток. Передвижение на поезде воспринималось участниками геологических экспедиций как ситуация стабильности. Железнодорожная инфраструктура – как комфортная – «удобный вагон», «уютный железнодорожный домик» и т. п. Видимо, в районе планируемых работ эта инфраструктура являлась единственной стабильной. За ее пределами – временные сооружения, горы, перевалы, снеговые поля, палатки, следы костров и оленьи тропы.
Железнодорожные и станционные рабочие, будучи нанятыми для выполнения функций носильщиков, позволяли исследовательским отрядам сохранять мобильность. Администрация экспедиции нанимала рабочих для транспортировки тяжелых грузов – провианта, палаток, сна- ряжения, отобранных образцов минералов. Однако помощь наемных рабочих часто оказывалась результативной только в районах «освоенного» и привычного для них пространства. В условиях экстремального мира, в который стремились попасть геологические отряды, носильщики, не имеющие необходимых навыков и подготовки, обмундирования и снаряжения, отказывались выполнять требования. С одной стороны, они освобождали путь специалистам, инициированным и вошедшим в профессию. С другой стороны, не являясь «покорителями гор», они остерегались смертельной опасности, боялись сурового, чуждого им мира. При отсутствии постоянного старожильческого населения сведения о горном мире железнодорожники могли получить только у коренных жителей – саами. Знакомство с полукочевой жизнью, саамским фольклором, вполне вероятно, могло вызвать страхи и остановить приезжего рабочего. Начальник экспедиции резюмирует:
Рабочие возвращаются обратно; они измучены пройденной дорогой, скалы перевала и снеговые поля напугали их, детей равнины, русских мужичков; их обувь совершенно оборвалась; на снежных полях и от сильного холодного ветра они промерзли; им не удалось донести груза до назначенного по диспозиции места, и совершенно измученные они стремятся скорее вернуться домой, подальше от всех ужасов гор7.
Адаптированными к местности помощниками были представители аборигенного населения (саами). Перемещаясь при помощи оленей, саам путешествует по Хибинским тундрам, он приспособлен к горному климату. Саами становились успешными проводниками, места их остановок – проверенным местом для организации временных баз, а олени – эффективным способом транспортировки отобранных образцов.
Четыре оленя связывались гуськом один за другим, и каждый из нас мог вести, таким образом, четырех животных с грузом около 10 п. (пудов. – О. З. ) <…>. Но все-таки перевозка тяжелых минеральных грузов на оленях необычно удобна и приятна: олень идет плавно, почти не шелохнется мешок…8
Участники первых геолого-минералогических хибинских экспедиций 1920-х годов оставались мобильными, прежде всего, в рамках профессии, связанной с полевыми исследованиями (геолога, минералога). Железнодорожная служба была призвана обеспечить доступ к району работ и регулярность исследовательского поля. Сохранить активность и подвижность ученым помогали наемные рабочие-носильщики, проводники – представители аборигенного населения, а транспортировку тяжелых грузов обеспечивал специфический перевозчик – северный олень.
Постепенно не только увеличивалось количество исследовательских поездок, расширялась география экспедиций (изучение Монче-тундры и Ловозерских тундр), но и повышалась эффективность пребывания специалистов в регионе. Результатами стали открытие редчайших минералов, оценка запаса рудных месторождений на Кольском полуострове, реализация концепции комплексного использования минерального сырья, создание первой периферической постоянно действующей научной организации, «Мекки для ученых» – Горной станции Академии наук. Началось строительство промышленных объектов и, конечно, новых «социалистических» городов, стремительно выросла численность населения региона.
Ни одна геологическая экспедиция не возвращалась в центр без открытий и находок. На Хибинской горной станции регулярно организовывались и проводились научные мероприятия, организатором и участником которых оставался ее директор А. Е. Ферсман. К нему в гости, в необжитый край из цивилизованного центра приезжали другие великие люди – академики, главы учреждений. Если в августе 1920 года отряд А. Е. Ферсмана был единственным в Хибинах, то к концу 1920-х годов их были десятки, а к середине 1930-х – сотни.
За 1920–1936 гг. на Кольском полуострове побывало 485 научных отрядов и экспедиций, изучением богатств этого края занимались, по подсчетам А. Е. Ферсмана, 62 научных учреждения [6: 281].
В экспедиционных условиях и местах проведения полевых работ объединяются разные виды мобильности (см. типологию мобильностей, существующих в современном мире, предложенную Дж. Урри [12: 79–80]). Полевая работа может соотноситься одновременно с реализацией научного интереса, с туристическим приключением, временем и местом проведения отпуска, с посещением друзей и родственников и т. д. (см. обсуждение вопросов методологии, методики и практики полевых исследований на Севере [10]).
При отсутствии доступных путей, проложенных маршрутов, а иногда и троп трудно подумать об осуществлении индивидуального передвижения. Участники геолого-минералогических экспедиций в Хибинские тундры 1920-х годов не только не имели возможности передвигаться индивидуально – походы в горы были строго регламентированы и не подразумевали передвижение в группах менее двух человек, но и испытывали необходимость в помощи сопровождающих проводников и носильщиков.
Геологическое поле – всегда «отпускное», в условиях Заполярья – как правило, летнее. Отсутствие инфраструктуры, транспорта, актуальных систем навигации и прочих технических средств делает человека маломобильным. Для того чтобы сохранить подвижность, ему необходимо детальное планирование. Но даже четко сформулированный, детализированный план может оказаться несостоявшимся. Исследователи-полевики оказываются ограничены в передвижении обстоятельствами: природными (сезонность, дождливость, ветреность и др.), географическими (проходимость, доступность места и др.), социальными, бытовыми, экспедиционными (планы, карты, маршруты и др.). Они мобильны тогда, когда складываются благоприятные условия. Обращение к экспедициям А. Е. Ферсмана продемонстрировало вариативность форм мобильности в рамках отдельных ее видов и зависимость этих форм от конкретных исторических и локальных контекстов.
(Apatity, Russian Federation)
Список литературы Полевой сезон геолога и практики мобильности: к истории минералогических исследований хибинских тундр
- Витте С. Ю. О моей поездке на Крайний Север (Мурманское побережье)//Из архива С. Ю. Витте. Воспоминания. Т. 1. Рассказы в стенографической записи. Кн. 1. Рукописные заметки. СПб: Дмитрий Буланин, 2003. С. 355-364.
- Голубев А. А. Мурманская железная дорога. История строительства (1894-1917 гг.). СПб.: Петербургский гос. ун-т путей сообщения, 2011. 205 с.
- Дубровская Е. Ю., Кораблев Н. А. Карелия в годы Первой мировой войны: 1914-1918. СПб.: НесторИстория, 2017. 432 с.
- Кабыш З. Каждому -свой Ломоносов/Интервью с Е. А. Каменевым//Мурманский вестник. 2008. 8 ноября. С. 6.
- Каменев Е. А. История открытий Хибинских месторождений//Дважды Два. 2002. № 39. 27 сентября. С. 15.
- Киселев А. А. А. Е. Ферсман на Кольском полуострове//Летопись Севера. Т. 6. М.: Мысль, 1972. С. 263-283.
- Курочкин Г. Д. Исследование минеральных ресурсов экспедициями Академии наук (1919-1959). М.: Наука, 1969. 246 с.
- Михайлов Е. И. Миграционные процессы в истории формирования населения Европейского Севера России в ХХ веке: Дис.. канд. ист. наук. Мурманск, 2004. 222 с.
- Пация Е. Я., Разумова И. А. Genius loci (А. Е. Ферсман)//Северяне: проблемы социокультурной адаптации жителей Кольского полуострова. Апатиты: Изд-во Кольского научного центра РАН, 2006. С. 60-69.
- Поле как жизнь: К 60-летию Северной экспедиции ИЭА РАН/Отв. ред. и сост. Е. А. Пивнева; Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН. М.; СПб.: Нестор-История, 2017. 304 с.
- Токарев А. Д., Каменев Е. А. Первая поездка А. Е. Ферсмана на Кольский п-ов в 1920 г. (о дате поездки и составе делегации)//VII Всероссийская Ферсмановская научная сессия, посвященная 80-летию Кольского НЦ РАН. Апатиты, 2010. С. 220-222.
- Урри Дж. Мобильности/Пер с англ. А. В. Лазарева. М.: Издательская и консалтинговая группа «Праксис», 2012. 576 с.
- Федоров П. В. История Мурмана//Кольский Север: энциклопедические очерки. Мурманск: Просветительский центр «Доброхот», 2012. С. 96-133.
- Ферсман А. Е. Путешествие за камнем. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1960. 392 с.
- Шенк Ф. Б. Поезд в современность. Мобильность и социальное пространство в век железных дорог/Пер. с нем. М. Лавринович. М.: Новое литературное обозрение, 2016. 584 с.