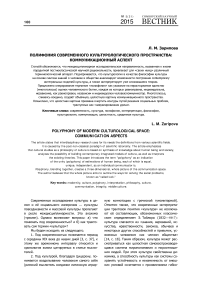Полифония современного культурологического пространства: коммуникационный аспект
Автор: Зарипова Ляйсан Мирзануровна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Философия и культурология
Статья в выпуске: 3 (21), 2015 года.
Бесплатный доступ
Статьёй обозначается, что междисциплинарная исследовательская направленность, вызванная к жизни парадигмой постнеклассической научной рациональности, привлекает для «своих нужд» различный терминологический аппарат. Подчёркивается, что культурология в качестве философии культуры на основе синтеза знаний о человеке и обществе анализирует возможности построения contemporary интегральных моделей культуры, а также интерпретирует уже сложившиеся теории. Предложено оперирование термином «полифония» как указание на нерасторжимое единство (многоголосье) оценок человеческого бытия, каждая из которых равноправна, индивидуальна, независима, как равноправен, независим и индивидуален человек/коммуникатор. Многоголосье, сливаясь воедино, создаёт объёмную, целостную картину коммуникационного пространства. Осмыслено, что целостная картина призвана очертить контуры путей решения социальных проблем, трактуемых как «завуалированная удача».
Современность, культура, полифония, интерпретация, философия, культурология, коммуникация, целостность, срединная культура
Короткий адрес: https://sciup.org/14114123
IDR: 14114123
Текст научной статьи Полифония современного культурологического пространства: коммуникационный аспект
Современные исследования культуры в целом и её социального измерения — культуры повседневности и массовой культуры пролегают в русле междисциплинарности. Это аксиома (трюизм). Однако возникают вопросы: а) что понимать под современностью? и б) как трактовать сам термин «культура»?
Мы будем исходить из следующего.
-
1. Под современностью понимается период с середины XIX века до наших дней [3, с. 37], к этому же временному интервалу относится и хронология жизни цитируемых в статье мыслителей.
-
2. Под культурой, благодаря Цицерону, понимается возделывание человеком самого себя (римский мыслитель соединил латинскую аграр-
ную коннотацию с греческой гуманитарной). Отметим также, что современные интерпретации трактовок понятия «культура» не исключают её составляющих, обозначенных классическим определением Э. Тайлора (1832—1917): культура слагается из «знания, верований, искусства, нравственности, законов, обычаев и некоторых других способностей и привычек, усвоенных человеком как членом общества» [14, с. 18]. Таким образом, культура может рассматриваться как целостная самовоспроизводя-щаяся система миропонимания и мироотноше-ния людей. При этом культуре свойственна динамика, а способность культуры как системы сохранять устойчивость и неизменность от внешних условий сочетается с проявлениями гибко-
- сти, открытости, адаптации к различным обстоятельствам.
-
3. В качестве специфической функции человеческого бытия культура есть предмет культурологии — общетеоретической дисциплины, представляющей собой синтез гуманитарного знания о человеке и обществе [16]. Философия же культуры — это раздел философии и одновременно «сердцевина» культурологии, она призвана строить интегральные смысловые модели культуры. Культурологический анализ участия философии в «снятии вуали с удач», т. е. в решении социально значимых проблем (проблема нами рассматривается как завуалированная удача) обусловливает привлечение новых терминов. Полифония из их числа.
Определимся также с анализируемыми статьёй понятиями «полифония» и «социальная коммуникация». Полифония — a priori музыкальный термин — это совместное звучание нескольких голосов, при этом обязательными условиями являются индивидуальность и независимость каждого голоса. Современность, т. е. период с середины XIX века по настоящее время, утвердила социогуманитарные трактовки полифонии.
Рассмотрим примеры таких трактовок.
Бахтин М. М. (1895—1975) характеризует романы Ф. М. Достоевского как «полифонические»: в своих главных произведениях писатель «ведёт» все голоса персонажей как самостоятельные партии, оставляя за ними право на «своё знание о мире», при этом голос автора романа не имеет никаких преимуществ перед голосами персонажей [9]. В этом Достоевский отличается от «монофонического» Толстого, который в качестве автора является носителем высшего, конечного знания о мире. Для соблюдения исторической справедливости отметим, что хотя Достоевский и является создателем подлинной полифонии, однако она была подготовлена, в частности, в «сократическом диалоге» и в средневековой мистерии, в творчестве Шекспира и Сервантеса, Вольтера и Дидро, Бальзака и Гюго (подр. об этом см. [1]). Итак, трактуемая подобным образом полифония означает многоплановость, множественность, противоречивость человеческих отношений.
Следующий пример связан с трактовкой полифонии в качестве принципа целостности. Об этом размышляет А. А. Сыродеева [13], также обращаясь к Бахтину и Достоевскому. Полифонические тексты Достоевского демонстрируют значимость другого в жизни человека, роль диалога с ним для формирования и воспроиз- водства различного рода идей («диалогическое понимание жизни и мысли»). Озвучивание разных голосов, полемика героев провоцирует читателя на внутреннее усилие, поиск своих ответов на возникающие вопросы. В повседневную жизнь полифония привносит определённую степень свободы и возможность возникновения нового, она выступает за принцип связи, за целостность мира с его многоголосицей. Важно то, что полифоническое целое может выступать как тенденция, способствующая преодолению общественного противостояния, всевозможных фобий и продвижению к большей социальной интеграции, к взаимовлиянию различных социальных субъектов. Бахтин через тексты Достоевского транслирует людям: многообразие (плюрализм) неизбежно не разрушает целое, а целое неизбежно не подавляет разное. В рамках полифонического диалога разное, нуждаясь друг в друге, сближается, «взаимоосвещается» и, как следствие, способствует возникновению нового, в том числе, как показывают тексты Достоевского, появлению новых идей, в частности, посредством дерадикализации старых. Процитируем в данной связи Ричарда Рорти (1931—2007): главное, что характеризует современную эпоху, — это крах фундаментализма [9]. В широком смысле фундаментализм есть приверженность определенным принципам, идеям и ценностям, рассматривающимся как основополагающие (фундаментальные) и принимающимся за абсолютную истину независимо от их содержания. Эти принципы берутся на вооружение отдельными социальными группами или организациями (называемыми фундаменталистскими), претворяющими их во все сферы социального бытия.
Ещё один пример интерпретирования термина «полифония» — из плоскости искусствоведения. Предварим его доводом современного культуролога В. А. Куренного [7]: «Начиная со второй половины XX века, мы постоянно говорим о некоторых поворотах в исследованиях культуры. Первоначально был лингвистический поворот (все начинает рассматриваться как текст), мы имеем дело с интерпретативным поворотом… Сегодня чрезвычайно важный момент связан с иконографическим, визуальным поворотом в исследованиях культуры». В контексте визуального поворота вспомним о кинематографе — сегодня это как раз тот вид искусства, в котором активно развивается полифоническая структура, работы А. Германа (старшего) тому подтверждение (см. [2]). В его картинах в образной форме сочетается чувственный реализм и гротескное субъективное начало, что и способствует утверждению полифонической структуры его творчества в целом. Гротеск органично сочетает в себе два полюса, как то смерть и рождение. В живописном орнаменте, найденном в гроте (отсюда название самого термина), была тенденция органичного перехода растений, животных и человека друг в друга. XX век принёс свои примеры — это романы Томаса Манна и Бертольда Брехта, а также творчество Сальвадора Дали. Итак, нами обозначено, что в современных условиях междисциплинарности, а значит, и интегративного характера формирующихся знаний, термин «полифония» приобрёл и продолжает приобретать интерпретационные трактовки.
Обращаясь к трактовкам понятия «социальная коммуникация», отметим: возросшая актуальность изучения проблематики коммуникаций социального типа опосредована сомнительным качеством человеческого общежития. В работах авторов М. М. Бахтина, О. Ф. Больнова, М. Бубера, В. С. Библера, П. П. Гайденко, М. С. Кагана, В. Б. Кашкина, В. П. Конецкой, Ю. М. Лотмана, А. В. Назарчука, Г. Г. Почепцова, М. В. Раца, Ж.-П. Сартра, Л. Фейербаха, С. Л. Франка, М. Хайдеггера, У. Эко, К. Ясперса тема коммуникации неразрывно связана с вопросом человеческого существования, образуя с ним единое смысловое целое. П. Вацлавик, Д. Бивин, Д. Джексон предложили максимально обобщённое определение коммуникации: «Коммуникация — это conditio sine qua non (неисключимое, непременное условие) жизни человека и порядка в обществе» [17, с. 5]. Социальная коммуникация как процесс, в силу главной своей функции — обеспечивать эффективную связь между людьми и их общностями, являет собой необходимую предпосылку становления, развития и функционирования всех социальных систем, ибо делает возможной связь между поколениями, накопление и передачу социального опыта, его обога-щение/обеднение, разделение труда, обмен его продуктами, организацию совместной деятельности, трансляцию культуры. Коммуникативная личность, в свою очередь, являет собой устойчивую систему социально значимых свойств и качеств, характеризующих индивида как субъекта социальной коммуникации или коммуникативного актора. П. И. Симуш постулирует необходимость формирования срединного типа культуры [12]. Такой тип культуры человечно сочетает в себе полноту индивидуальности личности с большей полнотой коммунитарности людей; носителями такой культуры являются «средин- ные» люди и «срединный» слой общества, они придерживаются умеренности и отвергают сверхнаглость и нигилизм эгоистов и жадных дельцов (или, привлекая терминологию Маркузе, — это люди не «одномерные». — Л. З.). Сегодня, констатирует П. И. Симуш, такой медианный (срединный) тип культуры формируется при сильном противодействии крайностей, что, по сути, означает: формируется разумный средний россиянин (не в смысле принадлежности к среднему классу общества — главной «опоры» консьюмеризма), то есть трезво оценивающий глобальные игры и здраво рассматривающий самого себя. «Срединная культура», будучи единством души, духа и слова, гармонично сочетает традиции с новизной, что означает: поиск меры разумного сочетания разных начал; человек способен различать добро и зло, праведность и грех, правду и обман; человек может склоняться то ли к добру, то ли к злу. Особенную актуальность идеи П. И. Симуша приобретают в свете следующего замечания: «Агональный либерализм… доходя до прямого отрицания всех усилий по защите смыслов и идеалов, общечеловеческих норм, фактически переступает черту дегуманизации человека» [4, с. 118]. Главное, что необходимо для окончательного формирования человека срединного типа, — это «улавливание скрытых потребностей исторического времени» [12, с. 128].
Кассирер Э. (1874—1945), по которому человек есть animal symbolicum, отмечает, что «философия культуры начинается утверждением, что мир человеческой культуры — не простое скопление расплывчатых и разрозненных фактов. Она пытается понять эти факты как систему, как органическое целое» [5, с. 702]. Мыслитель считает: поскольку мир человека — это не мир вещей, то и сам человек — не вещь, не субстанция, а некая оперативная функция, производящая значения. Главная характеристика человека — его деятельность. Вместо кантовских двух миров, по Кассиреру, существует единый мир — «мир культуры». Исходя из подобных доводов, нам представляется, что из всех выделяемых видов общественной деятельности — материально-преобразующей, двигательной, витальной, познавательной, коммуникативной, организационно-регулятивной, интеллектуально-рефлексивной, культовой, художественно-образной, репродуктивной и др. — особый интерес должны представлять коммуникативный и интеллектуально-рефлексивный, направленные на осмысление людьми своего бытия, систематизацию своего мировоззрения, нахождения и ввода в оборот новых смыслов и логических обоснований своего существования — рациональных, духовных, религиозных и др. Ричард Рорти (1931—2007) считал, что на место философии должно быть поставлено всестороннее, индифферентное к дисциплинарным и мировоззренческим делениям исследование индивидуальности и социума. Рорти отождествляет социум с общением, его идеал — либерально-демократическое общество, не приемлющее никакой власти и унификации, кроме общего интереса “собеседников”. Он трактует философию как «голос в разговоре человечества, картину всеобщей связи, посредницу во взаимопонимании людей» [9]. Кантовский вопрос «на что я могу надеяться?» у Рорти трансформируется в вопросы «кто мы?» и «на что мы можем надеяться?», резюме такой постановки вопроса одно — «зачем?». Причём судьба философии будущего связана с ответами на эти вопросы (цит. по [11]). Принимая во внимание, что «разрыв гуманитарных связей означает характеристику общества, в котором прежние формы общения между людьми (традиции, обычаи, соседство, прямые коммуникации в малых социальных группах) оказываются неэффективными» [10, с. 72], предположим возможный суммарный ответ на эти три вопроса. Мы — это социально-участливые, срединного типа люди, заботящиеся о неразрывности гуманитарных связей во имя построения человекоразмерной, комфортной, достойной, внимательной к гуманитарным проблемам реальности.
Обратимся к выводам.
В коммуникационном отношении следует помнить, что полифония — это не любое многоголосие, а лишь такое, в котором голоса обладают самостоятельностью, выразительностью и составляют гармоничное целое. Применительно к категории «целостность» отметим: высочайший уровень целого — это общечеловеческие этические и эстетические ценности. Таким образом, человек как носитель культуры «срединного типа», обладающий при этом полифоническим мышлением, есть наша (общечеловеческая) надежда и опора (как выражались ранее).
В культурологическом смысле вывод наших рассуждений сводится к следующему. Всё бесконечное множество явлений современного мира ставит перед человеком особые задачи, среди которых глобальная — интегрировать и удержать всю многокрасочную картину мира в том классическом для теории познания смысле, как единство в многообразии. Об этом говорит
А. Флиер: «Предмет культурологического знания не вся культура — это по силам лишь всей совокупности социальных и гуманитарных наук» [15, с. 125].
Философское резюме звучит следующим образом. Одно из главных требований философии — выход на обобщающий уровень, фиксирующий отношение между целым ( читай: миром. — Л. З. ) и его частями ( читай: людьми. — Л. З. ). Здесь, как нельзя кстати, доводы упоминавшегося уже Кассирера — мир человеческой культуры необходимо рассматривать как «органическое целое». Он писал, что «исходный пункт и рабочая гипотеза философского анализа заключаются в утверждении, что разнообразные и, по-видимому, рассеянные лучи можно собрать вместе, соединить в фокус» [5, с. 702].
Обобщая сказанное, отметим: полифонические принципы действуют в нерасторжимом единстве многообразия: коммуникативные/смыс-ловые, литературные, художественные приёмы направлены на создание противоречивой, однако целостной картины мира, способной решать проблемы, а также раскрывать секреты и распознавать смыслы человеческого бытия. Обладание же «полифоническим мышлением» — это показатель наличия философского уровня мышления и культуры мышления вообще [6].
-
1. Бергер Л. Г. Эпистемология искусства: Художественное творчество как познание. «Археология» искусствоведения. Познание и стили искусства исторических эпох. М. : Русский мир, 1997. 432 с.
-
2. Вевер А. Е. Полифония как мироощущение и индивидуальный режиссерский метод в творчестве Алексея Германа : дис. … канд. искусств. наук. М., 2005.
-
3. Ивин А. А. Основы социальной философии. М. : Высшая шк., 2005. 440 с.
-
4. Каменская Г. В. Мир без Модерна // Власть. 2015. № 10. С. 115—118.
-
5. Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М. : Гардарика, 1998. 784 с.
-
6. Корешкова М. Е. Воспитание теоретического (постигающего) мышления старшеклассников в процессе освоения полифонической музыки : дис.... канд. пед. наук. М., 2002. 136 c.
-
7. Куренной В. А. Культура как предмет исследования. URL: http://postnauka.ru/video/20388 .
-
8. Левяш И. Я. Культурология. 5-е изд., испр. и доп. М. : Айрис-Пресс, 2004. 576 с.
-
9. Новая философская энциклопедия : в 4 т. / Ин-т философии РАН ; Нац. обществ.-науч. фонд ; Предс. науч.-ред. совета В. С. Степин. М. :
-
10. Оконская Н. К., Ермаков М. А. Социальная дифференциация в науке и разрыв гуманитарных связей в обществе // Власть. 2012. № 12. С. 69— 73.
-
11. Рыбас А. Е. Основной вопрос философии будущего Рорти // Россия — Запад — Восток: компаративные проблемы современной философии: 2004. URL: http://philosophy.spbu.ru/1551 .
-
12. Симуш П. И. Таинственность нашей эпохи: порыв к срединной культуре // Культурные трансформации в современной России (соц.-филос. анализ). М. : ИФРАН, 2009. С. 126—137.
-
13. Сыродеева А. А. Полифония как принцип целостности // Вопр. философии. 2008. № 3. С. 172— 175.
-
14. Комадорова И. В. Американская культурная антропология о факторах социокультурной динамики. М. : Academia, 2005. 294 с.
-
15. Флиер А. Я. Современная культурология: объект, предмет, структура // ОНС. 1997. № 2. С. 124— 145.
-
16. Комадорова И. В. Диалектика культурологической парадигмы в системе общественных наук // Тр. Нижегород. гос. технич. ун-та им. Р. Е. Алексеева. Т. 82. Сер. Управление в социальных системах. Коммуникативные технологии. № 2. Н. Новгород : НГТУ, 2010. С. 17—21.
-
17. Вацлавик П., Бивин Д., Джексон Д. Прагматика человеческих коммуникаций: Изучение паттернов, патологий и парадоксов взаимодействия / пер. с англ. А. Суворовой. М. : Апрель-Пресс, 2000. 320 с.
Мысль, 2000—2001. 2-е изд., испр. и доп. М. : Мысль, 2010. URL:
Список литературы Полифония современного культурологического пространства: коммуникационный аспект
- Бергер Л. Г. Эпистемология искусства: Художественное творчество как познание. «Археология» искусствоведения. Познание и стили искусства исторических эпох. М.: Русский мир, 1997. 432 с.
- Вевер А. Е. Полифония как мироощущение и индивидуальный режиссерский метод в творчестве Алексея Германа: дис., канд. искусств. наук. М., 2005.
- Ивин А. А. Основы социальной философии. М.: Высшая шк., 2005. 440 с.
- Каменская Г. В. Мир без Модерна//Власть. 2015. № 10. С. 115-118.
- Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М.: Гардарика, 1998. 784 с.
- Корешкова М. Е Воспитание теоретического (постигающего) мышления старшеклассников в процессе освоения полифонической музыки: дис.. канд. пед. наук. М., 2002. 136 с.
- Куренной В. А. Культура как предмет исследования. URL: http://postnauka.ru/video/20388.
- Левяш И. Я. Культурология. 5-е изд., испр. и доп. М.: Айрис-Пресс, 2004. 576 с.
- Новая философская энциклопедия: в 4 т./Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. науч.-ред. совета В. С. Степин. М.: Мысль, 2000-2001. 2-е изд., испр. и доп. М.: Мысль, 2010. URL: http://iph.ras.ru/enc.htm.
- Оконская Н. К., Ермаков М. А. Социальная дифференциация в науке и разрыв гуманитарных связей в обществе//Власть. 2012. № 12. С. 69-73.
- Рыбас А. Е Основной вопрос философии будущего Рорти/Россия -Запад -Восток: компаративные проблемы современной философии: 2004. URL: http://philosophy.spbu.ru/1551.
- Симуш П. И. Таинственность нашей эпохи: порыв к срединной культуре//Культурные трансформации в современной России (соц.-филос. анализ). М.: ИФРАН, 2009. С. 126-137.
- Сыродеева А. А. Полифония как принцип целостности//Вопр. философии. 2008. № 3. С. 172-175.
- Комадорова И. В. Американская культурная антропология о факторах социокультурной динамики. М.: Academia, 2005. 294 с.
- Флиер А.Я. Современная культурология: объект, предмет, структура//ОНС. 1997. № 2. С. 124-145.
- Комадорова И. В. Диалектика культурологической парадигмы в системе общественных наук//Тр. Нижегород. гос. технич. ун-та им. Р. Е. Алексеева. Т. 82. Сер. Управление в социальных системах. Коммуникативные технологии. № 2. Н. Новгород: НГТУ, 2010. С. 17-21.
- Вацлавик П., Бивин Д., Джексон Д. Прагматика человеческих коммуникаций: Изучение паттернов, патологий и парадоксов взаимодействия/пер. с англ. А. Суворовой. М.: Апрель-Пресс, 2000. 320 с.