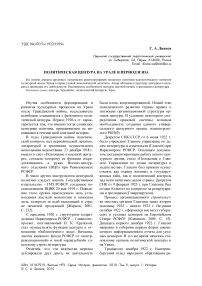Политическая цензура на Урале в период НЭПа
Автор: Дианов Сергей Александрович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.9, 2010 года.
Бесплатный доступ
На основе анализа архивных материалов реконструирован механизм политико-идеологического контроля культурной жизни Урала в период новой экономической политики. Автор обозначил структуру цензурного аппарата и принципы его деятельности. Рассмотрены особенности цензуры местной печати и зрелищного репертуара.
Цензура, уралоблит, политический контроль, урал
Короткий адрес: https://sciup.org/14737175
IDR: 14737175 | УДК: 94(470.5)«1922/1929»
Текст научной статьи Политическая цензура на Урале в период НЭПа
Изучая особенности формирования и развития культурных процессов на Урале после Гражданской войны, исследователь неизбежно сталкивается с феноменом политической цензуры. Период 1920-х гг. характеризуется тем, что именно тогда сложилась цензурная политика, принципиально не менявшаяся в течение всей советской истории.
В годы Гражданской войны политический контроль над периодической печатью, литературой и зрелищами осуществлялся несколькими ведомствами. 23 декабря 1918 г. вышло в свет «Положение о военной цензуре», согласно которому ее функции сосредотачивались в руках Военно-цензурного отделения (ВЦО) при Реввоенсовете РСФСР.
В числе других инструментов цензурной политики следует назвать Государственное издательство – ГИЗ РСФСР, созданное постановлением ВЦИК 20 мая 1919 г. Появление этого органа преследовало цель установления жесткой монополии в книжном деле, контроля за всей выходящей в стране печатной продукцией [Жирков, 2001. С. 232].
С середины 1920 г. структурное подразделение Наркомпроса РСФСР – Главполитпросвет, возглавляемый Н. К. Крупской, стал осуществлять функции цензуры в отношении «библиотечного дела». Начались чистки книжного фонда РСФСР от «контрреволюционной» и иной «враждебной» советскому строю литературы.
Отметим, что эти ведомства нередко дублировали друг друга, их деятельность была плохо координированной. Новый этап политического развития страны привел к эволюции организационной структуры органов цензуры. В условиях некоторого упорядочения правовой системы возникла необходимость создания единого универсального цензурного органа, подконтрольного РКП(б).
Декретом СНК СССР от 6 июня 1922 г. было учреждено Главное управление по делам литературы и издательств (Главлит) при Наркомпросе РСФСР. Основным документом, регламентирующим работу нового цензурного органа, стало «Положение о Главном Управлении по делам литературы и издательства». Главлит был призван осуществлять как охрану военных и государственных тайн, так и политический контроль над всем печатным делом страны. Декретом СНК от 9 февраля 1923 г. при Главлите был создан Комитет по контролю за репертуарами и зрелищами (Главрепертком).
Процесс организационного строительства местных органов Главлита занял вторую половину 1922 – начало 1923 г. Не ранее октября 1922 г. оформился институт губернских и уездных цензоров на Европейском Севере РСФСР [Клепиков, 2005. С. 15]. Двадцать первого декабря 1922 г. Главлит направил в губернии первую форму ежемесячного информационного отчета для уездных цензоров. В это же время началось становление органов политической цензуры и на Урале.
Тридцатого декабря 1922 г. Екатеринбургский отдел народного образования ра-
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2010. Том 9, выпуск 1: История © С. А. Дианов, 2010
зослал всем губернским учреждениям, издательствам и типографиям циркуляр № 8030, содержащий извещение об учреждении в структуре губернского ОНО отдела по делам литературы и издательства – Гублита 1. В пункте втором циркуляра говорилось, что с 1 января 1923 г. все цензурные функции от Политконтроля ГПУ, Госиздата переходят к гублиту. В пункте четвертом отмечалось, что в уездах Екатеринбургской губернии цензурные функции переходят к заведующим уездными отделами народного образования. Кроме того, циркуляр обязывал все без исключения издательства и типографии в двухнедельный срок пройти регистрацию в гублите, а также перед публикацией печатного произведения представлять не менее пяти его экземпляров на цензуру в губ-лит и улиты. Только после проставления визы цензора материал мог быть опубликован.
Обратим внимание, что данный циркуляр был подписан заведующим губОНО Зверевым, начальником Политконтроля ГПУ Клоповым, а также Ослоновским, должность которого формулировалась как «Зав-гублит». В связи с изменением административного территориального деления СССР губернии были преобразованы в области. 1 января 1923 г. был учрежден не Гублит, а Облит. Так на Урале появился единый центр советской цензуры, получивший аббревиатуру «Уралоблит».
Штаты Уралоблита включали четырех человек (заведующий, политредактор, секретарь и машинистка), причем, только три сотрудника Облита получали денежное содержание из бюджета Екатеринбургского губОНО. Политредактор являлся уполномоченным ГПУ в Облите, и его содержание финансировалось этим учреждением 2.
В уездах Урала заведующие ОНО получили извещение о передаче им функций цензуры не ранее второй половины января 1923 г. Так, 17 января 1923 г. секретным циркуляром Облита № 29/с полномочия уездного цензора были возложены на заведующего ОНО Ирбитского уезда А. Г. Ары-кина 3. Из анкеты, заполненной лично А. Г. Арыкиным и отправленной в Уралоб- лит 10 февраля 1923 г., можно сделать вывод об уровне профессиональной компетентности уездного цензора 4.
Достигнув тридцатилетнего возраста, Александр Григорьевич Арыкин, занимая должность заведующего Ирбитским ОНО, имел 3 класса образования приходской школы. Членом РКП(б) Арыкин являлся с 1917 г., работал в Исполкоме Шадринского Совета, а с 1918 г. служил в частях Красной армии. Вскоре после демобилизации Арыкин был назначен на должность зав. Ирбитским ОНО. Обратим внимание, что культурно-просветительская жизнь уезда фактически протекала мимо Арыкина. На вопросы анкеты о его личном участии в литературной, пропагандистской, а также лекторской работе Арыкин отвечал отрицательно. Не мог ответить утвердительно уездный цензор и на вопрос о публикациях статей, заметок в местной печати. Логично предположить, что единственным критерием назначения Ары-кина на ответственные посты являлся его пятилетний стаж членства в РКП(б).
За январь 1923 г. Уралоблит выработал значительное количество инструктивного материала: анкету для периодических изданий, форму ежемесячного отчета уездного цензора о результатах просмотра печатного материала, форму отчета цензора о запрещенных к печатанию произведений, анкета для учета деятельности книгоиздательства и т. д.
Проделав кропотливую работу, Уралоб-лит ожидал соразмерной активности своих местных органов в уездах. Однако уездные цензоры не спешили с отправкой ежемесячных отчетов. Более того, некоторые заведующие УОНО отказывались от дополнительной функции, ссылаясь на чрезмерную загруженность. Дело затянулось настолько, что Уралоблиту в итоге пришлось прибегнуть к более решительным действиям.
Четырнадцатого апреля 1923 г. Уралоб-лит направил в адрес заведующих УОНО циркулярное распоряжение, в котором разъяснялось, что «цензорская работа, являющаяся средством противодействия влиянию чуждой пролетарскому классу идеологии, приняла особенно важное значение во времена НЭП, а потому кроме сосредоточения на ней внимания необходима строгая отчет- ность и своевременная информация» 5. Отмечая слабую цензурную работу большинства заведующих УОНО, Уралоблит предписывал последним «изжить» указанные недостатки и представлять отчеты в трех экземплярах не позднее 3-го числа каждого месяца. В заключение Уралоблит предупреждал цензоров, что в случае неисполнения обозначенных требований виновные будут в установленном порядке привлекаться к уголовной ответственности по статье 108 УК РСФСР за халатное отношение к службе, что грозило годом лишения свободы 6.
Уже 3 мая 1923 г. заведующий Уралоб-литом Ослоновский в циркуляре № 292 объявил выговор цензору Ирбитского уезда Арыкину за нарушение последним правил надзора за местной печатью 7. Суть происшествия состояла в том, что приложение к уездной газете «Ирбитская ярмарка» – «Ярмарочные портреты» – было издано без разрешительной визы уездного цензора. Соответственно Ослоновский требовал от Арыкина более пристального внимания за выходящей в печать периодикой.
Не ослабляя нажим на местные цензурные органы, Уралоблит комплектовал списки разрешенной и запрещенной литературы, кинокартин, граммофонного и театрального репертуара. В августе 1923 г. уральские цензоры получили секретный циркуляр, содержащий список песен, запрещенных к исполнению музыкальными коллективами: «Варяг», «Вечерний звон», «Шумел, горел пожар Московской», «Укажи мне такую обитель» и др. 8 Эти популярные песни объявлялись «чуждыми» советской культуре. Двадцатого сентября 1923 г. Уралоблит направил уездным цензорам список граммофонных пластинок, «подлежащих изъятию из продажи как запрещенных комиссией по контролю граммофонного репертуара» 9.
В середине осени 1923 г. местные органы цензуры Урала были реорганизованы. Логично предположить, что данное мероприятие было связано с процессом районирования Урала. Формировалась новая административно-территориальная единица –
Уральская область с центром в г. Екатеринбурге, уездное деление упразднялось, создавались округа.
Двадцать девятого октября 1923 г. Урал-облит в циркуляре № 529 впервые объявил о ликвидации гублитов и уездной цензуры. Восьмого декабря 1923 г. был издан циркуляр, содержащий принципы организационного строительства обновленной системы органов цензуры на местах 10. Сообщалось, что с 1 декабря 1923 г. исполнение цензорских обязанностей будет возложено на заведующих окружных отделов народного образования – зав. окрОНО. В крупных же городах, таких как Пермь и Челябинск, учреждалась должность уполномоченного Уралоблита – уполоблит. В срок до 1 января 1924 г. указанные работники были обязаны принять все дела и архив секретной переписки у бывших уездных цензоров. В следующем циркуляре от 11 декабря 1923 г. Уралоблит отменил все действующие до реорганизации визы уездных цензоров. Вместо этих форм была утверждена виза «Окрлит». Обратим внимание, что с этого момента окрлитами вплоть до начала 1930-х гг. будут именоваться руководящие работники окрОНО.
Укрупнение административных центров неизбежно вызывало и увеличение нагрузки на заведующих окрОНО по линии цензуры. Уралоблит, как и прежде, требовал своевременной отсылки отчетов. Н. Н. Клепиков отмечает, что в Архангельской губернии заведующие окружными отделами народного образования в силу загруженности своей основной работой достаточно долгое время цензорских обязанностей практически не выполняли [Клепиков, 2005. С. 17]. Подобное положение дел имело место фактически в большинстве округов Уральской области.
Под давлением заведующих окрОНО Уралоблит был вынужден вскоре принять решение о передаче цензорских обязанностей структурному подразделению окроно – окрполитпросвету. Это положение было закреплено секретным циркуляром от 3 января 1924 г. 11 В циркуляре руководство УралОНО отмечало, что заведующие ОкрОНО в докладных записках заявляли о больших трудностях совмещения такой «весьма серьезной и ответственной работы» со своими непосредственными служебными обязанностями. С 1 января 1924 г. комплектация всех форм ежемесячной отчетности по округу поручалась заведующим окружным отделом политического просвещения. При этом заведующий окрОНО не отстранялся от данной работы, за ним закреплялась функция надзора за деятельностью уполоблитов и окрполитпросветов. Персональная ответственность за осуществление цензурной политики в округе возлагалась на заведующего окрОНО.
Деятельность окрлитов в начале 1924 г. была осложнена неразрешенностью вопроса о том, кому будет поручена цензура в районах. Уралоблит в данном случае объявил эту проблему внутренним делом ОНО: «Уралоблит <…> лишь предлагает установить в районах и заштатных городах дело цензуры так, что бы все данные нам инструкции по цензуре проводились неуклонно в жизнь» 12.
Работа по реорганизации местных органов цензуры не отвлекала внимание Ура-лоблита от дальнейшего развития направлений запретительной политики. 17 января 1924 г. Уралоблит выпустил секретную «Инструкцию по контролю за репертуаром» 13. «Наша очередная задача, – говорилось в документе, – заключается сейчас в том, чтобы всеми силами ослабить отраву буржуазной идеологии и морали». Вводилось деление зрителей на «нэпманские» и «рабоче-крестьянские массы». Если первым разрешался просмотр пьес и опереток «пикантного мещанского» содержания («Испанская мушка», «Змейка», «Ночь любви», «Тайна Гарема» и др.), то последним подобный репертуар был категорически запрещен. Деятельность профессиональных трупп, курсирующих без визы цензоров из города в город, объявлялась «халтурой», с которой необходимо было бороться. Вновь подчеркивалась недопустимость творчества куплетистов-сатириков, работавших в жанре политической сатиры. Исполнение пластических танцев в среде «нэпманской публики» определялось как «вульгарная пошлость». Танго и фокстрот разрешались только при условии их предварительного просмотра органом цензуры.
В этой же «Инструкции» Уралоблит предписывал цензорам усилить внимание к цензуре кинолент. В частности, запрет налагался на допуск в кинопрокат детективных лент, своеобразного «искусства для искусства». «Сентиментально-любовные» драмы, пропагандирующие «буржуазно-мещанский быт», также не подлежали просмотру широкой публикой. Не подлежали кинопрокату ленты, содержащие элементы эротики, религиозного «фанатизма», «бульварной пинкертоновщины» и т. д.
В феврале 1924 г. Уралоблит предложил списки печатных произведений, запрещенных к обороту на территории области. В это же время окрлитам предстояло перетряхнуть книжный рынок с целью изъятия политически вредной литературы, посвященной памяти В. И. Ленина. В секретном циркуляре УралОНО № 159 от 19 апреля 1924 г. окрлитам Уральской области предписывалось принять все меры к запрещению промышленным предприятиям округов размещать портреты В. И. Ленина на носовых платках, спичечных и папиросных коробках «дабы не оскорблять его» 14.
Изъятием идеологически вредной литературы из библиотек округов литы занимались совместно с уполномоченными ОГПУ. В директиве окрлитам от 17 апреля 1924 г. Ослоновский писал: «Уралоблит предлагает Вам <…> произвести изъятие литературы из библиотек, читален и с книжного рынка Вашего округа по спискам, разосланным Политконтролем Облотдела ОГПУ на имя Окруполномоченных ГПУ» 15. Примерно до сентября 1924 г. уполномоченные ОГПУ в округах Уральской области участвовали в совместных с окрОНО акциях по изъятию запрещенной литературы из библиотек. Однако уже 17 сентября 1924 г. заместитель начальника Пермского окротдела ОГПУ М. Овчинников направил в Пермский Окро-но секретную записку, в которой подтверждал выполнение директивы ПП ОГПУ по Уралу за № 90/с. В директиве говорилось, что местные органы ОГПУ «работу по проверке книжного состава в библиотеках должны прекратить и весь материал по изъ- ятию передать в комиссию по очистке библиотек при Окроно» 16. Несмотря на отстранение органов ОГПУ от этого дела, копии ежемесячных материалов по итогам чисток пермских библиотек должны были направляться заведующим окрОНО в окротдел ОГПУ.
Необходимо отметить, что с мая 1924 г. окрлиты должны были начать использовать фельдъегерскую связь окротделов ОГПУ для ускорения процесса доставки отчетов в Екатеринбург. Подобная услуга являлась безвозмездной вплоть до осени 1927 г. Лишь в ноябре 1927 г. УралОНО предложил окружным цензорам заключить с местными органами фельдсвязи ОГПУ договор об оказании услуг отправки ежемесячной секретной отчетности уже на платных условиях.
Говоря о принципах взаимоотношений литов с ОГПУ, нельзя обойти стороной и имевшие порой место конфликты интересов в области цензурной политики. Из текста циркуляра Уралоблита № 129 от 24 февраля 1923 г. видно, что еще уездные цензоры требовали передачи всех функций цензуры от уполномоченных ГПУ «в свое ведение» 17. Уралоблиту в свою очередь пришлось разъяснять своим местным органам, что их полномочия не должны выходить за рамки предварительной цензуры. «Уездные цензоры… – писал Ослоновский, – не в состоянии вести и последующую цензуру, так как для этого нужно специальный аппарат, да и положениями <…> это не предусмотрено». Архивные документы свидетельствуют, что подобное столкновение интересов проявлялось и в более позднее время. Так, в циркуляре Уралоблита № 2076 от 3 ноября 1925 г. был подвергнут резкой критике Пермский окрлит, осмелившийся поставить вопрос об ограничении прав Политконтроля ОГПУ в деле цензуры зрелищного репертуара 18. Циркуляр предписывал окрлитам в дальнейшем строго придерживаться выработанных инструктивных распоряжений.
Особый интерес для широкого круга исследователей представляет вопрос о финансировании деятельности органов политической цензуры. За просмотр печатного материала цензорами собирался так назы- ваемый «полистный сбор». Его размер был определен в специальном циркуляре Главлита № 1116 от 19 декабря 1922 г. – один рубль золотом с каждого печатного листа, т. е. 40 000 типографских знаков 19. До весны 1924 г. полистный сбор с типографий взимался лично уездным цензором. Однако данная практика не принесла ожидаемых результатов и право сбора было возложено на местный окружной финансовый отдел. За цензором сохранялась обязанность выписывать клиенту квитанцию на оплату, после чего он вносил указанную сумму денег непосредственно в расходную кассу финансового отдела. Начиная со второй половины января 1925 г. окрОНО поручалось составлять ежемесячные отчеты о поступлении «госдоходов» от цензорской деятельности не позднее 5 числа следующего за отчетным месяца. Размеры ставок полистного и других цензурных сборов утверждались специальным постановлением СНК РСФСР 20. Отметим также, что полистный сбор был отменен на территории Уральской области не ранее конца июня 1927 г.
Собирая приличные суммы денег, цензоры запрашивали Уралоблит об источниках своего содержания. Тридцатого января 1923 г. Ирбитский цензор Арыкин просил сообщить Уралоблит, из каких средств ему следует осуществлять расходы на изготовление штампа, печатание книг для регистрации выданных разрешений и т. д. Ответ заведующего облитом Ослоновского был краток: все расходы по цензуре возлагаются на УОНО. Из общей суммы на хозяйственные нужды уездного отдела народного образования предлагалось выделять средства на цензуру. Вполне естественно, что такое бремя было принято на местах отнюдь не с энтузиазмом. В Уралоблит продолжали поступать запросы об этом из уездов, округов, а иногда и предложения – брать часть денег из полистного сбора. Четвертого апреля 1924 г. Уралоблит прекратил развернувшуюся дискуссию. Циркуляр № 134 обозначил в качестве единственного источника финансирования окружной цензуры бюджет окрОНО, доходы же от полистного сбора объявлялись неприкосновенными, их адресатом оставался госбюджет. «Никаких отдельных кредитов на Окрлит не отпускается и отпускаться областью не будет», – подчеркивалось в циркуляре 21.
За счет собственных средств окрлиты были вынуждены отправлять в Уралоблит ежемесячно секретные отчеты, корреспонденцию и другие материалы. Некоторые цензоры пытались объяснить задержку отчетов недостатком средств. В связи с этим Уралоблит издал очередной циркуляр, в котором подтверждалась обязанность окрлита своевременно и за счет средств окрОНО направлять отчетные материалы в г. Свердловск 22. Несколько месяцев спустя окрОНО получили задание принять все «необходимые меры» для включения в бюджет на 1926–1927 гг. статью расходов на содержание Литов. В сентябре 1926 г. заведующие окрОНО были обязаны представить сведения об его выполнении.
Таким образом, в 1920-е гг. местные чиновники отделов народного образования были вынуждены осуществлять полномочия цензоров, не имея в своем распоряжении денежных средств, достаточных для полноценного функционирования их ведомства. В связи с этим исследователю не избежать исследования вопроса об эффективности деятельности местных литов.
Выше уже отмечался один из главных недостатков работы литов – задержка ежемесячных отчетов в Уралоблит о результатах цензурной практики в округах. По признанию самих окрлитов, из-за исполнения ими своих основных обязанностей времени на цензуру часто не хватало. Так, в Кунгурском округе заведующий литом Васильев занимал должности зав. политпросвета, заместителя заведующего окрОНО, а также горОНО. В результате чрезмерной нагрузки цензор нередко пропускал в печать или производство материалы, которые впоследствии запрещались Уралоблитом как «антихудожественные», искажающие действительность. Речь в данном случае идет о статуэтке председателя СНК СССР А. И. Рыкова 23. В другом случае достаточно длительное время по округам Уральской области гастролировал некто А. К. Ярославский, который устраивал в местных клубах антирелигиозные диспуты. Нередко аван- тюрист выдавал себя за Е. И. Ярославского – высокопоставленного партийного работника и государственного деятеля, возглавлявшего Союз безбожников СССР 24.
Испытывая материальные трудности, окрлиты не имели возможности оборудовать свои рабочие места в соответствии с инструктивным материалом, присылаемым Уралоблитом. Обследование состояния секретного делопроизводства в окрОНО проводилось силами уполномоченных ОГПУ в 1926 г. Результаты обследования повсеместно выявили грубые нарушения литами правил хранения секретной документации, ведения регистрационного журнала входящей и исходящей секретной корреспонденции и т. д. Так, в Ирбитском окрОНО отсутствовал сейф для хранения секретных документов. Документы хранились в выдвижном ящике письменного стола, ключи от которого находились у беспартийной секретаря-машинистки. Секретные документы печатались машинисткой на общей пишущей машинке окрОНО и лежали на открытом доступе. Любой сотрудник окрО-НО имел возможность ознакомиться с содержимым секретной почты. В заключение уполномоченный ОГПУ Елизарьев констатировал факт неудовлетворительной работы окрлита, допуская наличие возможности свободного хищения секретных документов или их безвозвратную утрату 25. Подобные нарушения были выявлены в ходе обследования деятельности Кунгурского окрлита 26. Девятого июля 1927 г. заведующий Кунгурским окрлитом Васильев в обращении в секретную часть Наркомпроса докладывал, что все выявленные недостатки по ведению секретного делопроизводства и переписки устранены за исключением установки железного ящика – сейфа 27. Обратим внимание, что сейф – редкая, дорогостоящая вещь. Однако ни Наркомпрос, ни Уралоблит не волновал вопрос, как Васильев решит эту проблему.
В 1925 г. главное цензурное ведомство на Урале активно брало под контроль остававшиеся пока еще вне поля его зрения «пережитки» буржуазного общества. Так, 22 апреля 1925 г. были запрещены эстрадные выступления тяжелоатлетов, «носящих ан-тифизкультурный характер»28. В сентябре 1925 г. под запрет попали бенефисы как пережитки «худших традиций театра в дореволюционный период».
В октябре 1926 г. УралОНО утвердил инструкцию «О деятельности Уралоблита и его местных органов» 29. С этого времени в районных центрах округа стали действовать штатные райлиты – райуполномоченные окрлита. 27 ноября 1926 г. Уралоблит обязал окрлиты представить в виде доклада-таблицы сведения на райуполномоченных. Обратим внимание на присланный в УралОНО список райуполномоченных лита по Ирбитскому округу 30. Список содержит данные на 12 человек, из которых 11 являлись членами ВКП (б) и 1 – комсомольцем. Также отметим, что все без исключения уполномоченные имели школьное образование, а двое из них закончили советскую партийную школу.
Так как райлитам в своей деятельности надлежало работать так или иначе с секретной информацией, каждый из них давал расписку о неразглашении государственной тайны 31. При увольнении с должности бывший работник райлита обязался в расписке под страхом уголовного наказания в течение последующих двух лет уведомлять окрлит о перемене места жительства, а также месте своего фактического пребывания.
На закате нэпа Уралоблит продолжал издавать секретные циркуляры, которые направляли деятельность местных цензоров в нужное власти русло. В начале октября 1928 г. последовал запрет устройства частными лицами лотерей. Любая реклама об их проведении должна была изыматься из оборота 32. В следующем месяце окрлитам было поручено начать процедуру цензуры текстов телефонных справочников, причем сами местные цензоры предварительный просмотр уже не осуществляли. Их задача сводилась лишь к сбору информации и отправке ее в Уралоблит. В циркуляре № 3/с от
9 января 1929 г. окрлитам предписывалось не выдавать разрешений на печатание музыкальных авторских изданий без заключения Уралоблита 33. Заведующий Уралобли-том Ланге мотивировал свое решение тем, что местные литы часто допускают оплошности, «недостаточно осторожны» в деле осуществления предварительной цензуры.
Летом 1929 г. в связи с бумажным кризисом Уралоблит запретил печатание афиш больших форматов и на белой бумаге. В этом же циркуляре содержался запрет периодическим изданиям публиковать какие-либо сведения об эпидемиях 34. В свете начинавшейся политики сплошной коллективизации в августе 1929 г. уральское цензурное ведомство запретило постановку пьесы «Борьба за урожай». Сюжет пьесы объявлялся примитивным, «ничего не дающим зрителю» 35.
Подведем итоги. Известный исследователь советской цензуры в одной из своих работ образно назвал А. В. Блюм в своей работе назвал 6 июня 1922 г. «одной из самых страшных, роковых дат в истории России» [Блюм, 1994. С. 82]. В этот день был создан Главлит – институт тотальной цензуры. Датой создания Уралоблита – главного цензурного органа на Урале является 1 января 1923 г. Рассекреченные архивные документы свидетельствуют о том, что деятельность цензоров была тайной. Под маской «Окрлита» скрывались работники отделов народного образования. Свою работу они выполняли без энтузиазма, не получая при этом материального вознаграждения. Борьба с «накипью НЭПа» была для них скорее всего обузой, чем почетной обязанностью. Вместе с тем окрлиты сделали свое дело. Ни одна книга, ни одно периодическое издание или зрелищное мероприятие не допускались к массовому читателю, зрителю без визы «Окрлит». Маленькие чиновники, руководствовавшиеся секретными циркулярами и собственным вкусом, определяли, какие произведения искусства могли быть допущены к публике.
POLITICAL CENSORSHIP IN THE URAL IN THE NEP PERIOD