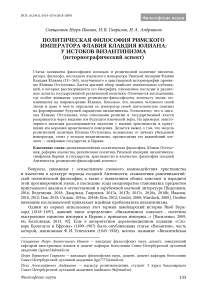Политическая философия римского императора Флавия Клавдия Юлиана: у истоков византинизма (историографический аспект)
Автор: Иванов Игорь Анатольевич, Гаврилов Игорь Борисович, Андрианов Илья Александрович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 4 (81), 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена философским взглядам и религиозной политике писателя, ритора, философа, последнего языческого императора Римской империи Флавия Клавдия Юлиана (331-363), получившего в христианской историографии прозвище Юлиана Отступника. Дается краткий обзор наиболее значительных публикаций, в которых рассматриваются его биография, письменное наследие и различные аспекты государственной религиозной политики. Отмечаются исследования, где особое внимание уделено религиозно-философскому контексту эпохи, повлиявшему на мировоззрение Юлиана. Показано, что, являясь человеком своей эпохи и даже в чем-то определяя ее, император своей деятельностью повлиял на формирование будущей парадигмы византинизма. Установлено, что в письмах Юлиана Отступника тема отношения религии и государственной власти раскрывается через видение им будущего языческой веры. На примерах эпистолярного наследия рассматриваются аналогии с идеями христианства и присущими им нормами нравственного поведения. Делается вывод о том, что модель религиозной политики Юлиана Отступника, независимо от личных убеждений императора, стоит у истоков византинизма, предвосхитив его важнейший элемент - симфонию государства и Церкви
Ранневизантийская политическая философия, юлиан отступник, реформа язычества, религиозная политика римской империи, византинизм, симфония церкви и государства, христианство и язычество, философия поздней античности, религиозно-философский контекст
Короткий адрес: https://sciup.org/140246597
IDR: 140246597 | DOI: 10.24411/1814-5574-2018-10091
Текст научной статьи Политическая философия римского императора Флавия Клавдия Юлиана: у истоков византинизма (историографический аспект)
империя, византинизм». Автор трактует византинизм как «выражение политических, культурных и этнографических особенностей, характеризующих Восточную Римскую империю» и «совокупность всех тех начал, под влиянием которых постепенно реформировалась Римская империя» [Брокгауз, 252], относя к этим началам византийское право, философию и богословие [Козловская, 2013].
В труде Ф. И. Успенского «История Византийской империи» (1912) есть глава «Византинизм и его культурное значение в истории», посвященная выяснению понятия «византинизм» [Успенский, 2011]. Здесь автор использует данный термин для обозначения политических, государственных, церковных и этнографических особенностей, носителем которых была Византийская империя [Козловская, 2013]. А историк Церкви И. И. Соколов (1865–1939) пишет: «Под византинизмом вообще нужно понимать всю совокупность особенностей в церковно-государственной жизни Византии, характеризующих эту Империю своеобразными культурно-историческими чертами внутреннего устройства и быта, в отличие от иных европейских государств. Византинизм, другими словами, есть синтез характеристических свойств Византии как особого, самостоятельного государства, основной дух и характер ее церковно-религиозного строя, принципы политического быта, основное направление и задачи местной культуры, идеалы господствующего населения и т. п.» [Соколов, 1903, 12; Козловская, 2013, 93].
Как отмечает священник Игорь Иванов, «работы дореволюционных авторов, таких как В. Г. Васильевский, А. П. Лебедев, В. В. Болотов, И. И. Соколов, Н. А. Ска-баланович, В. Е. Вальденберг, В. М. Грибовский, были посвящены преимущественно изучению различных аспектов взаимодействия Церкви и государства в исторической перспективе, особенно на материале Византийской империи. Например, А. П. Лебедев детально рассматривал проблему церковно-государственных отношений в Византии, а Н. А. Скабаланович изучал историко-юридические аспекты византийских церковно-государственных отношений. Выдающийся византинист Ф. И. Успенский рассматривал византийскую историю в широком контексте, делая выводы, касающиеся различных сфер жизни Византии. Особенно ценными могут быть его идеи по поводу России и Восточного вопроса.
Вопросы церковно-государственных отношений в Византии не обошли стороной и такие русские мыслители, как К. Н. Леонтьев1, Вл. С. Соловьев, И. А. Ильин2 и др. По поводу развития концепции „симфонии властей“ в Византии и в России писали историки-эмигранты А. В. Карташев, Г. А. Острогорский, А. В. Соловьев, прот. Г. В. Флоровский, прот. А. Шмеман, прот. И. Мейендорф и др. Среди зарубежных ученых, затрагивавших отдельные аспекты этой темы, можно назвать имена С. Лам-броса, К. Папарригопуло, Г. Г. Пицакиса, Г. Дагрона, С. Рансимена и Дж. Б. Бьюри, Ф. Дворника и Н. Йорги. Особенно ценными явились труды великого правоведа К. Е. Цахариэ фон Лингенталя. Его семитомник „Jus graeco-romanum“ (1856–1884) стал самым важным сборником источников по византийскому праву, а его „Geschichte des griechischen-römischen Rechtes“ (1892) заложила прочное основание исследованию правовой системы Византии. В рамках серии „Sources chrétiennes“ французские правоведы в 2005 г. издали XVI главу Кодекса Феодосия, целиком посвященную религиозным вопросам (Сode Théodosien. Livre XVI // Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II (312–438), vol. 1), а в 2009 г. вышел 2-й том, содержащий законы по религиозной тематике, выбранные из I–XV глав Кодекса Феодосия, а также Кодекса Юстиниана (Сode Théodosien, I–XV — Code Justinien — Constitutions Sirmondiennes // Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II (312–438), vol. 2)3.
В советский период, несмотря на то что проблема церковно-государственных отношений в Византии оказалась вне внимания исследователей, тем не менее отдельные вопросы этих взаимоотношений рассматривались в трудах по истории Византии Г. Г. Литаврина, А. П. Каждана, М. А. Поляковской, С. С. Аверинцева, Е. Э. Липшиц, И. П. Медведева, К. В. Хвостовой, И. С. Чичурова и др. Глубокий интерес к римско-византийскому праву в современной российской науке просматривается в трудах таких исследователей, как Е. В. Сильвестрова и А. М. Величко» [Иванов, 2010, 79].
На данный момент византинизм воспринимается и как парадигма византийской ментальности. Так, в одном из современных исследований, посвященных генезису феномена византинизма, ранний византинизм понимается как социальная, политическая и религиозная концепция, как идейная сущность византийского общества и парадигма, в которой оно будет развиваться последующие столетия [Грыжанкова, 2003]. Принципом, лежащим в основе византинизма, автор называет православную духовность, которая интегрирует все остальные сферы жизни. Византийскую цивилизацию невозможно помыслить без «святости» как идеала жизни и без религии, в данном случае христианства, как основы государственности. Соответственно, важнейшей частью концепции византинизма является симфония светской и церковной властей, а также понимание государственной властью себя как силы, служащей Богу и выполняющей определенное, не только земное, послушание. Тем не менее, некоторые зарубежные исследователи, например, известный английский историк Арнольд Джозеф Тойнби (1889–1975), все еще склонны видеть в таком политико-идеологическом концепте модель тоталитарного государства, в котором на Церковь яко бы оказывается пагубное влияние — она попадает в зависимость от императора и ставится на службу его интересам [Тойнби, 2002]. Надо сказать, что такой взгляд постепенно изживается в западной византинистике, сохраняясь по инерции зачастую в публицистических материалах. В любом случае, нельзя не признать, что византинизм как идея нового государства возникает в контексте становления христианства как государственной религии в IV в. и сообразно именно с этим контекстом выстраивает свою политику последний языческий император Римской или, если вести историю Византии от Константина, — первый и последний правитель-язычник, как ни парадоксально, новой, христианской империи — Юлиан Отступник. Хотя, по сути, речь идет не столько о язычнике, отстаивавшем свои убеждения, сколько о ренегате, знавшем учение Христа и сознательно ставшем противником Церкви. Более того, он избирательно поддерживал радикалов-донатистов — но, наверное, не с целью укрепить «святость» христианских сектантов, а, наоборот, — нанести глубокую рану единству Церкви. До самого мусульманского завоевания Северной Африки этот раскол в рядах Карфагенской Церкви так и не был изжит… но один титул касается вероотступников (книга 1, титул 7): CJ.1.7.1: Imperator Constantius. Si quis lege venerabili constitutus ex christiano iudaeus effectus sacrilegis coetibus adgregetur, cum accusatio fuerit comprobata, facultates eiusdem dominio fisci iubemus vindicari. constantius a. ad thalassium pp. . А другой (книга 1, титул 3.2.1–4) — налоговых иммунитетов для всех клириков: CJ.1.3.2.1: Imperator Constantius: Verum etiam hominibus eorundem, qui operam in mercimoniis habent, divi principis, id est nostri genitoris, statuta multimoda observatione caverunt, ut idem clerici privilegiis pluribus redundarent. CJ.1.3.2.2: Imperator Constantius: Itaque extraordinariorum a praedictis necessitas atque omnis molestia conquiescat. CJ.1.3.2.3: Imperator Constantius: Ad parangariarum quoque praestationem non vocentur nec eorundem facultates atque substantiae. CJ.1.3.2.4: Imperator Constantius: Omnibus clericis huiusmodi praerogativa succurrat, ut coniugia clericorum ac liberi quoque et ministeria, id est mares pariter ac feminae, eorumque etiam filii immunes semper ab huiusmodi muneribus perseverent. Отметим, что под всеми статьями стоит указание года и имени: 357 и iuliano c. ii conss. — т. е. в 357 г., при втором консулате Юлиана.
Как известно, в основе отношений «сакрального и профанного» в Византийской империи лежало понятие симфонии — плодотворного и взаимополезного сотрудничества властей для блага как земного государства, так и спасения верных, наследования ими Царствия Божьего. Это понятие принято относить к эпохе императора Юстиниана и его знаменитой новелле патриарху Епифанию, где прямо излагается данная модель, однако начало формирования идеи симфонии следует искать уже в IV в. Время, ставшее определяющим для истории христианства и всего мира, показало первый опыт «симфонических» отношений, связанный со святым императором Константином Великим.
Как ни странно (а может быть и закономерно в контексте языческого религиозного радикализма), но император Юлиан Отступник оказался более решительным в отношении построения церковно-государственной симфонии, нежели предшествующие христианские правители. И, естественно, отталкиваясь от своих религиозных взглядов, он противостоял предшественникам, ибо хотел построить симфонию государства и религии в рамках языческой парадигмы. В IV в. сложилась уникальная культурно-цивилизационная и социально-политическая ситуация, обнаружившая состязание двух интеллектуальных элит — «христианской» и «языческой» — в формировании идеальной пайдейи, способной на практике реализовать синтез «эллинства» и «ромейства» на основаниях истинного богопочитания. Император Юлиан, не мысливший себя вне языческого дискурса, видя проблемы угасающего политеизма, попытался изменить вектор его истории. В какой-то мере он выстраивал политику, которая стала прообразом будущей симфонии, но уже не языческой, а христианской веры и римского правосознания. Но на тот момент для ее реализации, как ему казалось, следовало провести реформу языческого культа и систематизировать языческое богословие. Вопрос в том, насколько у язычества был реальный потенциал для этого.
Изучению темы религиозной политики всегда уделялось особое внимание в трудах о Юлиане Отступнике. Если говорить о дореволюционной отечественной историографии, то важными работами являются магистерская диссертация Я. И. Ал-фионова «Император Юлиан и его отношение к христианству» [Алфионов, 1877] и сравнительное сочинение А. Вишнякова, посвященное императору Юлиану и свт. Кириллу Александрийскому [Вишняков, 1908]. В них подробно рассматриваются жизненные вехи последнего языческого императора, его отношение к христианству и язычеству, а также меры по притеснению первого и преобразованию последнего. Труды отличаются кропотливой работой с источниками.
В советское время личность Юлиана Отступника отдельно от эпохи почти не изучалась, если не считать книгу Н. Н. Розенталя [Розенталь, 1923], которая воспринимается скорее не как историческое исследование, но как этюд с явным оттенком повлиявшей на него классовой теории, с упоминанием «рабского религиозного мировоззрения» и антихристианской пропагандой.
В постсоветское время фундаментальным трудом, который объединяет в себе все дошедшие до нас сочинения Юлиана Отступника, стала составленная Т. Г. Сидашем книга «Император Юлиан. Полное собрание творений» (Юлиан, 2016f), имевшая более раннюю редакцию — сборник «Император Юлиан. Сочинения» (Юлиан, 2007). В данных работах представлены труды Юлиана как писателя, философа, религиозного мыслителя. Через большое эпистолярное наследие он открывается нам разносторонней личностью, обладающей и отрицательными, и положительными качествами, вдохновляемой высокими идеалами и колеблемой пагубными заблуждениями.
Большое количество исследовательской литературы о Юлиане Отступнике в XIX– XX вв. было написано за рубежом, в первую очередь французскими, немецкими и английскими авторами. В своих трудах они зачастую занимают апологетическую позицию по отношению к императору, восхваляя его как талантливого правителя и полководца, который, проживи чуть дольше, мог бы стать одним из величайших и просвещенных государей Рима [Murdoch, 2008]. Однако его религиозная политика была выстроена как явный противовес христианству, борьба с которым велась целенаправленно [Bidez, 1930], с целью не равноправного существования двух религий, но установления официального языческого культа [Bowersock, 1978]. И все же, несмотря на свои религиозные убеждения, по мнению некоторых западных исследователей, Юлиан черпал вдохновение в преобразованиях язычества не откуда-нибудь, а именно из ненавистного для него христианства [Broglie, 1859]. Он поэтому был подобен скорее жрецу на троне, нежели типичному римскому императору. Впрочем, даже учитывая оригинальность в этих аспектах, Юлиан воспринимается западной наукой как человек несвоевременный, человек прошлого, который хочет вернуть империю к древнеримским традициям [Browning, 1976].
Здесь можно привести и мнение французского ученого Ж. Бенуа-Мешена: «Солнечный культ Юлиана не был плодом Озарения, каковым было учение Иисуса; этот культ был результатом длинной цепи абстрактных рассуждений, выведенных из чтения Плотина, Порфирия и Ямвлиха. Несмотря на все усилия императора, принципы, на которых он основывался, не были религией. Хотел он того или нет, они были просто „способом мышления“, интеллектуальным синтезом. Такой синтез мог удовлетворить лишь небольшое число людей. Хотя он и тяготел к монотеизму и имел целью ввести некий языческий мистицизм, он не только отталкивал от себя адептов христианства, но и был абсолютно не по вкусу сторонникам традиционного язычества, изобиловавшего множеством различных полиморфных и обособленных божеств» [Бенуа-Мешен, 2001, 230].
Из современных российских исследований следует выделить работы Е. А. Пак «Политическая деятельность и литературное творчество императора Юлиана Отступника» [Пак, 2015], «Религиозная политика Юлиана Отступника» [Пак, 2010], «Трагедия Юлиана Отступника: становление личности и формирование взглядов римского аристократа в условиях духовного и политического кризиса в середине IV в.» [Пак, 2009]. В этих трудах автор заостряет внимание на контексте эпохи, в которую вырос Юлиан и которая оставила неизгладимый след на его восприятии язычества и христианства. Признавая за императором черты мудрого и сильного правителя, Е. А. Пак отмечает нетерпимое отношение Юлиана к «галилеянам», его подспудное желание бороться со столь ненавистной ему верой через «скрытое гонение» [Пак, 2010, 381]. В свою очередь, язычество мыслилось им единственно возможной альтернативой христианству, хотя Юлиан и пытался преобразовать его сообразно с формами последнего. Отдельного разговора потребует концепция М. А. Ведешкина, изложенная в его весьма основательном и при этом полемическом исследовании «Языческая оппозиция христианизации Римской империи (IV–VI вв.)» [Ведешкин, 2018]. Автор обращает свое пристальное внимание на социально-экономические и политические условия противостояния язычества и христианства. Так он пишет: «деятельность языческой оппозиции и в римском сенате и среди куриальной аристократии восточных провинций представляла собой процесс политической борьбы групп родовой знати, опиравшихся на отживавшие социально-экономические институты классической античности, против стремящейся к централизации римского государства императорской власти и церковной организации. Каждый из участников противостояния опирался на определенную религиозную идеологию, превращавшуюся в концентрированное выражение их политико-экономических интересов. Результатом этого стало внешнее оформление политико-экономического конфликта в форму религиозного противостояния» [Ведешкин, 2018, 309].
В статье В. А. Дмитриева «Юлиан Отступник: человек и император» личность Апостата, через рассмотрение его биографии и наполняющих ее деяний, также рассматривается как трагедия. Попытавшийся изменить неумолимый ход истории, Юлиан, перешел к ущемлению прав христианского населения. Хотя он не объявлял официального гонения, но его политика «веротерпимости», выразившаяся в возвращении из ссылки представителей опальных и еретических течений (в частности, ариан), была направлена не на возрастание терпимости, а на увеличение нестроений в среде христиан для придания привлекательности язычеству [Дмитриев, 2002].
На фоне отечественных исследований наиболее оригинальной представляется статья С. С. Аверинцева, в которой он относит фигуру Юлиана Отступника к истокам византинизма. В отличие от работ, где последний языческий император противопоставляется как своей, так и последующей эпохам и называется человеком не своего времени, Сергей Сергеевич рассматривает его личность и деяния через призму идей христианской империи и не считает его чужеродным элементом в ней. Если проблема чужеродности и существует, то имплицитно она кроется в религиозных убеждениях Юлиана, а форма, в которую он облекает последние, репрезентируя их с позиции правителя, — собственно, предвосхищает византийскую модель. По мнению С. С. Аверинцева, Юлиан — богослов на императорском троне, а в своей личной жизни аскет и даже юродивый; он ближе к христианскому эллинскому дискурсу, чем к языческому римскому, поэтому, делает вывод автор, он все же является человеком своей эпохи и даже определяет ее [Аверинцев, 1978].
Профессор А. Ю. Митрофанов, на основе обращения к политико-правовым текстам IV в., заключает, что как христиане (свт. Иларий Пиктавийский), так и язычники (древнеримский историк Аммиан Марцеллин) видели в свободе обязательное условие справедливого управления империей: «Если Иларий рассматривает идеального императора как христианина, послушного Церкви и дарующего ей религиозную свободу, то с точки зрения Аммиана идеальным императором является император-философ, подобный Цезарю Юлиану, который дарует религиозную свободу как неотъемлемое условие свободной конкуренции культов и древнеримской религии» [Митрофанов, 2017, 113].
Здесь уместно привести описание предсмертных слов Юлиана Аммианом: «Я смотрел на власть как на истечение божественного могущества; я старался сохранить ее незапятнанной, управляя государством с умеренностью, воюя лишь по необходимости. Твердо уверенный, что целью хорошего управления должно быть благо народов, я стремился к справедливости. Я изгонял из своих действий произвол, который портит нравы и царства» (Аммиан, 2000, XXV, 3).
В сочинении «О деяниях Самодержца и о Царстве» Юлиан так выражает свое идеальное представление о роли правителя: «Прежде всего, он благочестив и не пренебрегает почитанием богов; далее, почтителен и заботлив по отношению к родителям, живым и умершим, доброжелателен к братьям и чтит семейных богов; кроток и приветлив с просителями и чужеземцами, добрым гражданам желает угодить, о многих заботится с правосудием и для пользы; любит богатство — не обремененное золотом и серебром, полное истинной любви к друзьям и почитания их без лести, отважен по природе, величественен, войне радуется меньше всего и ненавидит междоусобные раздоры, а тем кто его преследует — волей случая или из-за их собственной порочности — мужественно противостоит и отражает их твердой рукой (…) Поистине, для воина, переносящего трудности, приятнейшее зрелище представляет мудрый император, который наравне с ним участвует в битвах, и прилагает усилия, и убеждает, бодрый и бесстрашный — в опасностях, серьезный и надежный — там, где воины теряют осторожность» (Юлиан, 2016g,106–108).
Как отмечает Б. В. Коптелов, «правление Юлиана Отступника (361–363), несмотря на его личную неприязнь к свт. Афанасию Александрийскому, в конечном счете способствовало укреплению церковного монархизма в том виде, как это соответствовало курсу александрийского епископа» [Коптелов, 2003].
Труд Ж. Дагрона «Восточноримская империя в IV веке и политические традиции эллинизма» [Dagron, 1968] рассматривает полемику между двумя языческими философами — Фемистием и Либанием, раскрывая идейные римские и эллинистические основания их теорий. Причем, по мнению автора, в этом споре побеждает эллинистическое направление Фемистия, политическая философия которого во многом близка воззрениям христианского историка Евсевия Кесарийского.
Ж. Дагрон анализирует притязания Фемистия объединить эллинизм с римскими политическими элементами, что может прочитываться как прообраз нового типа цивилизации. Эта концепция оказалась тесно связанной с первым христианским императором Константином такими чертами, как «ойкуменизм, константинополецен-тризм, ставка на императора — „доминуса“ (господина) и разумно бюрократическое внутреннее правление, относительное миролюбие, отсутствие жесткого противопоставления „римляне“ — „варвары“» [Новиков, 1999].
Второе направление характеризуется акцентом на «самобытность эллинских и римских элементов, склонностью к отдельным республиканским реминисценциям, антиварварством, представлением об императоре как о воине и римском патриоте, строго соблюдающим законы, уважающим сенат и курии» [Новиков, 1999], отрицанием императорского произвола, опорой на римское право, признанием императора первым гражданином, а не господином.
Как отмечает А. А. Новиков в своей диссертации «Формирование византийской политической доктрины (IV век)» [Новиков, 1999], посвященной идее возникновения и развития византийской политической доктрины, ко времени правления императора Юлиана наступает кризис общественных отношений и традиционных римских государственных институтов. Критика Юлианом стяжательства была отражением кризиса гражданской общины. Именно Юлиан являлся ее олицетворением и легендарным идеалом для сторонников этой концепции, большинство из которых были язычниками.
В один ряд с творцами византинизма, от Константина Великого до Юстиниана, автор ставит и Юлиана Отступника, который представляет, конечно, идейно отличное от них крыло, противостоящее усиливающей свое влияние концепции «домината», но все же влияющее на формирование идеологии византийского государства. Юлиан не выходит из контекста эпохи, он лишь представляет его «контрреформаторскую» часть, основа которой восходит к традициям гражданской общинности древнего Рима и которая, наряду с более поздней идеей монархии образца домината, стала частью политической реальности Византии. Юлиан — представитель той части правителей, которым было свойственно понятие о правах и обязанностях государя, о его ответственности перед Божеством (и, соответственно, о собственной если не божественности, то уполномоченности от Него) и народом.
Таким образом, при всей своей исключительности Юлиан Отступник является представителем ранневизантийского дискурса, воспитанным на идеях служения общему Благу — как основного попечения Императора, будь он «инкарнацией» гуманистического «непобедимого Солнца» (язычество) или же служителем («епископом внешних дел») воплощенного Слова — Солнца Правды — Богочеловека Иисуса Христа. Да, по большому счету, в одном случае речь идет о человекобожии, а в другом — о Богочеловечестве, но этическая составляющая требует от человека стремиться быть на высоте совершенства, какими бы мифами (язычество) или догматами (христианство) он не обосновывал «первородство» своей веры.
В деятельности по реформированию язычества Юлиан не мог не видеть, что современное ему языческое общество в своей религиозной жизни имело весьма много важных недостатков, которые могли бы подавать повод к обвинениям в его внутренней слабости и несостоятельности [Алфионов, 1887, 202]. Известная поговорка отражает главную причину кризиса, беспокоившую императора: рыба разлагается с головы. Недостойная, безнравственная жизнь языческих жрецов, их равнодушие к культу, вкупе с недостатком авторитета и влияния в народе — были теми факторами, которые усугубляли кризис и приближали конец язычества. Предназначенные быть вождями и духовными наставниками народа, жрецы становились лишь «работниками культа», справлявшими его без особого энтузиазма. Они воспринимали его не как служение или дарованную богами миссию, но, скорее, как работу, а в прошлое время — и как привилегию, подразумевающую сопутствующие этой работе положение и статус. Таким образом, язычество превращалось в абстрактную религию, когда внешний пафос, красота богослужений и мистерий затмевали смысловую составляющую, что и выражалось в бесконечных рассуждениях античных философов. Для IV в. не был праздным вопрос: было ли вообще язычество по духу чем-либо неабстрактным, т. е. «религией реальной жизни», наполненной не только пышной формой культа и увлекательными мифами, но и попыткой живого диалога с божественным миром? На этот вопрос как раз и хотел ответить Юлиан — посредством теоретической философии и практической теургии доказать миру ошибочность понятия о язычестве как о мертвой религии, если и живущей, то редкими жертвами верных традициям людей да суевериями необразованной черни. Укрепить разрушаемое веками здание культа было возможно, только перестроив его фундамент, зиждущийся на институте жречества. И перед императором стоял пример того ненавидимого им института, который уже четвертое столетие животворил, синтезируя в себе не только истины Откровения, но и формы общества как добродетельной и святой общины — политии, основанной на полноценном и всестороннем сопереживании человеку (любовь к ближнему), а не на формальном участии в его жизни обрядами и ритуалами.
Как великий понтифик Юлиан назначил своими заместителями в различных провинциях тех жрецов и философов, которых он считал более способными содействовать исполнению его грандиозных замыслов [Гиббон, 2008, 534]. Намеченную программу реформирования языческого культа он выразил в письмах жрецам, своего рода «пастырских» посланиях, отличающихся духовно возвышенным стилем и интенсивными нравственными исканиями в традициях античной этики. Данные произведения отражают не только в и дение Юлианом жреческого служения, но и его взгляд на религиозную жизнь как таковую. Без тени сомнения, эти инструкции жрецам можно назвать программой, в первую очередь социальной, по реформированию и популяризации язычества.
Объясняя важнейшие элементы своих представлений, Юлиан затрагивает актуальные и по сей день темы, такие как отношения религии и государственной власти, роль милосердия в жизни человека, почитание богов, в том числе в их материальных изображениях, образ служителя, жреца, его функции и положение. Через эти идеи нам раскрываются его взгляды на будущее языческой религии. Отношения Римского государства с политеистической, официальной религией, по мнению Юлиана, должны были строиться на соработничестве; в деле соблюдения гражданами законов религия должна выступать своеобразной совестью нации (Юлиан, 2016c, 412).
Однако главным воспитывающим качеством должно служить и человеколюбие, забота о людских нуждах: «Боги дали благо, и мы должны делиться с нуждающимися». Перед нами предстает образ мира несправедливого, где царит неравенство и нужда, и причина последних — в нежелании имущих помогать неимущим, в постоянном стяжании благ, отсутствии милосердия. Люди должны принимать странников и нищих, менять свое представление о предоставлении крова тем, кто его ищет, не быть негостеприимными «как скифы» (Юлиан, 2016c, 415). Уже этим можно угодить богам, сим деянием их восславить. Было бы благочестивым делиться одеждой и пищей не только с друзьями, но даже с враждебными людьми — ведь мы даем потому, что он — человек, а не за то, какой он человек; и к тем, кто заключен в тюрьмах, нужно проявлять такую же заботу.
Этот призыв напоминает нам слова Христа о семи деяниях милосердия: «Был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф 25:34–40). Мотив Юлиана внешне весьма схож с мотивом доброго самаритянина — творить добро, не ожидая похвалы, помогать людям просто потому, что они люди, ничего не требуя взамен. Было ли это навеяно ему евангельскими аллюзиями, заключались ли в его словах интерпретации христианского учения — доподлинно сказать невозможно, однако сходства не заметить нельзя.
Интересны также замечания Юлиана относительно почитания изображений богов: «Итак, взирая на изваяния богов, не думай того, что это камень или дерево, ни того, что это сами боги; в самом деле, образы царей не суть дерево, камень или медь, еще меньше это — сами цари, но именно образы царей» (Юлиан, 2016c, 418). Эти рассуждения философа на троне могут быть наиболее адекватно осмыслены в контексте византийской полемики иконопочитателей с иконоборцами.
Отдельно император рассматривает положение жречества и его личные и общественные качества. Разумно почитать жрецов как служителей богов и воздавать всем им почет не меньший, если не больший, чем гражданским властям, пишет Юлиан. Однако жрец должен соответствовать высокому призванию, возложенному на него богами. Он должен быть так благочестив, как если бы бог всегда смотрел на его деяния; жрецам «должно сохранять себя в чистоте не только от нечестивых дел и постыдных деяний, но также от произнесения или слушания подобных вещей» (Юлиан, 2016c, 425). Непрестанная молитва и жертвоприношения — вот что должно быть необходимостью каждого дня жизни служителя богов. Внешний пафос богослужений, безусловно, важен, ибо великолепной одеждой и пышностью славятся боги, однако в обычной жизни, за стенами святилищ, жрецы должны избегать праздных одежд и вообще всякой похвальбы: «Потому, я думаю, и мы, священники, должны являть скромность в одежде, чтобы стяжать благоволение богов. А каково беззаконие, когда богов презирают из-за нас, носящих священные одежды, но живущих отнюдь не священно!» (Юлиан, 2016c, 429). У жреца не должно быть различия между общественной и личной жизнью, ибо, различая, раздваивая свою жизнь, он лицемерит перед лицом богов и людей, вводя последних в соблазн и грех своим недостойным звания поведением.
Здесь можно провести параллель между образом жреца и образом архиерея у святого апостола Павла в послании к евреям: «Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес» (Гал 7:26). Всякое неприятие священнослужителей исходит от несоответствия между проповедуемыми ими словами и совершаемыми ими делами. Призвание жреца не должно зависеть от его положения или достатка; пусть он — бедняк и человек из народа, но, если в нем есть два качества — любовь к божеству и любовь к людям, он может быть назначен жрецом. Внесословность, открытость почетного звания всем достойным есть важнейший аспект реформы язычества, изменения не только структуры, но и сути жреческого института. Интересно также замечание о необходимости жреца привести к вере всех домашних (Юлиан, 2016d, 546), что представляется аналогией апостольскому требованию к священнослужителям следить за благочестием своей семьи (см.: Тит 1:6); а также о раздаче имущества нуждающимся (Юлиан, 2016c, 414), что явно перекликается со словами из Евангелия: «Пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах» (Мф 19:21).
Согласно Юлиану, последним пунктом популяризации язычества является социальная политика жречества. Он пишет: «Когда наши бедняки были не присмотрены и не ухожены нашими священниками, нечестивые галилеяне, видя это, обратились к человеколюбию, а приобретя этим добрую славу, усилили то худшее, что было в их поступках» (Юлиан, 2016c, 430). «Гуманность к странникам, забота о погребении мертвых и показная святость жизни: я думаю, что и нам нужно заботиться обо всем этом» (Юлиан, 2016b, 527), — так рассуждает Юлиан в письме Арсакию, главному жрецу Галатии. В каждом городе повелевается устроить странноприимные дома, где оказывалась бы помощь всем нуждающимся, — на это отпускались средства из бюджета. Также рекомендовалось внушать приверженцам эллинизма необходимость отдавать свои средства на благотворительность, «ибо стыдно подумать, что между иудеями нет нуждающихся и что нечестивые галилеи содержат и своих, и наших, а наши оказываются лишенными помощи от своих» [Успенский, 2011, 116].
Реформа языческого культа должна была также ознаменоваться изменениями в системе иерархии жречества. Юлиан дает поручение главному жрецу Азии, Феодору, чтобы он управлял всеми храмами в Азии, надзирая за жрецами всех городов и назначая каждому, что ему полагается (Юлиан, 2016e, 522). По сути, это является аналогом епископской власти и залогом единства жреческой иерархии, а также административной централизации языческого культа. Историк Ермий Созомен называет еще несколько нововведений императора: «Он задумал языческие храмы повсюду украсить принадлежностями и чинностью веры христианской, а языческое учение возвысить кафедрами, председаниями, преподавателями и чтецами языческих догматов и увещаний, установлением молитвословий в известные часы и дни, учреждением монастырей для ищущих любомудрия мужчин и женщин, подражая христианскому преданию касательно произвольных и непроизвольных прегрешений, он предписал также соответственное грехам исправление себя посредством покаяния. Не менее, говорят, соревновал он епископам в сочинении посланий…» (Созомен, 1851, 348). Данные распоряжения наталкивают на мысль об откровенном копировании Юлианом христианских институтов и методов, «столь действенно помогающих галилеянам в их проповеди».
Однако, несмотря на благие намерения и цели, инициатива императора-отступника не возымела того действия, на которое он рассчитывал. Возвращение к язычеству если и шло, то очень медленно и большей частью не вследствие возрастания искренней веры, а благодаря привилегиям, дарованным правителем приверженцам старых богов. Между населением были обращения в язычество из корыстных видов, и сам Юлиан замечает то отвращение и неловкость, то чрезмерное и подозрительное усердие в тех людях, которые старались приносить жертвы богам [Аллар, 1898, 229]. Характерен случай с константинопольским софистом Экиволием, который, приспособляясь к нравам царей, при Констанции притворялся пламенным христианином, при Юлиане выказывал себя ревностным язычником, а после Юлиана хотел опять быть христианином, ибо, простершись на земле пред вратами одного молитвенного дома, кричал: «Попирайте меня ногами, как соль обуявшую» (Сократ Схоластик, 1996, 148). Были немногочисленные примеры отступничества и среди духовенства — достаточно вспомнить епископа города Илиона Пегасия. Но многие не приняли реформы Отступника, не поддержали его инициативности и энтузиазма. Об этом вынужден был сетовать сам реформатор: «Покажи нам здесь, в Каппадокии, чистого эллина! А то до сих пор, как я вижу, жертвы богам здесь приносить не желают, а те немногие, кто захочет, не знают, как это делать» (Юлиан, 2016a, 548), — пишет Юлиан одному из своих единомышленников.
Таким образом, попытка построить свою политику на симфонии, тесном сотрудничестве и взаимодействии государственной власти и язычества, оказалась не вполне удачной в силу того, что язычество уже не находило себе устойчивой опоры в обществе. Реформируя язычество, император предпринимает достойные по его разумению меры, однако они не возымели ожидаемого результата. Обширная организация благотворительности, безусловно, была похвальной в рамках реализации идеала «общего блага», но, тем не менее, вскоре император должен был убедиться, что на стороне христиан было более твердости, самопожертвования, готовности переносить всяческие лишения, исходивших из личного опыта богообщения, а на стороне приверженцев языческого культа — были философия и ритуал, равно как холодность, равнодушие и недостаток одушевления (понятно, что такое настроение разрушительно для любой религиозности) [Ср.: Успенский, 2011, 118]. В реформаторской попытке Юлиана, казалось бы, имелось все: продуманная программа, административный ресурс, готовые его поддержать, пусть и не такие многочисленные, как хотелось, энтузиасты, а также финансовые средства, потраченные на, говоря современным языком, рекламу… Однако не было главного: жизни, т. к. предприятие оказалось проникнутым дерзостью единоличного противоборства «Галилеянину».
Но саму постановку вопроса о единстве веры и жизни, равно как и принятие мер к его решению во многом можно рассматривать в качестве прообраза византийской симфонии властей, которая по своему определению есть «…согласие между ними во всем (συμφωνία τις ἀγαθὴ), что служит на пользу и благо человеческого рода» (6-я Новелла Кодекса Юстиниана). Император Юлиан мыслил себя великим понтификом не только по должности, но и по мировоззрению, как реальный глава языческой иерархии, как наместник богов. Но что могли ему дать «мертвые идолы» и падшие духи? При правильном этическом настрое ни языческие обряды, ни философский монотеизм не могли ему заменить Того, от Кого он отрекся как Царя мира. Конечно, можно сделать вывод о том, что модель религиозной политики последнего языческого императора Римской империи формировалось в общем контексте развития одного из важнейших аспектов византинизма, но именно христианство стало тем ферментом, который сплотил в единое мировоззренческое целое византийскую цивилизацию, несмотря на сосуществование в пределах «ромейской державы» и «византийского содружества наций» различных верований и философских учений.
Список литературы Политическая философия римского императора Флавия Клавдия Юлиана: у истоков византинизма (историографический аспект)
- Аммиан Марцеллин. Римская история / пер. Ю. А. Кулаковскогои А. И. Сонни; ред., предисл. и комм. Л. Ю. Лукомского. СПб., 2000. 558 с.
- Созомен Э. Церковная история Эрмия Созомена Саламинского.СПб., 1851. 636 с.
- Сократ Схоластик. Церковная история. М., 1996. 368 с.
- Юлиан, имп. Сочинения / пер. с древнегр., коммент. Т. Г. Сидаша.СПб., 2007. 428 с.
- Юлиан, имп. Аристоксену-философу // Юлиан, имп. Полное собрание творений / сост. Т. Г. Сидаш; пер.: Ю. Г. Бутаев, Т. Г. Сидаш и др. СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2016. С. 547-548.
- Юлиан, имп. Письмо Арсакию, главному жрецу Галатии // Юлиан, имп.Полное собрание творений / сост. Т. Г. Сидаш; пер.: Ю. Г. Бутаев, Т. Г. Сидаш и др. СПб.:Издательский проект «Квадривиум», 2016. С. 527-529.
- Юлиан, имп. Письмо о богопочитании // Юлиан, имп. Полное собрание творений / сост. Т. Г. Сидаш; пер.: Ю. Г. Бутаев, Т. Г. Сидаш и др. СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2016. С. 411-431.
- Юлиан, имп. Письмо Феодоре // Юлиан, имп. Полное собрание творений / сост. Т. Г. Сидаш; пер.: Ю. Г. Бутаев, Т. Г. Сидаш и др. СПб.: Издательский проект«Квадривиум», 2016. С. 545-546.
- Юлиан, имп. Письмо Феодору, главному жрецу // Юлиан, имп. Полное собрание творений / сост. Т. Г. Сидаш; пер.: Ю. Г. Бутаев, Т. Г. Сидаш и др. СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2016. С. 513-516.
- Юлиан, имп. Полное собрание творений / сост. Т. Г. Сидаш; пер.:Ю. Г. Бутаев, Т. Г. Сидаш и др. СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2016. 1088 с.
- Юлиан, имп. [Слово] Цезаря Юлиана о деяниях Самодержца и о Царстве жрецу // Юлиан, имп. Полное собрание творений / сост. Т. Г. Сидаш; пер.:Ю. Г. Бутаев, Т. Г. Сидаш и др. СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2016. С. 61-125.
- Аверинцев С. С. Император Юлиан и становление «византинизма» // Традиция в истории культуры. М., 1978. С. 79-84.
- Аллар П. Христианство и Римская империя от Нерона до Феодосия / пер. с фр. СПб., 1898. 291 с.
- Алфионов Я. И. Император Юлиан и его отношение к христианству. Казань: Тип. Имп. университета. 1877. 432 с.
- Бенуа-Мешен Ж. Император Юлиан, или Опаленнаямечта / пер. с фр. Э. М. Драйтовой. М., 2001. 270 с
- Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 82 т. и 4 доп. т. СПб.,1890-1907.
- Василенко Л. И. Введение в русскую религиозную философию. М.,2009. 248 с.
- Ведешкин М. A. Правовой статус язычников и языческих культовв Римской империи IV-VI вв.: законодательство и практика // Юлиан, имп. Полное собрание творений / сост. Т. Г. Сидаш; пер.: Ю. Г. Бутаев, Т. Г. Сидаш и др. СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2016. С. 749-791.
- Ведешкин М. A. Языческая оппозиция христианизации Римской империи (IV-VI вв.). СПб.: Алетейя, 2018. 358 с.
- Вишняков А. Ф. Император Юлиан Отступник и литературная полемика с ним св. Кирилла, архиепископа Александрийского, в связи с предшествующей историей литературной борьбы между христианами и язычниками. Симбирск, 1908. 248 с.
- Гаврилов И. Б. К вопросу о специфике консервативной философии К. Н. Леонтьева // Актуальные проблемы философских наук. Сборник научных трудов профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов по итогам НИР 2014 г. Март-апрель 2015 г. / под ред. А. Ю. Григоренко, С. И. Тягунова. СПб., 2015.С. 35-38.
- Гаврилов И. Б. К характеристике политической философии Ивана Ильина // Ильинские чтения. Материалы международной научно-практической конференции. Государственный университет морского и речного транспорта имени адмирала С. О. Макарова. СПб., 2014. С. 114-121.
- Гаврилов И. Б. «Память об Афоне живет в моем сердце». К 185-летию со дня рождения К. Н. Леонтьева // Научные труды кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии. СПб., 2016. С. 126-134.
- Гиббон Э. Закат и падение Римской империи / пер. с англ. В 7 т. Т. 2.М., 2008. 576 с.
- Грыжанкова М. Ю. Социально-философская концепция раннего византинизма: диссертация доктора филос. наук. Саранск, 2003. 329 с.
- Джарман О. А., Гаврилов И. Б. Греческая религия и христианизация в эпоху становления византийской государственности. Рецензия на монографию: Trombley, Frank R. Hellenic Religion and Christianization, c. 370-529. 2 vols. (Religions in the Graeco-Roman World. Volumes 115/1-2). Boston; Leiden, 2001. 344 p. 430 p. // Христианское чтение, 2018. № 2. С. 262-266.
- Джарман О. А., Гаврилов И. Б. Историческая трансформация римской религии в контексте становления христианства: новые тенденции в зарубежном религиоведении. Рецензия на монографию: Mary Beard, John North, Simon Price.Religions of Rome. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. Volume 1: A History. 476 p.Volume 2: A Sourcebook. 430 p. // Христианское чтение. СПб., 2018. № 1. С. 244-249.
- Джарман О. А., Гаврилов И. Б. К характеристике древнеримского культа императора. Рецензия на монографию: I. Gradel. Emperor Worship and Roman Religion (Oxford Classical Monographs). Oxford: University Press, 2004. 428 p. // Христианское чтение. СПб., 2017. № 5. С. 256-259.
- Джарман О. А., Гаврилов И. Б. Религиозный мир Древней Греции. Рецензия на монографию: Simon Price. Religions of the Ancient Greeks.Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 230 p. // Христианское чтение. СПб., 2017. № 6.С. 251-254.
- Джарман О. А., Гаврилов И. Б. Христианские пути Востока и Запада. Рецензия на монографию: Eugene Webb. In Search of the Triune God. The Christian Paths of East and West. University of Missouri, 2014. 448 p. // Христианское чтение. СПб., 2017. № 3. С. 309-315.
- Дмитриев В. А. Юлиан Отступник: человек и император // Метаморфозы истории. Вып. 2. Вена-Псков, 2002. С. 246-258.
- Иванов И. А. Византия как предмет исследования в русской и зарубежной социально-исторической мысли ХХ века. СПб., 2012. 268 c.
- Иванов И. А. Римско-византийское право: некоторые аспекты религиозной политики // Вестник ИНЖЭКОНА. Серия: Гуманитарные науки. СПб., 2010. № 4(39). С. 79-84.
- Козловская Н. В. К проблеме значения лексем византизм и византинизм // Политическая лингвистика. Екатеринбург, 2013. № 3 (45). С. 91-97.
- Коптелов Б. В. Отношения римских императоров с христианской церковью в 330-х - начале 360-х годов: диссертация кандидата исторических наук. URL:htp://dissercat.com/content/otnosheniya-rimskikh-imperatorov-s-khristianskoi-tserkovyu-v-330-kh-nachale-360-kh-godov#ixzz5M5zLtEYP (дата обращения: 23.07.2018).
- Митрофанов А. Ю. Богословие власти в поздней Римской империи (вторая половина IV в.) // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии. СПб., 2017. № 1. С. 113-121.
- Новиков А. А. Формирование византийской политической доктрины (IV век): диссертация кандидата юридических наук. СПб., 1999. URL: htp://dissercat.com/content/formirovanie-vizantiiskoi-politicheskoi-doktriny-iv-vek (дата обращения: 23.07.2018).
- Пак Е. А. Политическая деятельность и литературное творчество императора Юлиана Отступника: диссертация кандидата исторических наук. Казань, 2015. 187 с.
- Пак Е. А. Религиозная политика Юлиана Отступника // Мнемон. СПб.,2010. № 9. С. 363-386.
- Пак Е. А. Трагедия Юлиана отступника: становление личности и формирование взглядов римского аристократа в условиях духовного и политического кризисав середине IV в. // Вестник СПбГУ. История. СПб., 2009. № 4. С. 125-132.
- Розенталь Н. Н. Юлиан-отступник. (Трагедия религиозной личности). Пг., 1923. 112 с.
- Сидаш Т. Г. Император Юлиан // Юлиан, имп. Полное собрание творений / сост. Т. Г. Сидаш; пер.: Ю. Г. Бутаев, Т. Г. Сидаш и др. СПб.: Издательский проект«Квадривиум», 2016. С. 935-979.
- Сидаш Т. Г. Дело императора Юлиана // Юлиан, имп. Полное собрание творений / сост. Т. Г. Сидаш; пер.: Ю. Г. Бутаев, Т. Г. Сидаш и др. СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2016. С. 979-1040.
- Соколов И. И. О византинизме в церковно-историческом отношении. СПб., 1903. 43 с.
- Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории: Сборник / пер.с англ. М., 2002. 592 с.
- Успенский Ф. И. История Византийской империи. Становление.В 3 т. Т. 1. М., 2011. 608 с.
- Bidez J. La Vie de l’empereur Julien. P.: Belles Letres, 1930. 408 p.
- Bowersock G. W. Julian the Apostate. Cambridge (Ma.), 1978. 132 p.
- Albert de Broglie L’Église et l’Empire romain au IVe siècle P., 1859. 459 p.
- Browning R. Te Emperor Julian. Ewing, 1976. 256 p.
- Dagron G. L'empire romain d'Orient au IVe siècle et les tradition politiquesde l'hellenisme: le témoignage de Temistios // Travaux et mémoires. Vol. 3. P., 1968. P. 1-242.
- Elm S. Sons of Hellenism, Fathers of the Church: Emperor Julian, Gregory of Nazianzus, and the Vision of Rome. Berkeley: University of California Press, 2012. 558 p.
- Dictionnaire des philosophes antiques, publié sous la direction de RichardGoulet, t. III: d’Eccélos de Lucanie à Juvénal, Paris, C. N.R. S. Éditions, 2000. 1071 p.
- Murdoch A. The Last Pagan: Julian the Apostate and the Deathof the Ancient World. Rochester: Inner Traditions, 2008. 280 p