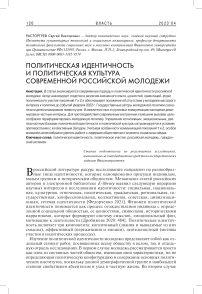Политическая идентичность и политическая культура современной российской молодежи
Бесплатный доступ
В статье анализируются современные подходы к политической идентичности российской молодежи. Автор анализирует сходство и различия жизненного опыта, ценностей, ориентаций, форм политического участия поколений Y и Z и обосновывает положение об отсутствии у молодежи массового интереса к политике до событий февраля 2022 г. Государственные акторы молодежной политики сознательно деполитизировали повестку дня. В межличностных и групповых коммуникациях молодежи доминировали частные интересы. Для противодействия современным внутренним и внешним вызовам целесообразно переформатировать молодежную политику. Управление когнитивным, эмоциональным, деятельностным блоками политической идентичности и политической культуры актуализируется в условиях противостояния с коллективным Западом. Учитывая особенности коммуникаций поколений Y и Z, особое внимание целесообразно уделить работе с лидерами общественного мнения в социальных медиа.
Политическая идентичность, политическое участие, российская молодежь, гражданский активизм
Короткий адрес: https://sciup.org/170200517
IDR: 170200517 | DOI: 10.31171/vlast.v31i4.9702
Текст научной статьи Политическая идентичность и политическая культура современной российской молодежи
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету.
В российской литературе ракурс исследования направлен на разнообразные типы идентичности, которые одновременно присущи индивидам, малым группам и историческим общностям. Метаанализ статей российских авторов в электронной библиотеке E-library выявил следующую иерархию научных интересов в исследовании идентичности: социальная, национальная, культурная, этническая, политическая, гражданская, региональная, государственная, конфессиональная, коллективная, советская, цивилизационная, сетевая идентичности [Федорченко 2021]. Феномен политической идентичности понимается как процесс отождествления индивида с определенной социальной общностью, ее ценностями, символами, историческими нарративами, которые формируют систему смыслов, эмоциональный фон, мотивацию к деятельности [Дробижева 2020: 484]. Политическая идентичность включает три компонента: когнитивный (знания и выводимые из них смыслы), аффективный (переживания и эмоции), деятельностный (мотивы участия в политических процессах).
Изучение политической идентичности молодежи представляет собой как отдельный сегмент работ, посвященных всему обществу в целом, так и отдельную отрасль исследований. В первом случае молодежь рассматривается просто как одна из составных частей общества, имеющая свои характеристики, но не определяющая политическую конфигурацию и содержание основных политических институтов, поскольку данной демографической группе в наибольшей степени свойственен абсентеизм и уход в частную жизнь. Во втором случае молодежь рассматривается как самостоятельный, значимый актор политических процессов, который ответственен за формирование своего будущего, активно использует цифровые технологии, является основным интересантом модернизации всех сфер общественной жизни, ищет новые смыслы в глобальном мире [Зубок 2020: 9-10; Петухов 2020: 123]. Тенденции политизации молодежи в социальных сетях оппозиционными силами, вовлечение школьников и студентов в неконвенциональные формы политического участия, увеличение явки молодых людей на выборы в 2016–2022 гг. актуализируют исследования форм и методов реализации государственной молодежной политики, выстраивания взаимоотношений организаций гражданского общества и государства с поколениями Y и Z [Пырма 2020].
Исследователи политической идентичности молодежи используют две группы источников: общенациональных опросы, которые отражают различные аспекты представлений и настроений молодежи [Титов 2021]; политологи и социологи разрабатывают и реализуют собственные программы локальных исследований, основанных на анализе социальных медиа с помощью методик медианалитики, свободных ассоциаций, контент-анализа и др. [Сащенко 2021; Самаркина, Башмаков 2021; Пустовойт 2021].
В соответствии с теорией поколений К. Мангейма, в демографическую группу от 14 до 35 лет попадают две подгруппы: поколение Y (1987–1997 гг.) и поколение Z (1998–2008 гг.). Применительно к российским реалиям можно констатировать несколько фундаментальных отличий и сходств поколений Y и Z . Первичная социализация поколения Y проходила в кризисные 1990-е гг., характеризовавшиеся социально-экономическими трудностями, глубоким кризисом всех типов идентичности российских граждан. Представители поколения Y переживали социально-экономические трудности вместе с родителями, для большинства доминантными являлись ценности выживания по Р. Инглхарту. Первичная социализация поколения Z проходила в период относительной социально-экономической и политической стабильности, когда граждане страны стали обретать новую положительную постсоветскую идентичность. Для части поколения Z , представленной школьниками и студентами из средних и обеспеченных слоев в мегаполисах, доминантными являются ценности самовыражения. Поколение Z является первым поколением цифровых аборигенов, на социализацию которых значительное влияние, наряду со СМИ, школой, семьей, оказали социальные медиа. Таким образом, цифровизация может рассматриваться как существенный фактор отличия поколений. Общим фундаментальным сходством является постсоветская политическая идентичность поколений Y и Z. Отсутствие собственного опыта жизни в СССР приводит к тому, что молодежь полагается на мнение других в оценках этого периода (на письменные и устные нарративы родственников, учебных программ, политиков, СМИ, лидеров общественного мнения в массмедиа) [Расторгуев 2022: 91].
Исследователи отмечают, что протестная активность в социальных сетях поколений Y и Z отличается степенью рационализации, уровнем рефлексии объектов недовольства. Недовольство представителей поколения Y связано прежде всего с конкретными действиями правительства: это проблемы мусорной и пенсионной реформы, последствия экономического кризиса, проблемы эффективности функционирования органов власти. Представители поколения Z в гораздо большей степени иррациональны, нетерпеливы, критичны. Их недовольство сфокусировано на абстрактной несправедливости общественного устройства, коррупции (основная повестка внутрироссийской оппози- ции), отсутствии привлекательного положительного образа будущего. Анализ цифровых следов недовольных представителей поколения Z показывает, что они противопоставляют свои взгляды взглядам основной массы сверстников, обвиняя их в лоялизме или индифферентности, критикуют старшее поколение за негативное отношение к глобализации и западным ценностям, рассматривают чиновников как ограничителей демократических прав и свобод [Титов 2020: 149-150].
У большинства молодежи, включая студенчество, слабо выражена политическая идентичность по сравнению с более старшими поколениями [Гусев 2014: 124-125]. Анализ молодежной активности в социальных медиа показывает доминирование в коммуникациях тем дружбы, досуга, образования; политическая и гражданская активность не входит в топ тем общения. Из гражданской активности наиболее развита экологическая тематика. Социальная активность молодежи мотивирована в первую очередь стремлением к саморазвитию, самореализации и поиском нового, а для данной комбинации мотивов и при наличии доступных молодежи ресурсов политическая и протестная активность не представляются конгруэнтными [Шамионов, Суздальцев 2022: 26].
На основе опроса, глубинных интервью, социально-медийного анализа, когнитивного картирования, проведенных в 2020 г., группа исследователей предложила следующую классификацию современной молодежи России по отношению к гражданскому активизму. «Лояльные акторы» и «оппозиционные акторы» (суммарно самая многочисленная группа – более одной трети) представлены субъектами с лидерскими качествами и опытом участия в реализации гражданских инициатив. При этом лояльные акторы нацелены на партнерство с органами власти, а оппозиционные акторы ориентированы на протесты. Группа «вовлеченных» характеризуется конвенциональностью, критическим отношением к отдельным элементам внутренней политики страны, готовностью поддерживать гражданские инициативы и неготовностью участвовать в политических акциях. «Зрители» полностью сосредоточены на частной жизни и не проявляют желания участвовать в политических акциях, готовы в онлайн-формате поддержать гражданские инициативы. Число «вовлеченных» и «зрителей» оказалось примерно равным. Самая малочисленная категория – «выключенные» (15%) – характеризуется неотзывчивостью к агитации на участие в гражданских инициативах в силу удовлетворенности жизнью [Бродовская, Пырма, Домбровская 2020].
Готовность принять участие в политической деятельности выразили 7–8% молодых респондентов, категорически не согласились в той или иной форме проявлять активность в политике 66%. Примерно пятая часть опрошенных молодых респондентов имели опыт волонтерства и подписания коллективных петиций, а одна десятая часть опрошенных заявили о наличии опыта участия в демонстрациях и политической онлайн-активности. Указанные формы политического участия показывают процент политических активистов, для которых политическая идентичность является важной составной частью других идентичностей. Можно констатировать, что сильная политическая идентич- ность сформирована у 10% молодежи, а вокруг этого ядра находится еще 10% ближайшей периферии, которые имеют политическую идентичность средней силы.
Электоральная активность молодежи в последние избирательные циклы несколько выросла. На президентских выборах 2018 г. электоральная активность молодежи впервые превысила электоральную активность среднего и старшего поколения как по данным экзитпола ВЦИОМа, так и по официальным данным ЦИКа [Гражданский активизм… 2021].
Российские исследователи отмечают, что органы государственной власти до недавнего времени не актуализировали намерение массового вовлечения молодежи в политику. Относительно немногочисленные группы провласт-ных и оппозиционных активистов уже укрепились в своем идеологическом выборе, а наиболее многочисленная группа аполитичной, не сформировавшей четкую политическую идентичность молодежи предпочитает коммуникации по частным, а не публичным вопросам. В связи с этим предлагается классификация молодежи по степени политической лояльности: а) высокий уровень лояльности, готовность к институциональным формам политического участия, вхождению в существующие структуры власти; б) средний уровень лояльности при критичном отношении к отдельным фактам неэффективности власти, готовность к институциональным формам политического участия, вхождению в существующие структуры власти; в) аполитичность, индифферентность к политике, концентрация на частной жизни, нежелание и неготовность участвовать в конвенциональных и не конвенциональных политических практиках; г) средний и высокий уровень нелояльности политическому режиму, готовность участвовать в институциональных оппозиционных движениях и не конвенциональных политических протестах [Буров 2021: 36]. Представители первой и четвертой категории могут быть классифицированы как носители сформированной политической идентичности, но основная масса молодежи находится во второй и особенно третьей категории. Именно за формирование политической идентичности данных групп молодежи разворачивается информационная борьба государства, российских и зарубежных НКО в СМИ и СМК. Учитывая тот факт, что в молодежной среде основным источником информации являются не традиционные СМИ, а социальные медиа, особое внимание уделяется цифровым политическим технологиям, тактикам мобилизации, алгоритму создания и распростране- ния новостей лидерами общественного мнения, профессиональными журналистами, информационными агентствами.
Список литературы Политическая идентичность и политическая культура современной российской молодежи
- Бродовская Е.В., Пырма Р.В., Домбровская А. Ю. 2020. Гражданский активизм молодежи России: структура ролей, факторы формирования установок, триггеры роста протестного потенциала. - Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. Т. 10. № 6. С. 39-48. DOI: 10.26794/2226-7867-202010-6-39-48.
- Буров А.С. 2021. Перспективные технологии формирования политически лояльной молодежи в современной России. - PolitBook. № 4. С. 31-46.
- Гражданский активизм. Июль 2021. Доступ: https://sociodigger.ru/releases/ release/grazhdanskii-aktivizm (проверено 28.07.2023).
- Гудков Л., Зоркая Н., Кочергина Е., Пипия К., Рысина А. «Российское поколение Z»: установки и ценности 2019/2020. 2020. Доступ: https://library.fes.de/ pdf-íiles/bueros/moskau/16135.pdf (проверено 23.07.2023).
- Гусев А.С. 2014. Формирование политической идентичности в современной России (на примере Санкт-Петербурга и Амурской области): дис. ... к.полит.н. СПб. 326 с.
- Дробижева Л.М. 2020. Смыслы общероссийской гражданской идентичности в массовом сознании россиян. - Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. № 4. С. 480-498.
- Зубок Ю.А. 2020. Молодежь: жизненные стратегии в новой реальности. -Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. № 3. С. 4-12.
- Петухов В.В. 2020. Российская молодежь и ее роль в трансформации общества. - Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. № 3. С. 119-138.
- Попов Н.П. 2019. Сравнительный анализ социально-политических взглядов российской и американской молодежи. - Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. № 1. С. 126-152.
- Пустовойт Ю.А. 2021. Мобилизационная повестка поколений в зеркале системы «IQBuzz» (опыт анализа протестов в сибирских городах). - Журнал политических исследований. Т. 5. № 2. С. 102-116.
- Пырма Р.В. 2020. Теоретические аспекты исследования политических предпочтений российской молодежи. - Власть. Т. 28. № 4. С. 157-160.
- Расторгуев С.В. 2022. Современные исследования политической идентичности российской молодежи. - Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. Т. 12. № 4. С. 89-96. DOI 10.26794/2226-7867-2022-12-4-89-96.
- Расторгуев С.В. 2023. Типологизация политической идентичности современной российской молодежи. - Власть. Т. 31. № 1. С. 30-35. DOI 10.31171/ vlast.v31i1.9458.
- Самаркина И.В., Башмаков И.С. 2021. Локальная идентичность: механизмы конвертации в конструктивные социально-политические практики молодежи. - Полис. Политические исследования. № 2. С. 99-112.
- Сащенко Н.П. 2021. Российская идентичность в цифровую эпоху и социальные представления пользователей социальных сетей. - Социальные и гуманитарные знания. Т. 7. № 1. С. 40-51.
- Титов В.В. 2020. Стратегии социального протеста молодежи в Рунете: сравнительный анализ поколений Y и Z. — Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. № 3. С. 139-158.
- Титов В. В. 2021. Ценностные ориентации и социальное самочувствие молодежи как фактор трансформации национально-государственной идентичности в России. — Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. Т. 11. № 3. С. 27-32. DOI: 10.26794/2226-7867-2021-11-3-27-32.
- Федорченко С.Н. 2021. Формирование новых идентичностей на постсоветском пространстве: между реальным и цифровым миром. - Журнал политических исследований. Т. 5. Вып. 3. С. 3-15.
- Шамионов Р.М., Суздальцев Н. В. 2022. Соотношение приверженности молодежи к социальной активности в интернете и физическом пространстве. — Вестник РУДН. Серия психология и педагогика. Т.19. № 1. С. 21-38.