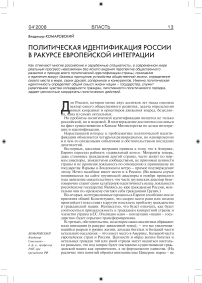Политическая идентификация России в ракурсе европейской интеграции
Автор: Комаровский Владимир Савельевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Тема
Статья в выпуске: 4, 2008 года.
Бесплатный доступ
Как отмечают многие российские и зарубежные специалисты, в современном мире реальный прогресс невозможен без ясного видения перспектив общественного развития и прежде всего политической идентификации страны, понимания и единения вокруг базовых принципов устройства общественной жизни, определения своего места в мире, своих друзей, соперников и конкурентов. Именно политическая идентичность определяет общий смысл жизни нации - государства, служит укреплению чувства солидарности граждан, легитимности политического порядка, задает ценностные координаты политических действий.
Короткий адрес: https://sciup.org/170164399
IDR: 170164399
Текст научной статьи Политическая идентификация России в ракурсе европейской интеграции
д я Р-оссии, которая менее двух десятков лет назад сменила ектор своего общественного развития, задача определения овых координат и ориентиров движения вперед, безусловна из самых актуальных.
Но проблема политической идентификации является не только российской, но и мировой. В подтверждение достаточно сослаться на факт существования в Канаде Министерства по делам интеграции и идентификации.
Нарастающий интерес к проблематике политической идентификации объясняется четырьмя разнородными, но одновременно и в чем-то связанными событиями и обстоятельствами последних десятилетий.
Во-первых, массовая миграция привела к тому, что в А-мерике, Е-вропе перестал работать «плавильный котел». Мигранты теперь, даже становясь гражданами другой страны, часто живут по нормам диаспоры, замкнутыми сообществами, не принимая ценности страны и не проявляя лояльность по отношению к принявшему их государству. Взрывы в Лондонском метро – прямое подтверждение этому. Нечто подобное имеет место и в Р-оссии. (Во всяком случае появившееся на сайте грузинской диаспоры в ноябре прошлого года заявление свидетельствует, что часть грузинских диаспор безоговорочно ставят свою культурную идентичность выше лояльности российскому государству. Являясь де-юре гражданами Р-оссии, ментально они по-прежнему считают себя гражданами Грузии.)
Во-вторых, интеграционные процессы в Е-вропе (особенно после принятия общей Конституции, что скорее всего рано или поздно произойдет) тоже ставят в другую плоскость проблему гражданства и гражданской нации. Неизвестно, что будет означать, как будет соотноситься принадлежность к гражданам конкретной страны и членство страны в Е-С. Очевидно одно – концепция «нация – государство» будет серьезно трансформирована.
КОМАРОВСКИй
Владимир Савельевич – д. ф. н., профессор РАГС при президенте РФ
В-третьих, обстоятельство, на которое наши аналитики обращают мало внимания (в ракурсе заявленной темы), – это все увеличивающийся разрыв в уровне жизни, доходах богатых и большей части остального населения – что имеет место в А-мерике, большой части европейских стран и Р-оссии. Ценности и образ жизни богатых и остальных граждан той или иной страны могут оказаться настолько разными, что под вопрос будет поставлено существование гражданской нации как органичного, а не формального единства. (На различие этих понятий обратил внимание еще Цицерон: народ – не собрание людей, живущих на определенной территории. Народом делает их общая история и общие ценности.)
И наконец последнее. Р-ост национального самосознания в последние десятилетия сопровождался и ростом сепаратистских настроений. Причем не только на постсоветском пространстве, но даже в таких благополучных странах, как Б-ельгия или Канада.
Теоретическим ответом на названные вызовы политической идентичности являются формирование и развитие концепта нация – государство (политическая нация, гражданская нация)
В науке существует несколько трактовок понятия «политическая нация». А-втору представляется, что наиболее адекватная из них принадлежит Ю. Хабермасу: «Политическая нация – это не государство и не население государства – «демос» и даже не просто гражданское общество. Это еще и общность, определенная едиными культурно-ценностными узами, единой гражданской идентичностью»1.
Вполне понятно, что такого рода общность не сводится к формальному обретению паспорта и не может произвольно конструироваться кем бы то ни было. Она возникает как результат сложных процессов, в ходе совместной жизнедеятельности людей – что, конечно, не ставит под вопрос необходимость соответствующих усилий со стороны политических элит, государства по формированию политической идентичности страны, коллективного «мы», отдавая себе при этом отчет в наличии ограничений, которые имманентно присущи данным усилиям.
Сформировавшаяся политическая нация, коллективное «мы» идентифицирует себя тремя класторами общих представлений и убеждений.
Первым в виде общих принципов, убеждений, норм и ценностей, определяющих основу совестного общежития населения страны, служащих основанием политической общности граждан, источником легитимности и суверенитета государства, лояльности граждан этому государству. Нация – государство в этом кластере представлена как идеальная и духовная целостност ь, «воображаемое (термин Б-.
А-ндерсона) политическое сообщество», определяющее вектор и задающее координаты деятельности политических акторов в настоящем и будущем.
«Воображаемое политическое сообщество» должно находить прямое и непосредственное отображение в конституции страны. Однако при этом следует отличать Конституцию как юридический документ и конституционализм как политическое явление. Конституция (вне зависимости от того, как она была принята) бывает «формальным» документом – в том смысле, что может не отражать реального согласия (единства) основных групп граждан относительно принципов, норм, убеждений, ценностей, лежащих в основе жизнедеятельности граждан общества и государства.
Конституционализм же предполагает именно согласие основных групп общества в отношении тех основ жизни общества и государства, которые фиксирует Конституция.
Второй кластер общих представлений идентификации нации – государства связан с маркированием границ «мы», определением себя через «другого» («они») – в чем и с кем именно мы схожи, в чем отличаемся от другого и выявлением через это отражение собственной самобытности, своих национальных интересов и глобальных задач развития. Маркирование границ носит в большей части символический характер и осуществляется на основе укоренившейся в обществе культуры (политической в том числе), традиций, образцов для подражания, ценностей и норм. Для современного мира характерно тесное переплетение политических и культурных «маркеров» идентификации и даже предпочтение первых вторым, что делает проблематичным сохранение культурной автономии не только мигрантов (пример – проблемы с мусульманским населением Франции), но и национальных меньшинств собственного государства (в качестве примера можно привести усиления украинского государства по вытеснению русского языка).
Третий кластер процесса политической идентификации определяется интерпретацией прошлого и конструированием традиций. Смысл интерпретации прошлого состоит в том, чтобы с одной стороны – показать историческую преемственность существующего обще- ственного и политического строя, а с другой – оттенить уникальность нации, ее судьбы и существующих институтов. Интерпретация прошлого служит вполне определенным политическим целям: легитимации национального политического проекта, политической мобилизации и интеграции масс. Интерпретацией прошлого занимается как государство, так и политическая элита страны, причем не только путем «переписывания истории» – что особенно часто наблюдается в кризисных и послекризисных ситуациях, смене вектора общественного развития, но и путем конкретных акций в поддержку сохранения тех или иных традиций, праздников, ритуалов. Интерпретация прошлого, хотя и осуществляется политическими элитами, тем не менее ограничена укоренившимися в сознании большинства населения традициями, ценностями, нормами поведения. В равной мере это относится и к коллективному «мы», воображаемому политическому сообществу, а также всему тому, что касается «другого» («они»). С тем добавлением и уточнением, что выбор исторического пути («мы»), его детализация и «расшифровка» через понятие «другой» («они») ограничены не только ментальными особенностями населения, но и целым рядом других вполне объективных факторов (географией страны в частности).
Итак, анализ политической идентификации нации – государства включает:
-
1) анализ общих принципов, норм и ценностей, служащих основами политической общности граждан (воображаемое коллективное «мы»);
-
2) соотнесения коллективного «мы» с другими нациями – государствами, с «они»;
-
3) интерпретацию прошлого своей страны;
-
4) анализ возможностей и ограничений конструирования идентичности.
Проанализируем с обозначенных позиций основные этапы и составляющие процесса политической идентификации на постсоциалистическом пространстве Е-вропы. Сравнение необходимо, чтобы лучше понять российскую специфику: что зависит от нас, а что к таковому не относится.
Б-урно протекавший в конце 80-х – начале 90-х годов политический кризис привел (в ряде других факторов) к смене общественно-политического строя и распаду некоторых государств, СССР- в том числе, что потребовало конструирования новой политической идентичности. Началась она во всех странах бывшего «социалистического содружества» с негативной идентификации, как отрицание коммунистического проекта построения будущего, коммунистической идеологии, служившей ранее основой политической идентификации.
Р-адикальность «отречения» от коммунистического прошлого отдельных бывших социалистических стран не была одинаковой. В Ч-ехии был запущен процесс люстрации и функционерам компартии запретили занимать многие должности или заниматься определенного рода деятельностью. В Р-оссии также были попытки запустить подобный процесс, но они (равно как и суд над компартией) оказались безуспешными.
В Польше переродившаяся ПОР-П пришла на некоторое время к власти. Процесс расставания с прошлым стран бывшего социалистического содружества еще явно не завершен. Несколько аргументов в подтверждение данной оценки. Создание в Польше Института памяти во время премьерства господина Качиньского есть (с позиций политической науки) не что иное, как попытка заново, более жестко оценить коммунистическое прошлое страны и, разумеется, деятельность конкретных лиц, так или иначе причастных к прошлому режиму. Не завершен процесс «расставания с прошлым» и в Р-оссии. Оценки коммунистического прошлого Р-оссии колеблются в диапазоне от надо не только полностью отречься от этого прошлого (как аномалии), но и заклеймить его, поставив Сталина на одну доску с Гитлером (радикальные демократы), до Октябрьская революция и последующие события развития страны – величайшее событие ХХ века (официальная позиция КПР-Ф).
Позицию правящей политической элиты, политического руководства страны можно определить как частичное признание Октября (это часть истории страны, ее нужно осмыслить и принять как факт) и частичное отторжение. В трех символах нынешнего российского государства воплощена идея преемственности в развитии страны – герб из времен до Петра I, флаг из дореволюционного про- шлого, гимн музыки советского времени, текст обновлен.
Знаковыми событиями в этом плане были также почетное перезахоронение в Р-оссии генерала Деникина и философа Ильина – непримиримых противников коммунизма, а также открытие единого памятника в г. Новочеркасске лицом, сражавшимся друг против друга во время Гражданской войны.
А-ргументы в пользу взвешенного подхода у правящего класса таковы:
-
1) все происходившее в Р-оссии в начале ХХ века имело не субъективную, а совершенно объективную основу. Р-еволюционные потрясения в Р-оссии не были изолированным событием, а являлись частью глобального процесса. Октябрь 17-го оказался самым крупным из социальных катаклизмов, но подобные процессы возникали и в других местах планеты. Р-еволюции и революционные выступления разных масштабов происходили в то время в Китае, Мексике, Венгрии, Индии, Турции, Монголии и других станах. Таков был мировой контекст, такова эпоха;
-
2) СССР- был тоталитарным государством. Но многого достиг и отнюдь не тоталитарный режим был главным источником всех лучших достижений советской эпохи, которыми мы можем и должны гордиться сегодня. Этим источником была именно энергия «разжавшейся пружины», народного порыва к достойной и справедливой жизни. Б-лагодаря этому порыву отсталая аграрная страна смогла вырваться в передовые индустриальные державы. Б-лагодаря ему была побеждена неграмотность, созданы лучшие в мире системы бесплатного народного образования и здравоохранения. Б-лагодаря этому была одержана великая Победа над фашизмом, покорены высочайшие вершины в культуре и искусстве, науке и технике, освоении космоса;
-
3) достижения СССР- в ряде сфер стали международным достоянием;
-
4) и наконец для осмысления событий ХХ века в Р-оссии. Нужны время и спокойствие. Эта задача будущих поколений, свободных от стереотипов прошлого и настоящего.
Как нетрудно убедиться, из прежней советской идентичности убираются прежде всего идеологические компоненты и принимаются патриотические.
Е-сли в отношении весомости трех первых аргументов возможна дискуссия, то последний следует принять безоговорочно.
Нельзя настоящее и будущее делать заложником прошлого – при всей очевидности связь оценок прошлого с проектом будущего, видением коллективного «мы». Такой подход продуктивен не только для Р-оссии, но и других посткоммунистических стран Е-вропы. Конфликты по поводу оценок прошлого не способствуют консолидации нации. Об этом свидетельствуют и реальный опыт, реальные события.
Тем более что существуют ограничения желаемого толкования недавней истории страны. Б-ольшинство населения может его просто не принять. Об этом свидетельствует, в частности, данные недавно проведенного совместного с социологическим центром Р-А-ГС Всероссийского репрезентативного исследования. Приведем эти данные (в %, опрошены 1600 человек от 18 лет и старше в 20 регионах Р-оссии. Опрос проводился с 9 по 16 июля 2007 г.).
Как следует из таблицы 1 , прошлое (Октябрь) скорее разъединяет, чем объединяет. Консенсус существует (возможен) в отношении Петра I (позитивный), М. С. Горбачева и Б-. Н. Е-льцина (негативный). О В. В. Путине как «прошлое» рассуждать преждевременно.
Интепретация прошлого представляет интерес не только как самостоятельный кластер политической идентификации, но и с точки зрения связи с другим кластером – значимый «другой». Уже в российской версии интепретация прошлого просматривается как притязания на особую роль в мировой истории.
Подробнее о втором кластере политической идентификации – значимый «другой». Е-ще с до Петровских времен и до настоящего времени таким значимым Другим была для Р-оссии прежде всего Е-вропа, Запад.
Спектр взглядов на этого «другого» среди интеллектуалов и политических лидеров «другого» также необычайно широк:
от «Р-усская и западная цивилизации, русская бескорыстная совестливость и западная меркантильная цивилизованность несовместимы по исповедуемым ценностям. Поэтому торжество одной цивилизации означает гибель другой» (профессор Валерий Ильин.
Таблица 1
Какие преобразования в прошлой и нынешней отечественной истории, на ваш взгляд, ускорили прогресс России, а какие не имели исторического значения или задержали ее развитие?
|
Ускорили прогресс |
Не имели значения |
Задержали развитие |
Трудно сказать |
|
|
Реформы Петра I |
78,8 |
1,9 |
1,2 |
18,1 |
|
Октябрьская революция |
38,7 |
6,0 |
25,5 |
29,8 |
|
Перестройка, когда во главе страны был М.С.Горбачев |
18,7 |
13,3 |
40,5 |
27,5 |
|
Реформы 90-х годов, когда во главе страны был Б.Н.Ельцин |
13,2 |
12,6 |
40,9 |
33,3 |
|
Преобразования в 2000-е годы, когда страну возглавил В.В.Путин |
66,2 |
6,4 |
3,7 |
23,7 |
«Экономическая и философская газета», № 44–45, ноябрь 2007 г.), и «Запад всегда, на протяжении всей истории демонстрировал как раз гуманитарное лидерство, благодаря чему и стал тем, чем он является. Сейчас, пожалуй, наступил момент, когда Запад утратил лидерство и миссию и не в состоянии предложить ничего ни себе, ни другим в духовном плане» (Олег Матвейчев. «Суверенитет духа». М., 2007, ст. 4) до «Сегодня Демократическая партия Р-оссии открыто заявляет: Р-оссия должна сделать все для вступления в Е-вропейский союз»… Вступление в Е-вропейский союз совсем не фантазия» (А-ндрей Б-огданов – лидер Демократической партии).
Официальная (с некоторыми оговорками) позиция озвучена тогда еще кандидатом в президенты Р-оссии Д. А-. Медведевым 26 ноября 2007 г. на пресс-конференции для российских и зарубежных журналистов – у Р-оссии, безусловно, европейская идентичность.
Требуется еще время, чтобы расшифровать понимание правящей элитой что такое «европейская идентичность Р-оссии», но два опорных положения очевидны уже сейчас:
-
1) Р-оссия была и остается частью Е-вропы не только в географическом смысле слова;
-
2) Р-оссия хочет «вернуться» в Е-вропу, но остаться при этом Р-оссией (почти по Пушкину. Вопрос только в том, что Е-вропа теперь единая и совсем не факт, что она захочет «принять» Р-оссию в таком качестве).
На сегодня опыт «возвращения» в Е-вропу у бывших стран социалистического содружества накоплен уже большой и имеет прямой смысл обратиться к нему, сравнив шансы и ограничения движения в этом направлении Р-оссии, Польши, Ч-ехии, Венгрии и других Восточно-Е-вропейских стран.
Политическая наука, равно как и многие политические деятели, долгое время исходила из того, что для освободившихся от коммунистического режима стран ориентиром общественного развития станет западноевропейская модель политической системы. Отсюда огромный интерес к проблемам транзитологии – постепенного движения (приближения) к этой модели. В отношении большинства стран Центральной и Восточной Е-вропы этот прогноз оказался более или менее верным. Какая-то из этих стран быстрее, какая-то медленнее, с отступлениями и оговорками двигается в направлении интеграции с Западной Е-вропой – самым очевидным свидетельством чему является прием этих стран в Е-вропейский союз.
По-иному обстоит дело с Р-оссией. Как отмечают многие исследователи (хотя и с разной степенью категоричности), в Р-оссии сложилась (складывается) особая советско-постсоветская цивилизационная модель, существенно отличная от европейской (атлантической) модели по институциональной структуре и системе ценностей1.
Одни при этом считают, что произошло это потому, что «Р-оссия не справилась с демократией» (Л. Шевцова). Другие полагают, что Р-оссия «справилась» с демократией, ее «обрусила» и заземлила на свою почву1.
И в том, и в другом случае признается, что Р-оссия идет (ищет) свой путь, свою модель общественного устройства, отвечающего реалиям XXI века и, безусловно, интересам правящего класса. На Западе российская формирующаяся модель также воспринимается как «иная», что со всей очевидностью проявилось, например, во время дискуссии с американскими и французскими специалистами в июле 2007 года во время международного семинара, который проводился на базе PR-агентства «Никколо-М». Подобного рода свидетельств можно привести бесчисленное множество. Но вряд ли в этом есть какая-либо необходимость. Сегодня вопрос стоит не в плоскости, станет ли в ближайшие десятилетия Р-оссия подобна остальной, все более консолидирующейся (хотя и небеспроблемно) Е-вропе или займет свою собственную нишу в цивилизационном и геополитическом пространстве Е-вразии. Ясно, что она будет иной. Другое дело, в какой мере, то есть акцент переносится в плоскость понимания термина «существенные цивилизационные отличия». Это все-таки цивилизационные отличия (хотя и существенные) или другая цивилизация? И второй, вытекающий из первого вопрос: почему политическая элита Р-оссии не захотела (или не смогла) пойти по пути стран Восточной и Центральной Е-вропы?
Начну со второго вопроса.
Для Польши, Венгрии, Ч-ехии, а затем и других стран бывшего социалистического лагеря выбор западной модели более органичен, чем для Р-оссии. Б-ольшую часть своей истории они развивались, несомненно, под влиянием западноевропейской цивилизации. Их культура, образ мыслей и образ жизни, система ценностей и ориентаций, структура институтов формировались и развивались, несмотря на национальные отличия, под прямым воздействием Западной Е-вропы. Сами себя они также всегда считали европейцами, вкладывая в этот термин если не идентичный, то во многом сходный смысл с тем, который в него вкладывают жители западноевропейских стран. В странах Центральной и Восточной Е-вропы никогда не были устойчиво популярны идеи и концепции типа российского славянофильства или евразийства.
Идеи, концепция, практика социалистического строительства также не пустили в странах Восточной Е-вропы таких глубоких корней, которые они приобрели в бывшем СССР-.
Во-первых, СССР- двигался по социалистическому пути в течение жизни двух поколений, а в странах Восточной Е-вропы – фактически одного. Во-вторых, в странах Восточной Е-вропы и во времена коммунистического режима сохранился ряд институтов западного типа. В Польше, например, сохранилась частная собственность на землю, сохранила влияние в обществе Католическая Церковь, сохранилась также часть влиятельных институтов гражданского общества в лице прежде всего независимого профсоюза «Солидарность». Совсем не случайно, что руководитель профсоюза «Солидарность» – Лех Валенса стал первым президентом посткоммунистической Польши.
Оценки результатов социалистического строительства в Р-оссии и Восточной Е-вропе сильно отличаются. Восточноевропейцы теперь подсчитывают убытки и утраты, которые они понесли, по их мнению, за время пребывания в «социалистическом лагере». Р-оссия же, по образному выражению известного философа и политолога Сергея Кара-Мурзы, в облике СССР- стала сверхдержавой, а народы ее населяющие – полноправной нацией (Р-усский коммунизм. «Наше время». 2006, № 17). Причем и внутри страны, и за ее пределами никто не оспаривает тот факт, что СССР-был (наравне с США-) сверхдержавой. Дискуссия идет лишь о том, какой ценой СССР- стал сверхдержавой и что это дало народам, населяющим страну. Тут оценки либералов и коммунистов принципиально расходятся. Тем не менее и те, и другие в целом признают, что выдвинутый большевиками проект модернизации Р-оссии, опирающийся на национальные устои (а не в противовес им, что было в эпоху Петра I), в основном был реализован. Доказательством чему служит хотя бы тот факт, что первым человеком, попавшим в космос, был Юрий Гагарин – гражданин СССР-. Да и величайшая победа в Великой Отечественной войне не могла быть одержана слабой, разобранной «державой»,
Е-стественно, что это у многих вызвало (и продолжает вызывать) чувство гордости за свою страну и время, в которое жили люди того поколения. Даже сегодня, когда прошло уже 15 лет после распада СССР- и крушения коммунистического режима, большая часть населения по-прежнему позитивно оценивает Октябрьскую революцию и считает, что она открыла новую веху в истории Р-оссии и мировой истории. Е-ще один важный фактор, которому не придается должного значения.
А-бсолютное большинство стран Восточной Е-вропы – небольшие государства, без каких-либо серьезных геополитических притязаний (определенное исключение составляет, пожалуй, лишь Польша). Б-ольшую часть своей новейшей истории они находились в «зоне влияния» того или иного иностранного государства (группы государств). Доктрина Л. И. Б-режнева об ограниченном суверенитете – при всей ее беспардонности – отражала реальное состояние дел. В полной мере суверенитетом обладают лишь немногие страны, центры силы. К числу их относился бывший Советский Союз. Е-сли для стран Восточной Е-вропы переориентация с Советского Союза на Западную Е-вропу в этом отношении мала, что меняло по существу, то для Р-оссии означало (могло означать) принципиальный поворот в судьбе и государстве, и народа, и элиты.
Р-оссия в конце концов должна была принять «правила игры» Запада, а в этой игре ей отводилась второстепенная во всех отношениях роль. Запад никогда не был готов принять Р-оссию в качестве равноправного партнера. Б-олее того, подозрения Запада в отношении СССР-во многом перенесены на нынешнюю Р-оссию. Страны Восточной Е-вропы для Запада – «обиженные СССР-». Им помогают, списывают долги. Р-оссия же вынуждена выплачивать не только свои долги, но и долги бывших советских республик. Запад не захотел (или не смог – достаточно вспомнить, во что обошлась для ФР-Г адаптация ее восточных земель к западным стандартам) «потратиться на Р-оссию».
Но дело не только, а возможно, и не столько в ограниченности тех ресурсов, которыми располагает Запад для оказания помощи в проведении реформ посткоммунистическим странам. Многие на Западе уверены, что Р-оссия просто «нику- да не денется». Е-е «поджимает» с юга мусульманский мир, а с Востока – Китай. Мол, в такой ситуации Р-оссия примет ту роль, которую ей отведет Запад. Отсюда нередко снобистское отношение и оценки в адрес Р-оссии, которые ничего, кроме раздражения, не вызывают не только у политической элиты, но и рядовых российских граждан. Р-оссийская элита уверена, что Запад нуждается в ней не меньше, чем она в нем. И дело тут не только в энергоресурсах. Последние события во Франции, когда мусульмане, иммигрировавшие во Францию, устраивали погромы и жгли машины в предместьях Парижа, свидетельствуют, что вызовы со стороны мусульманского мира адресованы и к Западной Е-вропе.
Е-ще один важный фактор, определивший выбор Р-оссией модели своего общественного устройства. Р-асставание с коммунистическим прошлым оказалось болезненным процессом для всех стран бывшего социалистического лагеря. Но масштабы первоначальных потерь и проблем (экономических, социальных, духовных) Р-оссии оказались несравненно больше, чем других стран Восточной Е-вропы. Достаточно назвать уровень падения валового внутреннего продукта (ВВП). Он уменьшился наполовину (для сравнения: за годы Второй мировой войны СССР- потерял лишь четверть своего ВВП). А- поскольку реформы в Р-оссии проводились по рецептам и при участии западных консультантов, по западным моделям и образцам, людьми, которые позиционировали себя как либералы и демократы западноевропейского толка, то скомпрометированными в глазах большинства оказались и либерализм, и западная демократия.
Партии и силы, ориентирующиеся на западные ценности и модели развития («Яблоко», СПС), теряли раз за разом свое влияние в обществе, а на последних выборах в Государственную думу вообще не смогли набрать даже 2-процентный барьер и оказались за стенами парламента.
И последнее. Страны Восточной Е-вропы (даже если бы захотели) не имеют весомых аргументов для споров и возражений Западу. По отдельным вопросам – да, но не более.
Р-оссии же есть что (в случае необходимости) противопоставить Западу.
Прежде всего это сохранившийся мощный ядерно-ракетный потенциал, военно-промышленный комплекс в целом и огромные энергоресурсы.
Оценивая всю совокупность названных факторов и обстоятельств, можно заключить: Р-оссии было гораздо труднее и затратнее расставаться с коммунистическим прошлым, а выбор западной цивилизационной модели в качестве ориентира общественного развития был для нее намного проблематичнее.
Означает ли это, что Р-оссия уже сделала свой, иной выбор? Отнюдь нет. Два аргумента в пользу такой позиции. В одном из своих выступлений в 2006 г. президент В. Путин заявил, что мы до сих пор в основном лишь латали дыры. Настало время для выстраивания стратегической линии. Фактически это означает признание, что сложившаяся при В. Путине модель общественного развития во многом являлась реакцией на неотложные события. Она не настолько «затвердела», что не подлежит коррекции.
Два важнейших обстоятельства будут определять эту коррекцию. Первое – это состояние экономики и всех остальных сфер общественной жизни Р-оссии. Притязания на особую роль, статус великой державы требуют своего материального и духовного подкрепления. Не факт, что после неизбежного падения цен на нефть экономика Р-оссии будет двигаться вперед такими же темпами (тем более что в сравнении с Китаем они не так уж впечатляющи). Далее, чтобы быть самостоятельным центром силы, надо располагать привлекательными образцами, социальными институтами и технологиями решения проблем современного общества.
СССР- долгое время был привлекательным образцом не только для стран третьего мира (поскольку показал, как можно быстро модернизировать страну за счет внутренних резервов, не попадая в зависимость от Запада), но и для определенных групп населения Запада, поскольку создал уникальную систему образования, здравоохранения, предвосхитил многие устои, на которых зиждется социальное государство западного типа. Сегодня Р-оссия не располагает такого рода ноу-хау (социальными технологиями), не может продемонстрировать новые оригинальные способы решения актуальных для современного мира проблем. А- за счет продажи по низким ценам нефти и газа настоящих друзей приобрести невозможно, Это, в частности, и продемонстрировала Украина, резко развернувшись в сторону Запада.
Понимают ли это политическое руководство и политическая элита страны? Думается, да. Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что Р-оссия даже со своим ближайшим союзником – Б-елоруссией хочет торговать газом по рыночным ценам.
Для страны, претендующей на роль самостоятельного центра силы, не менее важна и духовная составляющая. Б-ыть центром притяжения для других стран и народов не только почетно, но и накладно – в смысле, что за это нужно платить тем или иным образом. Готов ли на это идти российский народ? Однозначно нет. По данным нескольких социологических исследований, значительная часть населения Р-оссии считает, что Р-оссия ничего бы не потеряла, если бы сбросила с себя такую «обузу», как северокавказские республики, которые на 70–80% дотируются из федерального бюджета. Ч-то же тут говорить о других государствах!
Итак, констатирую: хотя окончательный выбор Р-оссией еще не сделан (как выразился декан факультета политологии Высшей школы экономики и одновременно председатель Совета по внешней и оборонной политике С. Караганов – «время еще терпит, но поспешать уже надо»), рамки этого выбора заданы. Р-оссия не может (не способна) снова стать ядром, объединяющим большую группу стран.
В прошлом, будучи ядром социалистического блока с населением свыше 300 млн. человек, она могла претендовать на эту роль. Теперь у страны, население которой немногим более 140 млн. и которое к тому же только недавно перестало сокращаться, для этого нет ни времени, ни сил.
Вместе с тем сказанное вовсе не означает, что Р-оссии в дальнейшем уготована роль второразрядного государства. Она была и остается одним из мировых лидеров влияния (о чем убедительно свидетельствуют, в частности, результаты работы над проектом «Политический атлас современности» группы специа- листов МГИМО1). Сегодня у Р-оссии есть возможность выбора из нескольких альтернатив:
она может пойти на дальнейшее сближение с Китаем (определенные шаги в этом направлении делаются. Достаточно сказать о строительстве в Сибири трубопровода для поставки энергоносителей в Китай);
может попытаться «остаться над схваткой» и не вступать в союзнические отношения ни с одним из мировых центров сил – будь это Запад, Китай или исламский мир;
может «повернуться лицом к Западу», Е-вропе, Е-С в первую очередь.
В соответствии с заявленной темой рассмотрим лишь одну из альтернатив – сближение с Западом, точнее с объединенной Е-вропой. Е-стественно, что на этот счет должно быть принято политическое решение и заинтересованность в сближении должна быть обоюдной.
Ч-то в этом случае хочет Е-С от Р-оссии? «Б-рюссель хочет видеть Москву в первую очередь как партнера по ценностям ( выделено авт. ).
Е-сли сказать прямо, то ситуация выглядит следующим образом. С Китаем Е-С готов сотрудничать прагматично, исходя из чисто экономических интересов. От Р-оссии Е-вропа требует высоких демократических показателей. Запад не может жить спокойно, когда на границах Е-вропы существует государство, где наблюдаются тоталитарные тенденции. Поэтому она будет нажимать на Р-оссию, чтобы сделать ее похожей в своем экономическом и политическом развитии на Запад. Только тогда возникнет доверие между Е-С и Р-оссией». Это выдержка из статьи видного немецкого публициста А-лександра Р-ара, опубликованной в «Р-оссийской газете» 2.11.2006 под заголовком «Холодок из Германии».
Итак, проблема ценностей и демократии в Р-оссии – глубина их отличия от западных. Начну с ценностей и буду исходить из того признанного факта, что функционирование современной демократии в равной мере зависит от институтов и качества граждан – их приверженности ценностям демократии.
Несколько лет назад исследовательское агентство Popper Starch World wide провело опрос 1,5 млрд. человек, проживающих в самых разных уголках мира, с целью выявления их базовых ценностных ориентаций. Р-езультаты исследований позволили выделить шесть основных сегментов базовых ценностных ориентаций жителей планеты. «А-льтруистов» – людей, в число первоочередных ценностей которых входят честность, справедливость, защита семьи, – оказалось больше всего в Р-оссии, Казахстане, Турции, Испании, Японии.
«Творцов» – людей, главные ценности которых свобода, самооценка, честность, самосовершенствование, больше всего в США-, Западной Е-вропе, А-встралии.
Таким образом, расхождения в ценностных ориентациях россиян и жителей А-мерики, Западной Е-вропы очевидны. Но не менее очевидно и другое: расхождение в базовых ценностях россиян и жителей стран Запада не является камнем преткновения для сближения сторон. Многие испанцы, представители страны, которая уже стала частью западного мира, по своим базовым ценностям фактически близки россиянам.
Главная проблема, как представляется, все же не в ценностях, а в той роли, которую Запад готов предложить Р-оссии. Эта роль во всех отношениях второстепенная – роль ученика, которому предлагаются рецепты «избавления от варварства». На протяжении веков Р-оссия была для Запада негативным социальным маркером, «азиатской тенью» для демократии западного превосходства. Запад благожелательно относился к Р-оссии только тогда, когда она старалась перенять западную культуру и институты, но не тогда, когда отстаивала свои национальные интересы. Подобное «предложение» неприменимо ни для политической элиты, ни для населения страны. В подтверждение приведем данные вышеупомянутого социологического исследования (таблица2).
Данные приведены в порядке убывания числа ответивших по позиции «да».
Кстати, и для некоторых Восточно-Е-вропейских стран идентификация с Западом и неразрывно связанное с этим вступление в Е-С не выглядят как безусловное благо. На конференции в г. Лодзи (Польша) «Диалог Восток–Запад» (ноябрь 2007 г.) директор Института социологии Б-олгарии Валина Тополова приводила такие данные (таблица 3) .
В- каком направлении, по вашему мнению, должно идти развитие России?
Таблица 2
|
Да |
Скорее да |
Скорее нет |
Нет |
Не знаю |
|
|
Следует искать собственный, особый путь развития России |
47,6 |
24,7 |
5,4 |
6,4 |
15,9 |
|
Следует искать новые пути строительства социализма |
13,7 |
13,2 |
19,4 |
24,5 |
29,2 |
|
Следует развивать капитализм, как в США и Западной Европе |
8,6 |
13,6 |
18,4 |
30,9 |
28,5 |
О-щущаете ли вы себя не только гражданином Болгарии, но и Европы в целом?
Таблица 3
|
1991 г. |
2004 г. |
2007 г. |
|
|
Да, полностью |
16% |
20,2% |
10% |
|
Отчасти |
29,7% |
38,5% |
34,6% |
В то же время в Польше 70% населения согласно данным социологов поддерживают вступление страны в Е-С и в той или иной мере считают себя европейцами.
Общий вывод: идентификация Р-оссии на основе европейских ценностей и норм, европейский выбор Р-оссии представляются на сегодня проблематичным, что, конечно, не закрывает этот путь развития.
В современном взаимосвязанном мире выбор значимого «другого», а значит, и внешней политики во многом предопределяет и внутреннюю политику, «воображаемое политическое сообщество», коллективное «мы», то есть первый клас-тор представлений, лежащих в человеке политической идентификации.
Мнение западных и российских аналитиков на этот счет во многом совпадает.
Приведу вначале выдержки доклада аналитиков США- «Mapping the global furure. Global trends 2000 (December, 2004, p.7)»:
…Описанные социальные и политические факторы ограничат возможности Р-оссии занимать важную позицию в мире, Москва скорее всего будет важным партнером как для «старых» крупных игроков (США- и Е-вропа), так и для новых (Китай и Индия)1…
«Промежуточное» географическое положение Р-оссии в Е-вразии и переходный характер ее политических и экономических институтов могут способствовать маневрированию между различными крупными глобальными силами (как «старыми» – США-, Е-С, так и «новыми» – Китай, Индия). С другой стороны – демографические и геополитические факторы заставят Р-оссию также искать союзников то на Западе, то в исламском мире…
Во многом идентична точка зрения известного российского специалиста, изложенная в статье «Р-оссия. Е-вропа. А-зия» («Р-оссийская газета», 14 октября 2007 г). Суть его позиции такова: Р-оссия может и вынуждена будет в силу объективных обстоятельств играть в ближайшие годы роль самостоятельного геополитического игрока, экономически дрейфуя в сторону А-зии. Е-сть даже аргументы в пользу подстегивания этого дрейфа.
Но по дороге мы можем потерять магнетизм социальной и экономической модернизации, по-прежнему исходящий из ослабевшей Е-вропы. Отвернуться от Е-вропы означает уйти от наследия Петра, Пушкина и Толстого. Многое ли останется тогда от российской идентичности?
Кратчайший путь к Е-вропе – усиление связей Р-оссии с А-зией. Во-первых, это выгодно. Во-вторых, у европейских сто- лиц не должно оставаться иллюзий, что у Р-оссии нет выбора.
Ну а самый надежный и короткий путь – хоть в Е-вропу, хоть в новую А-зию – воспитание и обучение, скорейший привод к власти нового поколения россиян – более прагматичных, образованных, более конкурентоспособных, чем нынешние элиты, которые по-прежнему ведут споры о выборе давно минувших дней.
Подведем итоги.
Первое. Общий вектор политической идентификации Р-оссии определен и в обозримом будущем останется скорее всего неизменным – развитие Р-оссии как самобытный цивилизации.
Повторную публикацию 2 февраля с.г. (уже после завершения декабрьских выборов 2007 г. в Государственную думу) в «Р-оссийской газете» программы доминирующей партии «Е-диная Р-оссия», где зафиксирован этот исходный принцип, вполне можно рассматривать не иначе, как наказ будущего президента. Эта позиция поддержана большинством населения страны. В добавление к выше сказанному по этому поводу приведу высказывания в одном из интервью для печати директора Института социологии Р-А-Н Михаила Горшкова: «Е-сли несколько лет назад, отвечая на вопрос, кто вы, наши респонденты чаще всего называли себя представителями той или иной национальности, жителями некоего города или местности, то за последние 2–3 года на первое место вышел ответ: «Я – россиянин!». Таких стало в два раза больше. Это серьезная предпосылка для консолидации российской нации, первого шага к формированию гражданской нации.
Второе. Данная политическая идентификация страны предполагает не кон- фронтацию (как это было во времена СССР-), а сотрудничество с Е-вропой, Западом. Б-олее того, события последних дней и в частности некоторая поддержка (пусть и в не явной форме) на выборах в Сербии прозападного кандидата Б-. Стадича свидетельствуют о готовности Р-оссии идти на большее сближение с Западом.
Третье. Для того чтобы претендовать на роль самобытной цивилизации, мало иметь тысячелетнюю историю. Надо стать еще успешной страной. Тогда не надо будет обижаться на нотации по поводу демократии (или чего-либо другого), которые читает Запад Р-оссии. Китаю сейчас никто нотации не читает. С ним считаются все и вся.
Четвертое. Ч-ерез 5–7 лет в активную жизнь вступит совершенно новое поколение, ни одного дня не жившее ни при социализме, ни в СССР-. И каков будет политический выбор этого поколения, не возьмется предсказать никто.
И последнее, пятое. Не в интересах Е-вропы полное «растворение Р-оссии» в европейской идентичности. Е-сли бы в 40-х годах прошлого столетия тогдашний СССР- бы во всем похож на остальную Е-вропу, он так же «лег» бы под Гитлера, как Франция и многие другие европейские страны. На будущее: как говорит русская пословица «От сумы и тюрьмы не зарекайся».
В Б-иблии есть два взаимоисключающих выражения: «Кто не с нами – тот против нас. И кто не против нас – тот с нами». Пора одно из них забыть. И вместе «с нами» искать пути решения многочисленных проблем, которых достаточно не только в Р-оссии, но и пока в целом благополучной Е-вропе.