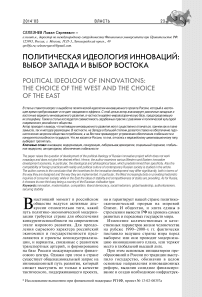Политическая идеология инноваций: выбор Запада и выбор Востока
Автор: Селезнев Павел Сергеевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Обустройство России: вызовы и риски
Статья в выпуске: 3, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье ставится вопрос о выработке политической идеологии инновационного проекта России, который в настоящее время пробуксовывает и не дает ожидаемого эффекта. С этой целью автор анализирует различные западные и восточные варианты инновационного развития, в частности идейно-мировоззренческую базу, предопределившую их специфику. Также в статье исследуется совместимость зарубежных практик с реалиями и политической культурой современного российского общества. Автор приходит к выводу, что мотивации инновационного развития могут существенно отличаться, причем как в плане замысла, так и методов реализации. В частности, на Западе в большей степени делается ставка на обеспечение гедонистических запросов общества потребления, а на Востоке превалируют устремления обеспечения стабильности и конкурентоспособности государств. Что же касается России, то она, относясь к евразийскому цивилизационному типу, выбирает третий путь.
Инновации, модернизация, конкуренция, либеральная демократия, социальный гедонизм, глобальное лидерство, авторитаризм, обеспечение стабильности
Короткий адрес: https://sciup.org/170167389
IDR: 170167389
Текст научной статьи Политическая идеология инноваций: выбор Запада и выбор Востока
Внастоящий момент в российском обществе ведутся активные дискуссии относительно того, какой путь политико-экономической модернизации требуется стране для обеспечения конкурентоспособности на современном этапе мирового развития. Для преодоления сырьевого характера российской экономики и государственности предлагаются и проекты неоиндустриализации, и варианты, связанные с развитием транспортных артерий, и формирование на базе России международного финансового центра. Однако при этом в стране существует общенациональный запрос на инновационный путь развития, который сможет выступить не только в качестве тактического, поддерживающего проекта, но и гарантирует нашей стране политикоэкономический прорыв на мировой Олимп. И общество, и элита едины в стремлении вывести РФ на уровень самых развитых и передовых государств мира.
Изменение количественных и качественных параметров жизни человечества на рубеже 1990–2000-х гг. фактически поставило ведущие страны мира перед выбором: или они проводят модернизацию инновационного плана, или теряют место в глобальной высшей лиге.
При этом основным инициатором преобразований в России по традиции выступило государство, обозначив в целом основные направления инновационных реформ, выделив солидное финансирование и создав необходимую инфраструк-
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 13-02-00357а
туру (ОЭЗ, госкорпорации, технопарки, бизнес-инкубаторы, Агентство стратегических инициатив и пр.). Процесс инновационного развития страны в пилотном режиме был запущен еще в 2005 г., когда появилась первая госкорпорация – Агентство по страхованию вкладов, а с 2008 г. он приобрел статус едва ли не национальной идеи. Так, например, в рамках своей президентской предвыборной кампании Д.А. Медведев обозначил политику «четырех И», одной из которых и значились инновации1.
Однако инновационный механизм пока так и не заработал2. Конечно, для этого есть весьма веские объективные и субъективные причины. В значительной мере такого рода трудности связаны с выбором идеологии и политических ориентиров российского варианта инновационного развития. А именно они чаще всего определяют специфику национальной модели инновационной модернизации. Для того чтобы определиться с инновационной идеологией, важно проанализировать мировой опыт аналогичных реформаторских проектов, отметив, с одной стороны, их сильные и слабые стороны, а с другой – оценив адаптивность к отечественным политическим и социальноэкономическим реалиям.
Инновационная модель стран
Запада (США и Европы): политические и экономические смыслы
Заявка на реализацию инновационного проекта является, прежде всего, политическим выбором руководства тех стран, которые стремятся принять реальное участие в международной конкуренции, обозначить амбиции регионального или глобального лидерства. Долгое время считалось, что монополией на прогресс и интенсивный путь развития обладают лишь те страны, которые придерживаются «правильного», либерально-демократического курса в политике и рыночных приоритетов в экономике.
Концепт прогресса и опережающего развития заложен в самих основах западной цивилизации. Политическая культура ведущих стран Запада изначально исходила из постулирования необходимости обеспечения наиболее комфортного существования человека в земной жизни даже в те времена, когда в мире господствовала религиозная парадигма, а церковь являлась мощной политической силой.
Такого рода подход во многом лег в основу многолетней политики Запада по обеспечению опережающего характера развития и достижения глобального лидерства. Более того, из подобного мироощущения вытекает и концепция прогрессивной, цивилизаторской миссии Запада в его взаимоотношениях с внешней средой, иными цивилизационными мирами. При этом признается только линейная версия исторического прогресса, базирующаяся, прежде всего, на идеях передового политического, экономического и технологического развития. Соответственно, все остальные основания прогрессивности (духовные, культурные и пр.) либо выносятся за скобки и считаются вторичными, либо отвергаются в принципе. Соответственно, за незападными странами и народами признается лишь право на догоняющее развитие, причем по пути, проторенному ведущими странами Запада, и лишь по уже утвержденным последним лекалам. Первоначальный экономический снобизм Запада стал постепенно дополняться также идеями политического прогресса, и здесь опять же он претендовал на глобальное лидерство и статус законодателя мод. Все остальные варианты политического развития признавались девиантными и неистинными.
Тем не менее начало XXI в. поставило под сомнение такие выводы.
Во-первых, выяснилось, что либерально-демократический путь развития не является универсальным и таит в себе существенные риски, особенно для незападных стран-реципиентов.
Во-вторых, глобальный финансовоэкономический кризис 2008–2010 гг. поставил под сомнение и универсальность либеральных рыночных основ современного Запада, и базовые принципы капитализма (такие, как конкуренция, свободный рынок, невмешательство государства в экономику и пр.). Более того, не исключено, что мы стоим перед лицом начала нового этапа кризиса западной экономической модели, вплоть до начала новой Великой депрессии3, что с еще большей остротой ставит вопрос о поиске адекватной замены устаревшим догмам Запада.
В то же время утрата однозначного лидерства в мире ставит под сомнение основы всей западной цивилизации и ведет к резкому обострению противоречий в США и Евросоюзе, особенно с учетом того, что во многом именно стратегия прогресса позволяет поддерживать стабильность в данных субъектах и обеспечивать консолидацию общества вокруг власти.
Так, для населения Соединенных Штатов принципиальным является глобальное политическое, военное и экономическое лидерство своей страны. В теории данные настроения были отражены в 1990-х гг. известным американским политологом, бывшим исполнительным директором (с 1985 по 1991 г.) Ассоциации за объединение демократий А. Страусом в его концепции униполярности [Страус 1997: 78-91]. Он считает: «Со времени распада советского полюса биполярного мира международная система является униполярной. Налицо фактически существующий “униполь”. Он состоит из демократических индустриальных стран, которые обладают превосходящим весом в глобальной системе. Соединенные Штаты, в свою очередь, являются ведущей державой внутри униполя» [Страус 1997: 78].
В настоящий момент в США государственная поддержка работ технологической направленности подчинена задаче обеспечения международной конкурентоспособности на рынке технологий. Малому и среднему инновационному бизнесу особое внимание не уделяется, а основные инструменты научно-технической политики сводятся к следующему. Это:
-
1) государственная экспертиза инновационных проектов с целью оценки возможных эффектов в общеэкономическом масштабе;
-
2) активное участие государства в финансировании крупномасштабных проектов (300–500 млн долл. США) вплоть до полного государственного финансирования наиболее эффективных и наукоемких исследований;
-
3) стимулирование создания венчурных фондов путем частичного или полного финансирования в течение первых лет наиболее эффективных исследовательских центров и венчурных фирм;
-
4) усиление антимонопольных мер по
отношению к фирмам, препятствующим конкуренции в наукоемких отраслях.
Европейский инновационный проект при всех национальных особенностях его реализации в разных странах имеет одну общую составляющую. Инновации здесь служат, прежде всего, для сглаживания политических и социальных противоречий, а также для обеспечения эффективного контроля над обществом со стороны власти через косвенные механизмы (в частности, через реализацию социально ориентированного курса). Более того, инновационное развитие является в настоящий момент главным гарантом процветания общества потребления, сложившегося в ведущих государствах ЕС. Лишь оно позволяет рассчитывать на то, что постоянно растущие потребности и запросы граждан получат необходимую подпитку и адекватное выражение. Таким образом, без инновационного рывка оказалась бы под вопросом политическая стабильность в европейских странах, общество оказалось бы в ситуации раскола и постоянных конфликтов, а власть потеряла бы рычаги воздействия на политическую и экономическую ситуацию. Отсюда проистекает повышенное внимание к реализации инновационной стратегии в базовых странах ЕС.
В странах Западной Европы и других развитых государствах, несмотря на существующие проблемы, научно-технический прогресс, учитывающий множество факторов, привел к возникновению постиндустриального общества, характерными чертами которого являются: соблюдение законов, открытость экономики, соблюдение экологических норм, высокий уровень информатизации общества, перманентное повышение качества жизни и стремление к здоровому образу жизни, защита интересов каждого человека, гражданская солидарность личности. При этом развитие науки также ставится в ряд основных ценностей в масштабе всей страны [Проблемы и перспективы... 2007: 59].
В отличие от США и других стран, территориально обособленных от прочих государств (Великобритании, Японии), страны Европейского союза примыкают друг к другу и изначально вынуждены тесно сотрудничать. Кроме того, они отличаются небольшими размерами занимаемых территорий, незначительными сырьевыми ресурсами и ограниченными бюджетами, не позволяющими осуществлять крупномасштабные проекты за государственный счет. Все это заставило правительства двигаться по пути максимальной оптимизации научно-технического потенциала и укрепления взаимовыгодного сотрудничества с соседями. И хотя страны ставят перед собой различные цели (например, для Франции приоритетным является создание дополнительных рабочих мест, а для Германии – развитие прогрессивных технологий), методы инновационной политики весьма схожи, а эффективность их применения, по оценкам европейских экспертов, примерно одинакова.
Современные незападные инновационные практики: синтез универсального и национального
Последние десятилетия поставили под вопрос либеральную трактовку понятия инновационности и механизмов ее обеспечения. Помимо уже указанных выше кризисных явлений, все активнее становятся претензии (причем подкрепленные соответствующими инновационными достижениями) стран третьего мира на участие в «прогрессивной» повестке дня современности. Причем это касается тех государств, которые совсем недавно уверенно принадлежали к мировой периферии и даже гипотетически не рассматривались в качестве конкурентов глобальных лидеров – США и Европы. И хотя их выбор в пользу инновационности развития является преимущественно политическим, однако их мотивации могут существенно разниться.
Так, некоторым из неофитов переход на инновационные рельсы представляется единственным шансом опередить в ужесточившейся международной конкуренции своих статусных оппонентов. Характерным примером является Китай , который в конце ХХ в. совершил инновационный рывок и в настоящий момент по военно-политической и экономической мощи уже опередил Евросоюз и наступает на пятки Соединенным Штатам1.
Хотя КНР не скрывает своих претензий на глобальное лидерство и ведет активную работу по продвижению своих национальных интересов практически во всех регионах мира, инновационный проект дает Пекину возможность не просто наращивать международный вес и ресурсный потенциал, но и самым позитивным образом презентировать незападным странам привлекательность модели достижения успеха на основе сохранения традиций, причем без кардинальной ломки сложившейся политической и экономической системы.
Немаловажным являлся и вопрос о стратегии и идеологии инновационного развития КНР. В результате долгих дискуссий китайской элите удалось достичь консенсуса относительно руководящего курса, с одной стороны, позволяющего проводить реформы, с другой – сохраняющего незыблемость базовых основ государства и общества. Так появилась концепция нового авторитаризма, или неоавторитаризма (синьцюаньвэйчжуи). Главный смысл ее заключался в том, что рыночные отношения в экономике и политическая демократия должны вызревать в стране постепенно, под кураторством сильной и жесткой власти, ориентированной на реализацию модернизационного пути. Сторонники такого подхода настаивали на том, что новый авторитаризм принципиально отличается от прежнего. Старый авторитаризм, с их точки зрения, – это режим, функционирующий в рамках замкнутых циклов, где сильная власть постепенно подрывается и взламывается растущими противоречиями в экономике и обществе, за которыми следуют беспорядки и хаос, подавляемые, в свою очередь, новой сильной властью, и т.д. А неоавторитаризм ставит своей целью не сохранение статус кво, а динамичное развитие общества.
Еще одна мотивация инновационности связана со стремлением ряда стран обеспечить внутреннюю социальнополитическую стабильность, прежде всего за счет преодоления хронической нищеты большинства населения. В частности, это касается Бразилии, Индии и Малайзии , где инновационные проекты в основном имеют социальную направленность, хотя это не исключает также их одновременных претензий на достижение регионального лидерства и участия в глобальных альянсах, альтернативных Западу (БРИКС).
Для некоторых стран инновационная модернизация становится ныне залогом выживания и успеха в региональной кон- курентной среде. Например, это касается Южной Кореи и Сингапура. По мнению ряда аналитиков, в XXI в. основным законодателем политической и социальноэкономической моды постепенно станет АТР. Но уже сейчас в данном регионе ведутся ожесточенные конкурентные войны. И в этих условиях самоутвердиться и, более того, одержать верх над противниками может позволить только инновационный скачок. В полной мере это продемонстрировал Сингапур, где форсированная модернизация позволила резко повысить статус страны и обеспечить ей весомые экономические и политические позиции в АТР. Что же касается Южной Кореи, то здесь фактор региональной конкуренции дополняется проблемой конкуренции политических систем. С 1953 г. Республика Корея находится в состоянии «холодной войны» с КНДР, и ее руководству для мобилизации поддержки населения требуется регулярно демонстрировать достижения и обеспечивать перманентное повышение жизненного уровня своих граждан.
Особо стоит подчеркнуть, что указанные выше модели незападной инновационной модернизации в своем большинстве реализуются в рамках либо недемократических (авторитарных), либо ограниченно демократических политических режимов. При этом в качестве двигателя прогресса чаще всего здесь выступает не частный бизнес, как в западных странах, а государственная власть, которая является как заказчиком, так и контролером подобных реформаций. Особенно это касается КНР, Сингапура и Южной Кореи, в меньшей степени – Индии и Бразилии.
Одновременно привлекательным моментом инновационной альтернативы с точки зрения населения и руководства указанных государств является то обстоятельство, что модернизация здесь не предполагает отказ от национальных традиций и подгонки под западные «стандарты качества». А как показывает практика, жесткое следование американским и европейским приоритетам далеко не всегда обеспечивает странам «отраженной модернизации» политические и социально-экономические прорывы (единственным исключением из данного правила является разве что Япония, хотя и здесь весьма существенно влияние национального характера). Более того, такая зависимость от иностранного влияния зачастую ставит адаптируемые страны в подчиненное положение по отношению к «кураторам» и практически исключает возможность выбора ими самостоятельного пути развития.
Что же касается России , то, судя по всему, ее путь – срединный. С одной стороны, руководство РФ при реализации инновационной модели ориентировано на европейский и американский опыт с их ставкой на высокие технологии и креативный класс, с другой – в условиях инновационного торможения вполне востребованными являются директивные, а иногда и авторитарные методы проведения в жизнь соответствующих реформ. Цель же инновационного обновления России совпадает с целями таких разных стран, как США и КНР, – борьба за глобальное лидерство. При этом, сделав ставку на инновационное обновление, российская элита стремится быть привлекательной, прежде всего, для государств постсоветского пространства с целью их дальнейшей политико-экономической консолидации под своей эгидой.