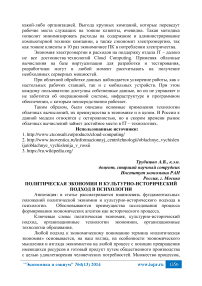Политическая экономия и культурно-исторический подход в психологии
Автор: Трубицын А.В.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Статья в выпуске: 4-4 (13), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается взаимосвязь фундаментальных положений политической экономии и культурно-исторического подхода в психологии. Обосновываются преимущества исследования процесса формирования экономических агентов как исторического процесса.
Политическая экономия, культурно-исторический подход, организационные технологии экономики, организационные технологии образования
Короткий адрес: https://sciup.org/140109934
IDR: 140109934
Текст научной статьи Политическая экономия и культурно-исторический подход в психологии
Любой подход к экономическому пониманию термина «политическая экономия» основывается, на наш взгляд, на особенности экономического мышления и взгляда экономистов на любой процесс с позиции превращения имеющихся ресурсов в готовый продукт путем общественного производства с целью удовлетворения человеческих потребностей. Множество процессов, в том числе и не имеющих прямого отношения к экономике, может быть осмыслено подобным «экономическим» образом. Об этой особенности мышления экономистов мы постараемся не забывать в ходе дальнейших рассуждений.
Термин «политическая экономия» используется в различных областях человеческих знаний: в междисциплинарных исследованиях, связанных с взаимным влиянием политической и экономической среды; историками при изучении использования различными группами с общими экономическими интересами политики в своих интересах в разные исторические периоды; антропологи пользуются этим термином при изучении связей между глобальной капиталистической системой и локальными культурами стран, которые мы раньше называли развивающимися и т. д. Однако, чаще всего, особенно в нашей стране, этот термин используется или как синоним общей экономической теории, или для обозначения науки, изучающей общественные отношения, складывающиеся в циклическом процессе производства, распределения, обмена и потребления материальных благ, и экономические законы, управляющие их развитием в исторически сменяющих друг друга общественно-экономических формациях.
Кроме того, политическая экономия расширяет этот подход за счет представления общественного экономического развития в виде спирали путем наложения на этот цикл стрелы поступательного развития общества (которая может быть представлена, например, в виде смены общественноэкономических формаций, формирования наций, эволюции городов, создания социальных и информационных сетей, развития религиозных, половых или расовых отношений, эволюции отношений с природой и т. д.). Стоит добавить, что каждый из этапов политэкономического цикла может быть представлен в виде преобразования ресурсов в продукт, например, в случае обмена участники его преобразуют различные свои ресурсы в процессе обмена в продукт, необходимый им для производственного или личного потребления; а в случае формирования потребностей осуществляется преобразование собственно потребностей и условий их формирования в цели деятельности.
В таком случае особое место в политической экономии занимает проблема принятия решений, то есть сознательного формирования процесса преобразования ресурса в продукт. Причем политэкономический интерес вызывают как групповые, так и индивидуальные решения, но лишь в той степени, в какой эти решения являются или становятся социальными – с точки зрения социальных факторов формирования целей, учета общественной значимости ресурсов и результатов производственной деятельности, включенности в общественное производство, планирования сотрудничества, анализа среды экономической деятельности индивидуальных и групповых субъектов и т. д.
Иначе говоря, политическая экономия исходит из того, что в основе сформировавшихся экономических отношений, как и в основе формирования экономических агентов лежит историческое развитие.
Подходом, связавшим развитие человеческой психики с историческим развитием, стал культурно-исторический подход, начало которому заложил Л. С. Выготский. Изучение этого подхода, на котором – и прежде всего на нем – основывалось развитие социальной психологии в нашей стране (и не только в ней), позволяет глубже понять исторические связи между политэкономией и социальной психологией и, в частности, роль обучения как в психологическом, так и в экономическом развитии.
Л. С. Выготский и психологи его школы в своих работах теоретически и экспериментально показывают, что высшие психические функции являются социальными по своему происхождению. «Всякая психическая функция была внешней потому, что она была социальной раньше, чем стала внутренней, собственно психической функцией; она была прежде социальным отношением двух людей» [1, с. 145]. Высшие психические функции есть исторические образования. Они складываются на основе элементарных, опосредуемых знаками (словами) в процессе инториоризации. Их формирование может рассматриваться филогенетически и онтогенетически. «Всякая функция в культурном развитии… появляется на сцену дважды, в двух планах, сперва – социальном, потом – психологическом, сперва между людьми, как категория интерпсихическая, затем… как категория интрапсихическая» [1, с. 197-198]. При этом детерминантами психического развития человека выступает трудовая, орудийная деятельность человека.
Следуя идее общественно-исторической природы психики, Выготский совершает переход к трактовке социальной среды не как «фактора», а как «источника» развития личности. В развитии человека, замечает он, существует как бы две переплетенных линии. Первая следует путем естественного созревания. Вторая состоит в овладении культурными способами поведения и мышления. Овладение человеком связью между знаком и значением, использование речи в применении орудий знаменует возникновение новых психологических функций, систем, лежащих в основе высших психических процессов, которые принципиально отличают поведение человека от поведения животного.
Исходным положением культурно-исторического подхода является положение о том, что главная закономерность прижизненного развития психики состоит в интериоризации (присвоении) человеком структуры его внешней, социально-символической (то есть совместной с другими и опосредствованной знаками) деятельности. В итоге прежняя структура психических функций как данных от природы изменяется – опосредствуется знаками, психические функции становятся «культурными». Внешне это проявляется в том, что они приобретают осознанность и произвольность. Тем самым интериоризация выступает и как социализация. В ходе интериоризации структура внешней деятельности трансформируется и «сворачивается», с тем чтобы вновь трансформироваться и «развернуться» в процессе экстериоризации, когда на основе психической функции строится «внешняя» социальная деятельность. (См. Выготский Л. С.. История развития высших психических функций ).
Выдвижение принципа «внешнее через внутреннее» в культурноисторической теории расширяет понимание ведущей роли субъекта в различных видах активности – прежде всего в ходе обучения и самообучения. Процесс обучения трактуется как коллективная деятельность, а развитие внутренних индивидуальных свойств личности имеет ближайшим источником ее сотрудничество (в самом широком смысле) с другими людьми.
В воззрениях Выготского личность есть понятие социальное, в нем представлено надприродное, историческое в человеке. Оно не охватывает все признаки индивидуальности, но ставит знак равенства между личностью человека и его культурным развитием. Личность не врожденна, но возникает в результате культурного развития.
Максимально социальным существом является младенец, чьи потребности могут удовлетворяться только через других людей и с помощью других людей. Только в процессе общения и взаимодействия людей, т. е в социальном изначально процессе постепенно формируется индивидуальная личность, в экономике часто просто игнорируют этот факт социальности человека.
К сожалению, становление экономической деятельности как деятельности индивидуальной личности в процессе онтогенеза вообще по сути дела остается неисследованным, и тем более не рассмотренным в плане историческом. Вот и получается, что до сих пор в экономике продолжают действовать внеисторические асоциальные личности.
Изучая экономическое поведение, экономисты - порой с большим удивлением - обнаруживают, что эти личности не всегда действуют оптимальным путем, и не всегда с одинаковой мотивацией. Экономическая деятельность отдельных индивидуумов часто формируется методом проб и ошибок, на обыденном, а не на научном уровне. Вряд ли кто-нибудь удивился, если не обученный математике человек не самым оптимальным «рациональным» образом стал бы решать математические задачи. Так зачем же приписывать человеку в экономике изначальное умение максимизировать?
Наивно допускать, что предприниматель (потребитель или другой экономический агент) уже умеет вести себя на рынке – и это относится к любому предпринимателю, с любым опытом и с любой степенью успешности. Он постепенно учится, переходя (впрочем и это не обязательно) от незнания к частичному знанию. Не стоит простодушно полагать, что он умеет ставить соответствующие ситуации (например, на рынке) цели, что он умеет оценивать варианты и находить лучший (или просто удовлетворительный) вариант. Он, если обучается, постепенно улучшает свое умение находить более хорошие варианты.
Основой успешной, результативной работы предприятий всегда являлись организационные технологии экономики, которые чем дальше тем больше срастаются с организационными технологиями образования.
Связь между организационными технологиями экономики и организационными технологиями образования явно просматривается еще в период становления индустриальной эпохи, можно сказать, что организационные формы промышленных объектов не просто повлияли на основные организационные формы образования, но определили и определяют их до сего времени.
Идеалом науки машинного капитализма стала механическая модель окружающего мира, созданная Ньютоном. Мир предстал машиной, созданной богом , а человек был встроен в эту машину как ее деталь. Идеалы физической науки были подхвачены учеными-экономистами, видевших, подобно А. Смиту, в построениях Ньютона совершенную модель мира, что рождало стремление описать общество как цельную машину или как фабричный механизм.
Вполне логичным стало и то, что педагоги эпохи фабрик заимствовали свои идеи у создателей “машинной” науки и этих самых фабрик. В обучении начали видеть похожее на конвейерное движение, от стадии к стадии преобразующее сырой ресурс (необученных учеников) в готовый продукт (выпускников образовательных учреждений). На всех этапах за процессом производства наблюдают отвечающие за него надзирающие учителя, готовящие группы учеников к тестированию (экзаменам).
Такой подход многократно увеличивал объемы образовательного продукта, устанавливал его единообразие, нормировал процесс образования, положив в основу догму о том, что все должны учиться одинаково (стандарты конвейерного подхода к процессу изготовления продукта). Тем самым система отбраковывала или пыталась загнать в рамки норм как отстающих, так и “излишне” сообразительных, сбивавших работу конвейера. Ученик стал пассивным предметом для обучения и продуктом учебы, а учитель – контролером, следящим за соблюдением правил. Место ответственности и самоответственности обучающегося прочно заняла дисциплина соблюдения этих правил и стремление получить одобрение учителя вместо реальной оценки своих способностей и результатов.
Эволюция культуры образования привела в последние десятилетия к тому, что специалисты по системным подходам в образовании предложили модель школы, альтернативную машинной. Они поставили в центр проблемы представления о живых системах в отличие от механизмов (см., например, работы К. Роджерса [2] или П. Сенге [3]):
-
- в учебе центральной фигурой должен быть ученик, а не на
учитель;
-
- всячески поощряется многообразие идей и методов обучения, разнообразие предлагаемых учениками вариантов постановки проблем и их решений;
-
- важнее понимание и умение самостоятельно мыслить, чем запоминание фактов и правильные ответы;
-
- обучение должно фокусироваться на жизни человека, а не на аудиторных занятиях.
Наверняка стоит вспомнить здесь о том что сходные принципы обучения формулировались в теории и успешно реализовывались на практике еще в двадцатые годы двадцатого века выдающимся советским педагогом Антоном Семеновичем Макаренко (трудившимся в ту же эпоху, что и Лев Семенович Выготский).
Изменений в образовании потребовала и меняющаяся картина представлений о перспективах обучающегося человека. Демографические процессы, глобализация, общие изменения культурного климата ведут к переменам в представлениях об успехе человека в современном мире (особенно явно они ощущаются в сфере менеджмента, успешно сплетающем достижения экономической науки и психологии), а, соответственно, и к смене отношения к образовательным ценностям.
. Культурно-историческое многообразие народов и растущая включенность всех стран в планетарные отношения все больше требуют от специалистов и менеджеров глубокого понимания этнических и религиозных особенностей, семейных ценностей и национальных субкультурных процессов. Успех человека в работе все меньше воспринимается как традиционное карьерное восхождение по лестнице иерархии и все больше связывается с широтой и разнообразием международных связей индивида, его включенностью в организационную планетарную сеть – паутину (речь, конечно, не просто об Интернете).
Все более вероятным выглядит перемещение рыночных отношений как важнейшей движущей силы развития современной структуры образования из сферы конкуренции в сферу сотрудничества с выяснением общих интересов, постановкой общих целей; все более необходимым становится переход от эпохи давления и компромисса к эпохе совместного решения общих проблем.
Список литературы Политическая экономия и культурно-исторический подход в психологии
- Выготский Л.С. Собрание сочинений, т.3. -М.: Педагогика,1981.
- Роджерс К., Фрейберг Д. Свобода учиться. -М.: Смысл, 2002.
- Сенге П. -М.: Олимп-Бизнес, 2009.