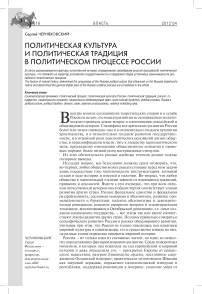Политическая культура и политическая традиция в политическом процессе России
Автор: Черняховский Сергей Феликсович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Обустройство России: вызовы и риски
Статья в выпуске: 4, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются факторы естественной истории, определившие своеобразие русской (российской) политической культуры, что повлияло на характер российской государственности и определило общие устойчивые закономерности российского политического процесса.
Социокультурная динамика, политический процесс, политическая культура России, политическая традиция, раскол, государство, национальное сознание, национально-мобилизующая идея
Короткий адрес: https://sciup.org/170166330
IDR: 170166330
Текст научной статьи Политическая культура и политическая традиция в политическом процессе России
В
центре многих сегодняшних теоретических споров и о судьбе России в целом, и о модели развития ее сегодняшнего полити-ческого процесса лежит вопрос о соотношении российской и общемировой истории. Специфика исторического развития России более или менее очевидна: она и в относительно позднем принятии христианства, и в относительно позднем развитии государствен -ности, и в огромной роли идеологических оснований жизни обще ства, в персонификации власти, тяге к лидерству харизматического типа, прохладному отношению общественного сознания к право -вым нормам, более низкой роли материальных стимулов.
Из этих обстоятельств разные идейные течения делают подчас полярные выводы.
Исследуя вопрос, мы безусловно должны сразу оговорить, что, во первых, любое общество может решать стоящие перед ним задачи лишь посредством того политического инструментария, который создан в ходе истории и имеется в наличии. Во - вторых, что любое общество в значительной степени зависит от имеющихся традиций, привычек и ценностей. Вместе с тем очевидно, что при всем отли чии отечественной истории она в общих чертах соответствует этапам развития других стран. Раннее феодальное единство и феодальная раздробленность, сословная монархия и абсолютизм, развитие про мышленности и буржуазии, падение абсолютизма и демократи ческая революция, решение аграрного вопроса и эгалитаристская тенденция, воплотившаяся в Октябрьской революции, т.е. опыт соз-дания социального государства, — все этапы так или иначе соответ -ствуют этапам развития других стран. Поэтому правильно говорить о специфическом развитии России в рамках общемирового развития, учитывая при этом, что Россия не только находилась под влиянием мировой культуры и цивилизации, но и существенно влияла на них, на разных этапах определяя повороты мировой истории.
ЧЕРНЯХОВСКИЙ Сергей
Россия — не только одна из составных частей, но один из немно-гих определяющих факторов мирового развития. Среди поворотных моментов, в которых она повлияла на ход европейской и мировой истории и даже определила его, — прикрытие Европы от ордын-ского нашествия, разгром Ливонского ордена, постоянное сдер-живание Османской империи, практическое уничтожение Швеции как мировой державы, поражение наполеоновской империи и республики, поддержка революции в Америке, спасение мира от фашизма, создание первой в мире плановой экономики, в значительной степени перенятой наиболее передовыми запад -ными странами, ее определяющая роль в развитии мировой науки и искусства. И это только некоторые из примеров.
Среди факторов, определивших свое -образие развития России, можно выде-лить такие, как, например, пульсирующий ритм жизни древних славян, у которых паузы земледельческих оседлых перио дов чередовались с походным ритмом, когда они вырывались за собственные границы и в географическом, и в смысло-вом планах. Эта двойственность опреде-лила отсутствие склонности к постоянно размеренному развитию; отсюда — чере-дование периодов опережения остального мира и отставания от него.
Кроме того, формирование русской нации происходило не путем выделения этнически культурного начала из общеци вилизационного поля единой религии, что имело место во многих иных странах, осо бенно в Западной Европе, а путем объеди-нения разнородного этнического начала цивилизационным смысловым полем православной религии. Религиозная идея последовательно выступает как интегри рующее старорусскую народность начало, как мобилизующий момент противостоя ния агрессии, как фактор преодоления феодальной раздробленности. Причем она постоянно носила не столько мисти ческий, сколько вполне рациональный, хотя и этически окрашенный характер.
Объективное наблюдение показывает, что в России рациональная идея высту пает в форме религиозной, но сама рели гия во многом утрачивает характер отре шенности от мира, сливается с язычески непосредственным славянским миро ощущением, схожим с мироощущением античности. Она развивается во многом опережающими темпами по сравнению с развитием нации и государства, которые как бы приобретают облик вторичного, производного от нее.
При анализе обстоятельств, повлиявших на ход российской истории, можно гово рить о роли отсутствия жестких границ, подвергающихся постоянному фиксиро ванию географическим или иногосудар ственным факторами. Это вело к отсут ствию постоянного ощущения границы с миром, порождая поиск осмысленно сти, поиск собственного впечатывания в окружающий мир, а стало быть — как бы постоянный поиск высшей истины, поиск особой предназначенности, поиск истины, возможно, скрытой от остального мира, который находит свое воплощение сначала в «единственном в мире право -славном государстве», а затем — в «един-ственном в мире государстве рабочих и крестьян».
Мы можем отметить такое последствие данных обстоятельств, что вся духовная традиция России может быть рассмотрена в качестве некого постоянного проти воборства состояния «найденной истины» и состояния «поиска истины». В резуль -тате общество постоянно оказывалось в преддверии или в состоянии раскола, при чем делилось не на активную и пассивную части, а на активную часть, обращающу юся к поиску, и активную часть, отстаи вающую найденное.
Состояние найденной истины подает восприятие достигнутого как конеч ного, что блокирует многие естествен ные эволюционные механизмы и приво дит к отставанию. Отставание порождает потребность в отрицании и новом поиске — за всем стоит обычный механизм раз -вития, но в его действии через сознание, претворяющийся не в плавных, а в конеч ных, абсолютизированных формах.
Отсюда в России сложилась особая роль такого фактора, который относи тельно условно можно обозначить терми ном «национально мобилизующая идея», выполняющего роль ускорителя развития, с одной стороны, и интегратора иных цен ностей, не включенных в ранее найден ную истину, — с другой.
Начав свое развитие с естественно -хронологического отставания от Европы, Россия постоянно совершает рывок в раз витии — и вновь замирает, найдя искомое.
Одновременно анализ отечественной истории дает основания утверждать, что в российскую традицию глубоко вплетены такие начала, как мессианство, эгалита ризм, радикализм.
Все эти начала предопределены исхо дной идентификацией, базирующейся на отношении «к высшей истине».
Собственно, категория «высшая истина» и ее поиск — это некие централь -ные начала в самоощущении и принятом способе самореализации того, что иногда называют «русской цивилизацией».
Другие народы могли идентифициро- вать себя по месту проживания, «русские» же не были в полной мере детерминиро-ваны географически. Можно говорить, что, сталкиваясь сначала в своей миграции с разными культурно - цивилизационными началами, а позже — в силу обширности и подвижности своих границ «русское начало» идентифицировало себя особым способом (который, впрочем, историче-ски есть не свидетельство особой избран ности, но некая историческая случай ность).
Этот особый способ заключался в том, что в неком историко цивилизационном алгоритме после самим этим началом задаваемого вопроса: «Кто мы есть?» — рождался ответ: «Мы есть те, кто при зван познать истину, выявить эту высшую истину из множества частных истин, при надлежащих разным встреченным нами народам». Но далее, в силу принятой и выработанной открытости и комплимен тарности, возникало продолжение ответа: «Мы те, кто познает истину, сохранит ее и подарит ее всему миру».
Социокультурное начало ощущает себя звеном, призванным соединить Истину и все человечество, подарить ее всем наро дам, приведя их к счастью и гармонии. И свой дар миру начало готово сделать и чув -ствует в этом свое призвание и служение.
Отсюда, кстати, разлитая в истории готовность всегда откликнуться на любую открывающуюся возможность несения справедливости и освобождения любых субъектных проявлений исторических и социальных проявлений: православных в иных странах, негров в Америке, братьев -славян, «страдающих буров», наконец — мирового пролетариата.
Что, собственно, и образует первый, мессианский феномен.
Второй вытекает во многом как из изна-чального, так и из последнего.
Высшее — есть истина. Любой из нас, любой человек есть в сути своей отно шение с истиной, измеряемое послед ней. Раз так, то в отношении с истиной все люди равны. Если за основу берется предположение, что все люди равны, то это означает, что элитизм отвергается по определению. Всеобще равенство есть эгалитаризм. В рамках этого никогда не артикулируемого, но исторически имма нентного подхода не может быть лучших и худших людей, не должно быть отдельно несчастных и счастливых. Отсюда выте кает, что люди могут быть разделены лишь на познающих, овладевающих истиной и еще не познавших ее. Тем, кто не успел познать истину, истина должна быть открыта ее носителями, а сами они — при -ведены к эгалитарной гармонии. Что, соб ственно, и есть второе существенное для русской политической культуры и тради ции начало — эгалитаризм.
Третье начало русского осознания мира и политического процесса также атрибу тивно высшей истине.
Если истина есть, и она — одна, то не может быть другой. Нельзя служить двум богам одновременно. С точки зрения рус ской политической культуры и русского национального сознания истина одна. И потому не может быть соединения двух претендующих на истину начал: одно должно быть принято, второе — отбро-шено.
Причем в рамках такого подхода, если одно начало ранее претендовало на истину и находило удовлетворение своей претен зии, то при открытии своего несовершен ства (что вытекало из ситуации противо речия состояния найденной истины и необходимого состояния ее поиска) старая истина приобретает качество раскрытого обмана, разоблаченного «самозванца». Она как таковая не может быть сохра нена даже частично, т.к. это требовало бы сохранения обмана, лжи. Поэтому она должна быть разоблачена и низвергнута окончательно, то есть — радикально.
Таким образом и определялась новая сущностная триада, формировавшая кон фигурацию социокультурного и поведен ческого миропреобразующего детерми нанта цивилизационного начала, перво начально выступавшего перед историей как «русское начало», — мессианство, эгалитаризм и радикализм.
Российское государство возникает как некий призванный, строго говоря, соз данный обществом институт, вырастая из его оборонительно регулирующих задач. Оно развивается под воздействием осо знания обществом тех или иных интегра тивных функций и выполняет их. Однако в значительной степени само это осозна ние обычно опосредуется и сакрализуется той или иной глобальной идеей.
Конечно, как и всюду, государство в России всегда является и остается меха низмом осуществления воли имущих, машиной, обеспечивающей интересы господствующих социальных групп. Однако легитимируется оно для общества тем или иным сакрализованным началом. Учитывая доминирующую роль, которую в сознании общества играет начало высшей истины, доминирующая в сознании осо бая идея, наверное, можно говорить, что в России государство может эффективно действовать только будучи освященным этой идеей. Российское и русское обще ственное сознание отказывается от под чинения власти и делегирования ей своей свободы и своей вольности, если эта власть не выглядит в его глазах особого рода слу жителем — служителем того, что идейно особо важно, ценно и значимо для нацио-нального сознания. Российское сознание присягает на верность государству лишь в той степени, в которой оно присягнуло некой «высшей идее» и в какой ту же при -сягу принесло государство. Причем каче-ства этой присяги различны. Если само -сознание общества для себя выглядит как самодостаточное, изначально субъектное и обладающее неотъемлемыми правами и свободой и лишь соглашается на деле -гирование этой свободы государству, то государство рассматривается только как изначальный инструмент идеи.
В русском национальном сознании изна-чально признаются не три самодостаточ ных начала — «народ, государство, идея», а лишь два — «народ и идея». Государство — лишь воплощение каждого из них: с одной стороны, оно выступает как создан ный и призванный обществом институт, с другой — как инструмент идеи. Обладая огромной мощью, государство лишь тогда успешно ее реализует, когда легитимиру ется воплощением идеи. Неверно счи-тать, что государство всегда нависало над российским обществом. По существу, до эпохи преобразований Ивана IV Грозного государство не представляет отдельного от общества механизма, т.е. разделение гражданского общества и государства встает на повестку дня тогда, когда аналогичный процесс имеет место и в Европе. Провал этой попытки в значительной степени обусловлен, с одной стороны, отсутствием идеологической легитимации, а с дру гой — противоречием укладу, традиции, в которой царь и его слуги воспринимались как элемент общества, его самоорганиза ции (сколь безмерна ни была бы их реаль - ная власть), а не господствующий над ним и живущий своей жизнью институт. В условиях постоянного отражения внеш ней агрессии и растянутых коммуникаций государство получало право на значитель ную концентрацию ресурсов в одном цен тре, что было необходимо для выполнения его функций в подобных условиях, но и постоянно увеличивало его власть.
Частично — делегирование, а частично — просто присвоение государством огром -ных возможностей порождает и повышен ные ожидания общества по отношению к государству, и невыполнение каких либо реальных или мифологизированных задач лишает государство легитимации. Можно сделать вывод, что в России общество дей ствительно делегирует государству абсо лютные полномочия, но взамен требует абсолютных успехов. Поражения страны в национальном общественном осознании — это не просто свидетельство негодно -сти личностей, это нарушение своего рода общественного договора, естественным следствием которого является прямое воз -действие на ход политического процесса. В этом отношении, как ни парадоксально, российская традиция и российский политический процесс глубоко демокра тичны — но в неком греко-тираническом, римско цезаристском варианте.
Данная демократическо - цезаристская традиция четко проявилась и в современ ности, когда общество в значительной степени ориентируется не по предложен ным ему программам, а по яркости пред лагающих их личностей и, не принимая сути программы, может поддержать ее носителя.
Эти же особенности сыграли свою, во многом печальную, роль на последнем этапе существования российского госу дарства — после 1985 г. В этот момент на самом деле общество ждало не демократи зации, а сильного генсека, который укре пил бы государственную власть и напол нил смыслом и служением официально признаваемую идею.
В России носитель власти существует лишь постольку, поскольку воплощает в себе, с одной стороны, народную волю, с другой — принятую народом идею. И отка-завшись от этой идеи или не имея ее, он не имеет в общественном сознании права на власть.