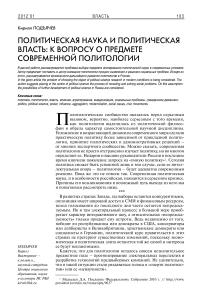Политическая наука и политическая власть: к вопросу о предмете современной политологии
Автор: Подъячев Кирилл Викторович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политология
Статья в выпуске: 2, 2012 года.
Бесплатный доступ
В данной работе рассматривается проблема выбора предмета исследования политической науки в современных условиях. Автор предлагает поставить в центр внимания политологии процесс выявления и решения социальных проблем. Исходя из этого, рассматриваются возможности дальнейшего развития политологии в России.
Политика, политология, власть, влияние, агрегирование, модернизация, социальные проблемы, гражданские движения
Короткий адрес: https://sciup.org/170166224
IDR: 170166224
Текст научной статьи Политическая наука и политическая власть: к вопросу о предмете современной политологии
П олитологическое сообщество оказалось перед серьезным вызовом, вероятно, наиболее серьезным с того времени, как политология выделилась из политической философии и обрела характер самостоятельной научной дисциплины. Усложнение и возрастающий динамизм современного мира сделали практическую политику более зависимой от прикладной политологии, принятие политических и административных решений – от мнения экспертного сообщества. Можно сказать, современная политология не просто отстраненно изучает политику, но во многом определяет ее. Недаром и высшие руководители России в последнее время озвучили появление запроса на «умную политику»1. Сегодня политика сможет быть успешной лишь в том случае, если ее интеллектуальная опора – политология – будет адекватна современным реалиям. Пока же это не совсем так. Современная политическая наука, и в особенности российская, находится в серьезном кризисе. Причины его возникновения и возможный путь выхода из него мы и попытаемся рассмотреть ниже.
***
ПОДЪЯЧЕВ
Кирилл
Викторович –
В развитых странах Запада, где выборы остаются конкурентными, оппозиция имеет широкий доступ к СМИ и финансовым ресурсам, исход голосования до последнего дня часто остается непредсказуемым. Но и там электоральный процесс в большой мере приобретает характер интерактивного шоу, а относительная «непредсказуемость» только придает ему остроты. Ведь независимо от того, победят ли республиканцы или демократы в США, консерваторы или лейбористы в Великобритании, христианские демократы или социалисты в Германии, политический курс правительств в этих странах не претерпит существенных изменений, поскольку экономическая и политическая элита останется той же самой и интересы ее будут неизменными.
Кажется, что для политологии осталось совсем незначительное предметное поле – прогнозирование электоральных перспектив и разработка технологий предвыборных кампаний. Не удивительно, что в такой ситуации стали раздаваться голоса о «смерти политологии» или ее «ненаучности».
Но не политология умерла, а показала свою несостоятельность методология, ставившая в центр внимания полити -ческой науки государственную власть. А подлинно научное исследование воз -можно лишь там, где завоевание власти происходит через доступные и публичные процедуры, т.е. имеет форму демократиче-ских выборов. В результате политология с рождения своего в качестве самостоятель ной научной дисциплины оказалась при вязанной к весьма ограниченному — исто -рически и культурно — типу социально -политической системы. Современная политическая методология в большой степени привязана к анализу электораль-ного процесса, поскольку в современной политической науке (особенно американ-ской) господствует мнение, что «ни один политический институт не определяет политический ландшафт страны в такой степени, как ее избирательная система»1. А поскольку выборы, как любой массо-вый процесс, могут быть описаны стати стически и, стало быть, математически смоделированы, политическая методоло гия попала в жесткие тиски «модельного подхода», эконометрики, математической статистики и комбинаторики2. Надо заме -тить, что в свое время (в 1970-х гг.) это рассматривалось как существенный шаг вперед3. Но там, где сбор количественных данных затруднен, статистика оказыва ется в тупике, и феномены неэлектораль ной природы просто выпадают из ее поля зрения.
В итоге все, что могла бы предложить политология специфически «своего», попало в абсолютную зависимость от одного политического института. Такая политология действительно оказывается в тупике, если избирательная система перестает оказывать существенное влия ние на расстановку политических сил. И этой науке совершенно нечего сказать тем общественным силам, которые и не соби раются встраиваться в государственную власть или с ней конкурировать, но стре мятся только к улучшению окружающей действительности (гражданским движе-ниям, например).
Наше предложение заключается в том, чтобы по - иному посмотреть на объект исследования политической науки.
Какая бы судьба ни постигла инсти -тут выборов, и каким бы авторитарным и закрытым ни был политический режим, социальные проблемы никуда не исче зают, процесс артикуляции и агрегирова ния интересов не прекращается! А про -цесс этот гораздо шире, чем собственно борьба за доступ к властному ресурсу; в него вовлечены гораздо более значитель ные социальные силы. Вместе с тем он не может рассматриваться в отрыве от политики в традиционном ее понимании. В современном мире государство про низывает все, и никакое существенное изменение социальной реальности невоз можно без его участия. Потому и всякая общественная активность, независимо от того, исходит ли первоначальный импульс «сверху» или «снизу», неизбежно оказы вается перед необходимостью общения с администрацией и политической вла -стью. Как отметил авторитетный россий -ский политолог А. Галкин, «политические сигналы, поступающие от индивидов, не могут быть сведены к электоральным дей ствиям. По сути дела любая акция, адре-сованная гражданином политическим институтам (будь то письменное послание, отказ платить налоги, девиантное поведе ние), является политическим действием»4. Таким образом, не борьба за обладание го сударственной властью как инструментом легального насилия, но процесс выявле ния и разрешения социальных проблем при участии государственной власти - вот что представляется нам достойным объек том исследования современной политоло гии.
В широком политологическом дискурсе результаты исследований, не направ ленных на изучение «власти», почти не присутствуют. А политология тем и отли чается от многих других научных дисци плин, что она в принципе не может быть уделом узкой коллегии профессионалов. Политология имеет ценность (и на этой позиции мы готовы стоять твердо), если функционирует цепочка «академическая наука — прикладная наука — публичный дискурс». Потому сегодня требуется даже не столько смена объекта, сколько «смена координат» в политологии. Мы нуждаемся в подходе, при котором государственная власть рассматривается уже не как само цель, но как инструмент для решения кон -кретных вопросов.
Теоретической основой дальнейших исследований здесь может выступать условная двухчастная модель социаль ного мира, восходящая еще к Гегелю и Токвилю1. В этой модели существуют две сферы — «политическое сообщество» (или политическая система), в которую помимо «государства» в узком смысле входят и политические партии, группы давления и другие структуры, так или иначе свя-занные с завоеванием и осуществлением политической власти, с одной стороны, и с другой — «неполитическое сообщество», сфера частной жизни людей, преследую щих свои личные (семейные) интересы. Две эти сферы существуют одновременно и параллельно в рамках одного целого — социума, но при этом их функциониро вание основано на абсолютно различных принципах.
Политическая сфера, как это заметил еще Аристотель, ориентирована на общее благо, которое удивительным образом не только не является простой суммой част ных благ, но представляет собой нечто, в корне от них отличное. Неполитическая сфера ориентирована на разнородные частные блага, трудно совместимые друг с другом и объединяющиеся в некое груп-повое благо только случайным образом и на краткое время.
Нормативным и аксиологическим цен тром политической сферы является власть, причем власть публичная. Для неполи-тической сферы (или, по Ю. Хабермасу, жизненного мира) ключевым понятием является интерес.
Соответственно, сама логика бытия этих сфер глубоко различна. Политическая сфера устроена вертикальным образом, она функционирует в логике иерархии, дисциплины, подчинения. Разнообразные демократические новации, наподобие разделения властей, несколько смягчают тотальность и централизм, но отнюдь не устраняют логику господства/подчинения из отношений политики.
Неполитическая же сфера действует в логике взаимодействия, компромисса, договора. В ней нет места понятиям «глав-ный» и «подчиненный», ибо любые роли в ней являются условными и времен -ными. Как отмечал Э. Геллнер, в граждан -ском обществе «совершенно неясно, кто начальник»2.
Причем трудности во взаимодействии политической и неполитической под систем социальной системы являются не временными и исторически обусловлен ными, но сущностными и непреодоли-мыми в рамках известного нам мира.
Вместе с тем очевидно, что полити ческое и неполитическое суть две части одного целого, и они вынуждены не только сосуществовать рядом, но и как то коммуницировать. Старинная метафора о голове и туловище вполне адекватно отра жает суть их общения. Можно предложить и другую, новую метафору - с конем и жокеем. Но суть здесь одна - две части социума, основанные на принципиально различных логиках, неразрывно связаны и не могут существовать одна без другой. Это неизбежно порождает напряженность и парадоксальность в отношениях между ними.
В традиционной системе институцио нализирована была только власть, и, стало быть, осуществлялось только воздействие политической сферы на неполитическую. У людей же, не имевших прямого отноше-ния к государственной власти, были лишь два способа воздействия на нее - подкуп власть имущих или восстание (т.е. прямое насилие). Современная система смогла институционализировать коммуникацию с двух сторон — так появились органич -ные институты влияния неполитического (гражданского) сообщества на политиче скую сферу: свободные выборы, граждан -ский контроль, независимый суд, авто номное (т.е. не зависящее от воли полити-ческой власти) гуманитарное право и т.п. Это не разрешило фундаментального про тиворечия, заложенного в самой природе двух сфер социума, но заметно облегчило существование неполитической сферы и, высвободив заложенный в ней потенциал, дало возможность быстрого социальноэкономического развития, основанного на технических и социальных инновациях.
Можно с достаточной уверенностью утверждать, что эта модель вполне адекватна исследовательским проблемам, стоящим перед современной политологией. Кроме того, она предлагает достаточно ясный критерий «современности» политической системы: уровень влияния гражданского на политическое через публичные, легальные институты, и это не обязательно должны быть выборы и политические партии. Чем выше уровень институционализации и публичности такого влияния, тем более «современной» может считаться политическая система. Этот критерий представляется гораздо более удобным для оценки качества политических систем, чем туманные «индексы демократичности».
Если применить описанную выше модель к ситуации современной России, можно видеть, что отчуждение общества и власти в нашей стране весьма велико – связь между «головой» и «ногами» нарушена. И многочисленные социологические опросы, фиксирующие невысокий уровень доверия политическим институтам, это подтверждают1.
Здесь мы подошли к очень важной проблеме: неполитическая сфера в России сегодня в достаточной степени автоно-мизировалась, но коммуникационные каналы по-прежнему работают только в одну сторону, от власти к обществу. Это порождает опасную ситуацию – сущностное отчуждение двух сфер в России не преодолевается, но даже усугубляется. И решать эту проблему необходимо, причем как можно скорее.
Для политологии это означает, что нужно переместить внимание от избирательной и партийной систем (а сегодня их исследование сводится только к мрачным констатациям, что российские партии не являются партиями2) к изучению коммуникационных институтов. Было бы полезным обратить внимание не на формаль- ные признаки институтов, но на то, как они реально действуют. Действительно ли у нас, как в традиционной системе, нет иных каналов общественного влияния, кроме коррупционных? Какие из легальных и публичных институтов действительно работают (или теоретически могли бы работать) как эффективные коммуникационные каналы?
В рамках предложенной методологии центральной исследовательской проблемой становится именно качество коммуникации «власть – общество – власть». При этом не стоит задача создавать новый научный аппарат на пустом месте. В политологии на обозначенном направлении уже существует серьезный исследовательский задел, созданный в последние годы3, но необходимо развивать его далее – как «вверх», на уровень теории, так и «вниз», к прикладной политологии и публичному дискурсу. А значит, на теоретическом уровне требуется дальнейшая разработка двухчастной модели и создание определений политики и политического процесса, не исходящих из борьбы за власть как основания. На уровне фундаментальных исследований основное внимание следует сосредоточить на изучении таких институтов, как обращения граждан, общественные палаты и советы, общественные приемные, некоммерческие организации. На уровне прикладных разработок главное внимание нужно направить на технологии использования существующих (и конструирование новых) коммуникационных институтов для поиска баланса между интересами граждан и государства. Кроме того, следует обратить самое пристальное внимание на трансляцию достижений в этой области академической политологии в публичное пространство, искать общий язык с активом гражданских движений, для которых политология, не сосредоточенная на одной лишь борьбе за власть, может быть полезной и интересной.
Все это в близком будущем может стать одним из основных направлений политологических исследований.