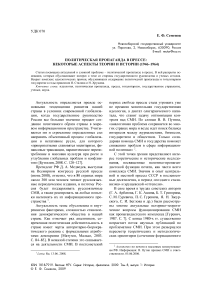Политическая пропаганда в прессе: некоторые аспекты теории и истории (1946-1964)
Автор: Семенов Евгений Федорович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.8, 2009 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена актуальной и сложной проблеме - политической пропаганде в прессе. В ней раскрыты основания, которые обуславливают интерес к теме со стороны государственного руководства и ученых сегодня. Вскрыт комплекс идеологических причин, обусловивших содержание политической пропаганды в тоталитарном государстве в годы правления И. Сталина и Н. Хрущева.
Идеология, политическая пропаганда, пресса, тоталитаризм, государственное управление, ученые, наука
Короткий адрес: https://sciup.org/14737040
IDR: 14737040 | УДК: 070
Текст научной статьи Политическая пропаганда в прессе: некоторые аспекты теории и истории (1946-1964)
Актуальность определяется прежде основными тенденциями развития нашей страны в условиях современной глобализации, когда государственное руководство России все большее значение придает созданию позитивного образа страны в мировом информационном пространстве. Учитывается им и стремление определенных сил направить объективный процесс глобализации в негативное русло, для которого «приоритетными становятся милитаризм, финансовые трансакции, паразитическое перепо-требление и массовая культура при росте и углублении глобальных проблем и конфликтов» [Бузгалин, 2008. С. 120–127].
Президент РФ Д. А. Медведев, выступая на Всемирном конгрессе русской прессы (июнь 2008), отметил, что в 80 странах мира около 300 млн человек читают русскоязычные периодические издания, и поэтому Россия будет поддерживать русскоязычные СМИ, а также реагировать на любые попытки вытеснять их из информационного пространства 1 .
Актуальность темы обусловлена и внутренними факторами, сложностью становления демократического общества в нашей стране. Как отмечает ряд аналитиков, современная политическая действительность в стране имеет черты авторитарно-бюрократического режима с формальными атрибутами демократии [Матузов, Малько, 2003. С. 84–85]. В немалой степени это сказывается на деятельности СМИ. В постсоветский период свободе прессы стала угрожать уже не прежняя монопольная государственная идеология, а диктат олигархического капитала, что ставит задачу оптимизации контроля над СМИ. По словам В. В. Путина, «аналогичная проблема сохраняется во многих странах мира и везде идет поиск баланса интересов между журналистами, бизнесом, государством и обществом. Только солидарная помощь СМИ и государства поможет снижению проблем в сфере информационной политики» 2.
С этой точки зрения представляют интерес теоретические и исторические исследования, посвященные политико-пропагандистской функции печати, как части всего комплекса СМИ. Значим и опыт центральной и местной прессы СССР в послевоенные десятилетия, в период «позднего сталинизма» и хрущевской «оттепели».
В свое время в трудах советских авторов (Г. А. Арбатова, Г. К. Ашина, Б. Т. Григоряна, С. М. Гуревича, П. С. Гуревича, Я. Н. Засурского, С. И. Беглова и др.) были рассмотрены многие актуальные историко-теоретические вопросы функционирования СМИ как пропагандистского комплекса [Гуревич, 1987. С. 7]. С конца 1980-х гг. существенно возрастает поток научных публикаций по проблематике СМИ. При этом развернулся пересмотр теоретических и методологических ориентиров (сочетание формационного
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2009. Том 8, выпуск 1: История © E. Ф. Семенов, 2009
и цивилизационного подходов), идеологических догм советского периода. В научном лексиконе появились новые понятия и категории, – такие как «информационное пространство», «информационная политика», «информационная безопасность» и т. п. Однако до настоящего времени сохраняется неравномерность изучения теоретических аспектов функционирования прессы, а также политической пропаганды в ней в контексте различных исторических этапов [Семенов, 2008].
Характеризуя политико-идеологический контекст развития прессы в советскую эпоху, следует иметь в виду, что тоталитарный режим – это не просто диктатура, но идео-кратическая диктатура, предполагающая искоренение инакомыслия [Волобуев, 1994. С. 5; Белая, 1990. С. 7].
Очевидно и то, что гуманистические идеалы и цели, отвечавшие чаяниям и стремлениям нашего народа, в немалой степени формировались, поддерживались и сохранялись прессой. Однако советская пресса зачастую не имела возможности выполнять заветы классиков марксизма – быть «зорким оком народного духа», «духовным зеркалом», в котором «народ видит самого себя и посредством которого, он осуществляет откровенную исповедь перед самим собой» [Маркс, 1954. С. 64–65].
Функции контроля над прессой выполняла целая система органов, – прежде всего Управление агитации и пропаганды ЦК партии, отделы пропаганды и бюро местных партийных комитетов, ТАСС. Эта же система осуществляла идеологический контроль за издательской и редакционной деятельностью, за информационным потоком, в том числе применяя цензуру, рассылая строго дозированную информацию по актуальным вопросам внутренней и международной жизни. Нередко эти же структуры определяли формы и жанры ее публикаций, что превращало прессу в послушное орудие манипуляции общественным мнением.
Чтобы удостовериться в этом, достаточно ознакомиться с рядом постановлений ЦК ВКП(б) / КПСС, например: «О мерах по улучшению областных газет “Молот” (Ростов-на-Дону), “Волжская коммуна” (Куйбышев) и “Курская правда”» (30.07.1946), «О мерах по улучшению ведения газеты “Гудок”» (31.08.1951), «О работе газеты “Советская Чувашия”» (27.03.1954), «О за- дачах партийной пропаганды в современных условиях» (9.01.1960), «Об “Экономической газете”» (15.03.1960) 3.
Анализ этих и многих других подобных документов свидетельствует, что однотипные директивы центральных и местных политических органов с призывами к газетчикам о поиске «глубинных тем, способных поднять народнохозяйственное строительство и социальное обновление на новую ступень», появлялись неоднократно.
Что же мешало принципиальной и объективной работе журналистов и редакций? Ответ надо искать в «зацентрализованном» руководстве и бюрократической опеке. Несмотря на то, что каждое печатное издание позиционировалось как орган соответствующего партийного комитета и государственного института (совета, профсоюза, комитета ВЛКСМ, производственного коллектива), реально они были «оружием партии». Поэтому любой подготовленный материал проходил прежде всего партийную цензуру (обкома – горкома – райкома – парткома) либо планировался заранее.
Другой стороной политического контроля, влиявшего на качество информационного потока, шедшего через газеты, было то, что практически весь материал по ключевым вопросам внешней политики на местах перепечатывался из центральных газет или же «рассылки» ТАСС.
Такая же «схема» была характерна и для основной массы публикаций по проблемам теории и практики партийного, советского и хозяйственного строительства в СССР и странах народной демократии. Объем и содержание такого рода материалов «отмерял» Центр. Таким образом читатель узнавал об идеологических кампаниях 1940–1950-х гг., о конфронтации с Югославией, о «холодной войне» с бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции, о кризисных явлениях внутри социалистического лагеря и т. п.
В результате даже вполне благополучная статистика, характеризующая газетное строительство (рост материально-технической базы печати, численности периодических изданий и др.) не могла скрыть нарастающего отчуждения населения от прессы [Семенов, 2006].
Взаимоотношения власти и прессы в послевоенные десятилетия на материалах Западной Сибири наиболее обстоятельно раскрыты в работах омского исследователя С. Г. Сизова [2001]. Названный автор справедливо подчеркивает содержательную неоднородность прессы «позднего сталинизма» при наличии доминирующей – консервативно-запретительной – тенденции. В автореферате его докторской диссертации отмечается: «Печать Западной Сибири в послевоенные годы пропагандировала передовой опыт, достижения новаторов, почины на местах. В то же время она участвовала в проведении идеологических кампаний по борьбе с “низкопоклонством перед Западом”, “вейсманистами-морганистами”, “космополитами”, “формалистами”» [Сизов, 2004].
В настоящее время в исторической литературе широко раскрыта роль центральной и региональной прессы в развертывании сталинских идеологических кампаний послевоенного периода, например борьбы с «космополитизмом» [Костырченко, 2001; Генина, 2007; Савина, 2007].
В сталинскую эпоху пресса вносила свой весомый вклад в лакировку действительности и дезинформацию населения. Характерна в этом плане передовая статья газеты «Известия» от 20 января 1949 г., где утверждалось, что в СССР почти достигнут довоенный валовой сбор зерна и зерновая проблема «в основном решена». Как отмечалось затем в период «оттепели», это заявление появилось по инициативе Г. М. Маленкова и совершенно не соответствовало реальному положению в аграрном секторе.
Не меньшую роль играла пресса сталинского периода и в развертывании идеологических кампаний того периода. Кульминацией этого процесса стали статьи И. В. Сталина по вопросам языкознания, опубликованные в «Правде» 20 июня, 4 июля и 2 августа 1950 г.
Первостепенным, но вместе с тем весьма непростым представляется вопрос об эффективности пропагандистского воздействия в условиях, казалось бы, безраздельного господства тоталитарной идеологии. Конечно, неустанное «промывание мозгов» давало свои результаты, однако манипулирование общественным сознанием имело свои пределы. Они определялись и спецификой менталитета различных социально-профес- сиональных групп общества, и столкновением идеологических догм с реальной действительностью.
Эта проблема ставится в послесловии известного американиста акад. Н. Н. Болховитинова к статье о формировании образа США в послевоенном советском обществе. Маститый автор задается вопросом, «удалось ли советской пропаганде создать “образ врага”?». Однозначный ответ по этому поводу не дается, однако приводится пример, иллюстрирующий наличие определенного скепсиса в отношении официальной пропаганды. Ученый приводит фрагмент из воспоминаний актрисы Т. Окушевской о том, как после появления «Литературной газете» (20 сентября 1947 г.) статьи ее мужа, известного писателя Б. Горбатова, «разоблачавшей» политику Г. Трумэна, в театре с ней перестали здороваться [Николаев, 2004. С. 74]. Понятно, что в данном случае речь идет о реакции элитарной интеллигенции, обладавшей большей, в сравнении с основной массой населения, самостоятельностью мышления.
Впрочем, не исключено, что такого рода скепсис в отношении сталинской пропаганды в какой-то мере разделялся и более широкими слоями населения, чему, помимо прочего, способствовали тяготы послевоенной жизни. Об это можно судить, к примеру по справке, направленной в сентябре 1946 г. начальником Шилкинского районного отдела УМГБ в Читинский обком ВКП(б). Документ сообщал «о настроениях среди отдельной части населения района в связи с выходом новых цен на пайковые продукты». На трех страницах убористого машинописного текста фигурировал целый спектр негативных суждений как по данному поводу, так и в целом в отношении существовавшего политического режима. Понятно, что такой накал негативных настроений объяснялся прежде всего тяжелым, можно сказать невыносимым положением значительной части населения этого региона. В качестве типичного приводилось ироническое высказывание одного из сельских учителей: «На днях прочитаем в газетах: “Идя навстречу многочисленным пожеланиям рабочих, партия и правительство решили увеличить цены на некоторые товары”» 4 .
В годы «оттепели» политико-идеологический контекст развития прессы становится более благоприятным. Наряду с общей либерализацией политической атмосферы, усиливается активность многих органов печати, появляется немало новых изданий, активизируется их связь с населением. В эти годы оживляется движение рабселькоров, распространяются такие формы их подготовки, как постоянно действующие семинары, школы, народные университеты. Новыми каналами участия общественности в работе прессы стали внештатные отделы, нештатные корреспонденты, общественные приемные редакций газет. Так, отмечается работа общественных инспекций при редакциях газет «Алтайская правда» и «Омская правда», которые проводили проверку действенности выступлений печати, писем населения [Корнева, 2006. С. 22].
Однако и в период «оттепели» продолжалось негативное воздействие политического режима на прессу. К примеру, печать была активно использована для развертывания новых гонений против «вейсманистов-морганистов» (генетиков). Показательно, что сигналом для очередного «наезда» на многострадальную науку послужила статья в газете «Правда» от 14 декабря 1958 г. под названием «Об агробиологической науке и ложных позициях “Ботанического журнала”». В названной публикации, помимо восхваления «мичуринского» направления в биологии, содержались резкие выпады против «Ботанического журнала» и «Бюллетеня Московского общества испытателей природы», которые под руководством академика В. Н. Сукачева были в тот момент главными центрами борьбы против лысенковщины.
В связи с этим Н. С. Хрущев обрушился с резкими нападками в адрес руководства СО АН СССР в связи с поддержкой им генетики [Josepson, 1997. P. 82–119; Купер-штох, 1999. С. 58–68; Осипов, 2007]. В порядке реализации этой идеологической кампании газета «Советская Сибирь» (орган Новосибирского обкома КПСС) 17 января 1959 г. опубликовала статью директора Сибирского центрального ботанического сада, проф. К. В. Соболевской под названием «За мичуринскую биологию». Бросается в глаза, что, безоговорочно поддерживая все меры против «вейсманистов-морганистов», в том числе одобряя одиозную сессию ВАСХНИЛ 1948 г., названный автор вместе с тем ни слова не говорил об Институте цитологии и генетики СО АН и о Н. П. Дубинине.
Неоднозначное воздействие «оттепели» на отношение региональных партийных органов к прессе ярко прослеживается по материалам ряда заседаний бюро Новосибирского обкома КПСС. Так, 25 февраля 1957 г. обсуждался «идейно-художественный уровень» журнала «Сибирские огни», в связи с чем прозвучали негативные оценки таких произведений, как поэма Н. Перевалова «Клоун», повесть А. Никулькова «Крепилин не торопится отступать», рассказ М. Зуева «Станция Любянь» и особенно очерк Л. Иванова «Сибирские встречи». В принятом по этому поводу постановлении названные произведения обвинялись в «сгущении красок, недооценке позитивных моментов советской действительности»
В то же время весьма характерно, что бюро обкома дезавуировало статью официозных новосибирских журналистов А. Ки-тайника и К. Немиры «Наблюдения и обобщения» в «Советской Сибири» за 25 ноября 1956 г., где названные произведения подверглись разносной критике 5 . Более того, 19 июня того же года бюро обкома приняло решение освободить К. Немиру от работы зам. редактора «Сов. Сибири» «по состоянию здоровья» 6 .
Явное позитивное влияние «оттепельной» атмосферы прослеживается и по материалам заседания бюро Новосибирского обкома КПСС от 11 ноября 1957 г., где обсуждалась публикация в «Советской Сибири» фельетона «Буря в стакане воды» (14 июля 1957 г.). Партийный орган признал названную публикацию «правильной» и в то же время подчеркнул, что редакция газеты допустила ошибку: «По затронутым в фельетоне вопросам дополнительно дважды, без особой необходимости, выступила на страницах газеты».
Как выясняется из стенограммы этого заседания, сущность конфликта заключалась в следующем: с завода им. Ефремова поступало много жалоб на условия труда (трамва-тизм, загазованность). В октябре на заводе работала бригада обкома с участием корреспондента газеты. По итогам проверки было проведено совещание, в ходе которого директор завода «вел себя хамски», в результате чего бригада, возмущенная таким поведением, подготовила фельетон для «Советской Сибири». После же появления данной публикации заводское начальство явилось в редакцию и стало требовать опровержения. В ответ газета опубликовала еще два фельетона с карикатурами. Эти драматические события получили всесоюзный резонанс, – нашли отражение в органе ВЦСПС – газете «Труд» 7.
Явным выражение либеральных тенденций «оттепели» стало постановление бюро Новосибирского обкома КПСС от 14 февраля 1958 г. о начале издания городской газеты «Вечерний Новосибирск». В данном документе специально отмечалось, что особое внимание новый орган печати должен был уделить «критике недостатков» 8 .
Однако с началом 1960-х гг. в идеологическом курсе, как известно, все больше стали проявляться консервативные тенденции, – можно сказать, «оттепель» сходила на нет. Не удивительно, что контроль за прессой становится все более жестким, и от «либерализма» второй половины 1950-х гг. вскоре не остается и следа.
Показательны в этом плане материалы заседания бюро Новосибирского обкома КПСС от 18 марта 1960 г., где обсуждалась статья журналиста Беланова, «Путь к сердцам людей», опубликованная в газете «Советская Сибирь» 11 февраля 1960 г. Доклад по этому поводу делал недавно назначенный секретарь обкома по идеологии Е. К. Лигачев (впоследствии – в годы «перестройки» – лидер консервативного крыла в КПСС). Докладчик утверждал, что «автор взял под сомнение целесообразность выступления хозяйственных руководителей перед трудящимися с политическими лекциями и докладами». По его словам, редакция «поместили эту статью в качестве дискуссии, не разобрались в ошибочности ее положений», «допустила серьезную ошибку, начав дискуссию по вопросам, правильность которых подтверждена самой жизнью». Пока обошлось без серьезных санкций: бюро обкома ограничилось указанием на ошибку редакции 9 .
Своего рода манифестом консервативного поворота стало постановление бюро Новосибирского горкома КПСС от 13 октября 1960 г. «О руководстве газетой “Вечерний Новосибирск”» редактором тов. Пономаревым П. А.». В нем подчеркивалось, что «идейный уровень газеты низок, допускаются политические ошибки», «многие материалы о работе городского транспорта, по благоустройству, коммунальным услугам и здравоохранению поверхностны, не раскрывают существа дела, поданы в крикливом тоне», «редакция неразборчива в подборе материала в газету. Нередко появляются крикливые, сенсационные, вредные статьи и заметки, вызывающие законное негодование читателей». В итоге было принято решение освободить редактора газеты от его поста «как не обеспечившего руководства газетой» 10 .
Не удивительно, что под влиянием такого рода решений в последующие годы содержание прессы приобретает все более шаблонный характер. Даже сам внешний облик газет «застойного» периода, особенно в «провинции» удручает: блеклый шрифт, стандартные заголовки. Ясно, что такого рода пресса могла только отталкивать читателя. Не случайно в те годы, как правило, интерес широкого читателя вызывали лишь немногие столичные издания, например «Литературная газета»…
В заключение можно констатировать, что к настоящему времени в деле научной разработки политической пропаганды в СМИ сложилась устойчивая тенденция формирования междисциплинарного подхода (историков, философов, юристов, социальных психологов, социологов, журналистов и филологов). При этом анализ публикаций и диссертаций показывает, что отражение в исторических, журналистских и других отраслевых гуманитарных исследованиях разных аспектов политической пропаганды в прессе пока еще не исчерпывает всего ее многообразия. Вместе с тем научный поиск способствует преодолению многих «атавизмов» прошлого в политической пропаганде, а значит, и служит залогом демократического развития России, движения ее по пути прогресса.
THE POLITICAL PROPAGANDA IN PRESS:
SOME PROBLEMS OF THEORY AND HISTORY (1946–1964)