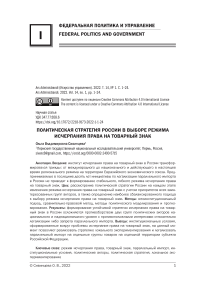Политическая стратегия России в выборе режима исчерпания права на товарный знак
Автор: Сивинцева О.В.
Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi
Рубрика: Федеральная политика и управление
Статья в выпуске: 1 т.14, 2022 года.
Бесплатный доступ
Введение: институт исчерпания права на товарный знак в России трансформировался трижды: от международного до национального и действующего в настоящее время регионального режима на территории Евразийского экономического союза. Предпринимаемые в последние десять лет инициативы по легализации параллельного импорта в России не приводят к формированию стабильного, гибкого режима исчерпания права на товарный знак.
Режим исчерпания права, товарный знак, параллельный импорт, институциональные условия, политические акторы, политическая стратегия, локальное экспериментирование
Короткий адрес: https://sciup.org/147246711
IDR: 147246711 | УДК: 347.77:658.6 | DOI: 10.17072/2218-9173-2022-1-1-24
Текст научной статьи Политическая стратегия России в выборе режима исчерпания права на товарный знак
1 Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь, Россия, ,
1 Perm State University, Perm, Russia, ,
Режим исчерпания права на товарный знак определяет условия импорта товаров в части наложения ограничений на их распространение со стороны правообладателя товарного знака. Наиболее либеральный режим – международный, или сильная доктрина исчерпания права, – не позволяет правообладателю заявлять о своих законных правах в результате перемещения товаров посредством параллельных каналов сбыта в том случае, если товар хотя бы единожды предлагался к продаже или вводился в оборот иным образом. Национальный режим, или слабая доктрина исчерпания права, напротив, создает благоприятные условия для правообладателей и возможности воспрепятствования импорту от неуполномоченных дилеров. Промежуточный подход к исчерпанию права, или региональный режим, применяется на ограниченной территории какого-либо союза государств, например Европейского союза или Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и совмещает преимущества и недостатки сильной и слабой доктрин исчерпания.
На практике режимы исчерпания права сводятся либо к легализации параллельного «серого» импорта, то есть к разрешению ввоза оригинальных товаров без согласия правообладателя, либо к его запрету. При международном режиме параллельные импортеры обладают полной свободой действий, при национальном – такая свобода отсутствует, а товары, несмотря на их оригинальность, зачастую квалифицируются как контрафакты, к неуполномоченным импортерам применяются санкции. При региональном режиме «серый» импорт возможен только на территории союза государств.
Выбор режима исчерпания права на товарный знак, затрагивающего как внутренние интересы государств, так и интересы иностранных акторов, прежде всего правообладателей, составляет сферу дискреции каждого отдельно взятого правопорядка. На наднациональном уровне этот вопрос оставлен открытым в силу отсутствия консенсуального единства между странами – участницами Всемирной торговой организации. Как следует из статьи 6 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), «ничто в настоящем Соглашении не должно использоваться для решения вопроса об исчерпании права на объекты интеллектуальной собственности»1.
В России режим исчерпания права на товарный знак получил нормативное оформление в 1992 году с принятием закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товара»2. В нем устанавливался международный режим исчерпания права, выбор которого вряд ли можно рассматривать как результат четко выверенной политической стратегии вновь образованного государства. В дальнейшем доктрина исчерпания трансформировалась дважды: в 2002 году был установлен национальный режим, в 2010 году – региональный при сохранении национального режима.
Интересно, что широкий политический диссонанс эпопея возможной легализации «серого» импорта приобретает с 2009 года, когда к вопросу обсуждения режима исчерпания права на товарный знак активно подключаются органы власти, бизнес-сообщество, а вслед за ними представители экономической, правовой и политической науки. Вряд ли возможно, чтобы эти группы акторов пришли к единому мнению по поводу наиболее благоприятного режима исчерпания для России в силу, во-первых, сложности темы исчерпания права, которая в рамках каждого из режимов продуцируется на множество подходов с изъятиями из общих правил, а во-вторых, разно-направленности интересов правообладателей, потребителей и параллельных импортеров.
В настоящей статье предполагается рассмотреть политическую стратегию России на каждом этапе изменения режима исчерпания права на товарный знак с учетом приоритетов всех заинтересованных групп акторов, а также определить наиболее сбалансированный подход к его выбору.
Исследование ориентировано не столько на анализ российского правового подхода к содержанию режима исчерпания права на товарный знак, сколько на оценку институциональной среды с набором широкого круга акторов, определяющей выбор действующего режима и официальный запрет параллельного импорта в России. В условиях отсутствия устойчивого, применяемого на протяжении длительного времени режима исчерпания права на товарный знак, согласованного с российскими экономическими приоритетами, сложно прогнозировать развитие институтов бизнеса и динамику потребительского спроса. Очевидно, что уже в ближайшей перспективе российской политической элите необходимо прийти к консенсусу и разработать единый, но достаточно гибкий, основанный на балансе интересов правообладателей и потребителей, подход к режиму исчерпания права на товарный знак.
МЕТОДОЛОГИЯ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ) ИССЛЕДОВАНИЯ
Товарные знаки – объекты интеллектуальной собственности, в наибольшей степени подверженные исчерпанию права в силу, с одной стороны, своей экономической ценности, а с другой – с каждым годом усиливающихся глобализационных тенденций, стирающих внутринациональные границы и обостряющих проблемы «серого» импорта в различных частях земного шара. Поэтому вопрос выбора оптимального режима исчерпания права на товарный знак становится предметом исследований не только российских, но и зарубежных авторов.
Большинство зарубежных экспертов оценивают правовые подходы и последствия их применения в различных правопорядках. Популярными темами являются режимы исчерпания права в США как государстве, впервые применившем так называемую доктрину «первой продажи» (аналог исчерпания права) еще в 1920-е годы и имеющем наиболее продолжительный опыт использования международного режима исчерпания с некоторыми изъятиями (Contreras, 2020; Graham and McJohn, 2020; LaFrance, 2014; Nguyen, 2019; Toohey and Gregory, 2011). Как правило, американской сильной доктрине исчерпания противопоставляется региональный режим Европейского союза, оформившийся в 1950-е годы и ограничивающий параллельный импорт границами территории союза (Dobrin and Chochia, 2016; Birstonas and Klimkeviciute, 2014; Jovic, 2019; Zappalaglio, 2015). Некоторые исследования выходят за пределы режимов исчерпания права США и стран Европейского союза путем анализа исторического «бэкграунда», нормативной базы, расстановки политических сил, судебной практики в государствах Северной и Южной Америки, Азии и Австралии (Гхош, 2015; Calboli, 2011; Grigoriadis, 2014; Handler, 2019; Huso-vec, 2017; Shin, 2020).
Несмотря на то, что тема исчерпания права является сравнительно новой для российских ученых, в последние два десятилетия она становится все более популярной. Тем не менее крупных исследований в этой области не так много и все они носят правовой характер (Щербачева, 2004; Пирогова, 2008; Ляпцев, 2019).
Большинство научных статей на данную тему также подготовлены в рамках юридической науки. Их авторы прежде всего оценивают состояние нормативно-правового регулирования и неоднозначность судебной практики в России по вопросу исчерпания права на товарный знак и «серого импорта» (Анишин и Хромов, 2018; Гаврилов, 2018; Иванов, 2019; Сагдеева, 2017; Хусаинов, 2019). Другие эксперты в рамках междисциплинарных политикоправовых исследований анализируют предпосылки изменения режима исчерпания права в России с учетом зарубежного опыта, а также преимущества и недостатки применяемого подхода и возможности для его последующей трансформации в условиях ЕАЭС (Вилинов и Рябчикова, 2013; Еременко, 2013; Нургалеев и Петров, 2020; Снегирева, 2019; Сысоева, 2018; Чеботарева, 2019). В этом же ключе интерес представляют публикации по вопросам таможенного регулирования импорта товаров как необходимого условия для обеспечения бесперебойного функционирования режима исчерпания права на товарный знак (Есауленко и Маркарьян, 2017; Фальченко, 2018; Фукс, 2017). Важную составляющую теоретической основы изучения образуют экономические публикации, в которых перспективы легализации параллельного импорта в России фундируются объективными статистическими данными и расчетами (Агамагомедова и Любарец, 2019; Волков и др., 2019; Голубцова и Зверева, 2019; Зуева и др., 2020).
Таким образом, весомый пласт исследований по теме исчерпания права на товарный знак принадлежит к юридическому или экономическому профилю; исследования междисциплинарного толка имеют явный правовой уклон и сопровождаются поверхностными политическими оценками. С учетом накопленной обширной теоретической и нормативно-правовой базы по вопросу исчерпания права представляется значимым как с теоретической, так и с практической точки зрения анализ расстановки политических акторов, комплекса объективных и субъективных факторов, влияющих на выбор режима исчерпания права, институциональных условий, сопровождающих действующий в России режим.
Методологическую основу исследования составляет неоинституцио-нальный подход, ориентированный на оценку формальных и неформальных институтов, а также институциональных условий, определяющих выбор режима исчерпания права на товарный знак в России. В качестве формальных институтов в исследовании рассматриваются нормативно закрепленный режим исчерпания права на товарный знак в России и институты, обладающие законными механизмами воздействия на изменение режима исчерпания права (например, органы власти). Основным неформальным институтом является параллельный импорт, который официально запрещен на территории государств ЕАЭС, однако продолжает существовать как побочный эффект любых внешнеэкономических процессов и набирать обороты как результат распространения электронной коммерции. Кроме того, в условиях правовой и политической неопределенности российской стратегии исчерпания права на товарный знак невозможно не учитывать влияние неформальных акторов, не обладающих формализованными инструментами воздействия на принимаемые политические решения, но использующих теневые ресурсы для продвижения собственных интересов (например, крупные бизнес-сообщества).
В рамках неоинституционального подхода в исследовании применяются сравнительно-правовой метод, методы политического моделирования и прогнозирования, а также ряд общенаучных методов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
История применения института исчерпания права на товарный знак в России менее продолжительна, чем в США или странах Европейского союза, и насчитывает тридцать лет. За этот период институт исчерпания прошел три этапа, каждый из которых связан с изменением режима исчерпания и, соответственно, политической стратегии России в вопросе легализации либо запрета параллельного импорта.
Первый этап (1992–2002) стартовал с принятием Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товара», статья 23 которого апеллировала к международному режиму, допускающему свободный оборот товаров в случае выведения их на рынок правообладателем или иными субъектами с его согласия3.
Принятый на исходе существования советского государства Закон СССР «Отоварныхзнаках изнакахобслуживания» подобныхформулировокнесодер-жал4. Однако международный режим устанавливался в законодательстве о других объектах интеллектуальной собственности – в Законах СССР «Об изобретениях в СССР» (ст. 6)5 и «О промышленных образцах» (ст. 6)6, принятых, как и Закон СССР «О товарных знаках и знаках обслуживания», в 1991 году.
Очевидно, что в условиях политически нестабильных 1990-х годов на фоне приближающегося краха советской государственности сильная доктрина исчерпания была слепо заимствована из западных нормативно-правовых источников. Вряд ли в той ситуации российские законодатели всерьез задумывались о научном или хотя бы практическом обосновании сделанного в начале 1990-х годов выбора режима исчерпания права на товарный знак. В аналогичном политическом контексте, но уже новой российской государственности принимался Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товара», в который с целью гармонизации законодательства об объектах интеллектуальной собственности перекочевал международный режим исчерпания права.
Второй этап (2002–2010) развития института исчерпания права на товарный знак в России связан с кардинальным изменением международного режима на национальный. Основными акторами, инициировавшими эти процессы, стали «высшие суды» Российской Федерации – Верховный Суд и Высший Арбитражный Суд.
Первоначально Верховным Судом Российской Федерации была допущена непростительная ошибка в толковании Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товара» по делу производственного кооператива «Лаваш», который заявил о явном противоречии подпункта «з» пункта 15 Инструкции о порядке маркировки отдельных подакцизных товаров акцизными марками7 статье 23 указанного закона8. По справедливому замечанию А. В. Семенова, по сути, Верховный Суд Российской Федерации, выйдя за пределы жалобы, пришел к выводу, что закрепленная на момент вынесения решения в статье 23 международная концепция исчерпания права на товарный знак «по смыслу Закона о товарных знаках является территориальной (национальной)» (Семенов, 2011, с. 58). Позиция Верховного Суда Российской Федерации не содержала какого-либо внятного обоснования и аргументации в пользу применения национального режима исчерпания и введения территориальных ограничений импорта товаров.
В момент принятия Верховным Судом Российской Федерации судьбоносного решения на рассмотрении Государственной Думы находился инициированный российским правительством законопроект о поправках в Закон Российской Федерации «О товарных знаках...», в который Высший Арбитражный Суд Российской Федерации предложил внести изменения. Одно из предложенных изменений касалось закрепления в законе национального режима исчерпания права9. Чем была вызвана такая резкая трансформация режима, остается загадкой – никаких предварительных дискуссий и комплексных научных исследований по этому вопросу опубликовано не было. Тем не менее ответственный комитет Государственной Думы сразу включил это изменение в таблицу поправок, рекомендуемых к принятию, и без лишних разговоров национальный режим исчерпания права на товарный знак стал политической реальностью России ХХI века.
Не вызвало особого политического резонанса на этапе предварительного обсуждения включение нормы о национальном режиме исчерпания права на товарный знак в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации в виде статьи 148710. В научном сообществе основной довод в пользу принятого решения точно выражен В. И. Еременко как «укрепление позиции правообладателей, что, несомненно, способствовало повышению инвестиционной привлекательности нашей страны» (Еременко, 2013, с. 2).
Третий этап (с 2010 – по настоящее время) связан с частичной либерализацией режима исчерпания права на товарный знак. Прежде всего этому способствовало принятие в 2010 году на наднациональном уровне Соглашения о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности среди государств ЕАЭС, статьей 13 которого провозглашался региональный режим исчерпания права на товарный знак на территории государств союза11. В 2014 году аналогичная норма была включена в пункт 16 Приложения 26 к Договору о Евразийском экономическом союзе12.
В отличие от Белоруссии и Казахстана, закрепивших в законодательстве о товарных знаках региональный режим, Россия этого не сделала, сохранив статью 1487 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации в изначально принятой редакции. Такая двоякая интерпретация режима исчерпания права в международном договоре и федеральном законодательстве стала причиной как неоднозначной судебной практики, так и противоположных экспертных позиций.
Унифицировать ситуацию удалось Конституционному Суду Российской Федерации в 2018 году в решении по жалобе ООО «ПАГ» на неконсти-туционность ряда правовых норм части четвертой Гражданского кодекса. В принятом решении Конституционный Суд Российской Федерации заявил о необходимости использования национального и регионального режимов исчерпания права на товарный знак во взаимосвязи (п. 4 мотивировочной части)13. Тем самым путем системного толкования норм национального законодательства и международного договора суд указал на отсутствие противоречий в применяемых режимах исчерпания.
Несмотря на однозначную позицию Конституционного Суда Российской Федерации, некоторые исследователи до сих пор настаивают на необходимости изменения национального режима в Гражданском кодексе на региональный. Например, С. А. Ляпцевым утверждается, что с выводом Конституционного Суда Российской Федерации невозможно согласиться ввиду его противоре-
Сивинцева О. В. Политическая стратегия России в выборе режима исчерпания права на товарный знак чия принципу верховенства международных соглашений над российским законодательством (согласно ч. 4 ст. 15 Конституции России), поэтому норму о региональном режиме исчерпания необходимо включить в национальное законодательство(Ляпцев, 2018, с. 172). Это замечание имеет скорее технический характер и вряд ли может изменить закрепленную в российском законодательстве слабую доктрину исчерпания – тем более при отсутствии правовой коллизии между нормами Договора о ЕАЭС и Гражданского кодекса Российской Федерации. Очевидно, что в отношениях с государствами ЕАЭС: Арменией, Беларусью, Казахстаном и Кыргызстаном – применяется региональный режим, с другими правопорядками – национальный.
Кроме того, Конституционный Суд Российской Федерации в этом же решении установил ограничения на действия правообладателей в случае завышения цены на российском рынке по сравнению с другими рынками при подаче иска в суде и требовании компенсации (п. 5 мотивировочной части), а также указал на невозможность применения к оригинальным товарам «серого» импорта такой меры ответственности, как изъятие и уничтожение товаров, за исключением случаев поставки некачественной продукции, представляющей угрозу для жизни и здоровья населения (п. 6 мотивировочной части)14. Тем самым, с одной стороны, национальный принцип не был отменен и действия параллельного импортера по-прежнему рассматриваются как нарушение исключительного права, а с другой стороны, юридических средств воздействия у правообладателя почти не осталось (Иванов, 2019, с. 134). Примечательно, что еще в 2011 году постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации правообладатели лишились еще одного юридического средства борьбы с параллельными импортерами, а именно возможности их привлечения к административной ответствен-ности15.
На протяжении последнего десятилетия очевидны тенденции к «мягкой либерализации» режима исчерпания права на товарный знак в России. При этом проблема выбора режима исчерпания приобретает широкий политический резонанс с 2009 года. Решение этой проблемы сводится к двум противоположным вариантам: либо к сохранению существующего смешанного национально-регионального режима, либо к допущению изъятий из действующего режима в виде установления сильной доктрины исчерпания на отдельные виды товаров. Второй вариант, связанный с изменением существующего подхода к исчерпанию права, активно отстаивается Федеральной антимонопольной службой (ФАС России), основным политическим актором, поддерживающим международный режим. За последние десять лет ФАС России дважды разрабатывала законопроекты о легализации параллельного импорта путем внесения изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации.
Предлагаемые ФАС России поправки 2014 года устанавливали, во-первых, сильную доктрину исчерпания права на товарный знак с 1 января 2020 года, а во-вторых, исключение из этого правила, наделяющее правообладателя правом на запрет или ограничение параллельного импорта при условии локализации производства на территории страны16. Это изъятие преследовало цель преодолеть одно из основных негативных последствий международного режима в виде, как пишут эксперты, «возможного снижения инвестиционного потока и сокращения локализации производства» (Анишин и Хромов, 2018, с. 114), «оттока инвестиций из экономики страны» (Фукс, 2017, с. 60), «снижения объемов иностранных инвестиций в российскую экономику в связи со значительным увеличением расходов на рекламу» (Агамагомедова и Любарец, 2019, с. 70), «снижения стимулов правообладателей к инвестированию в производства, локализованные на территории России» (Снегирева, 2019, с. 356).
Законопроект ФАС России не прошел оценку регулирующего воздействия и не был внесен в Государственную Думу. К тому же, по справедливому замечанию Р. И. Хусаинова, указанный законопроект не соответствовал пункту 2 статьи 2 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, устанавливающему запрет на ограничение прав правообладателей под условием наличия локализованного производства17 (Хусаинов, 2019, с. 106).
Несмотря на указанные нюансы, международный режим исчерпания предполагает ряд преимуществ, которые обозначаются представителями ФАС России для аргументации своей позиции. По словам заместителя руководителя ФАС России А. Кашеварова, «реализация в России механизма обеспечения параллельного импорта не только создаст предпосылки для снижения цены на брендированную продукцию, но и даст возможность развитию малого и среднего бизнеса как основной категории параллельных импортеров, которые, в отличие от традиционных импортеров, не могут получить разрешения на ввоз товаров»18. Приведенный довод выглядит крайне разумно, поскольку зачастую представители малого и среднего бизнеса не обладают финансовыми ресурсами на приобретение лицензий, а параллельный импорт способен стать для них незаменимым стимулом роста и развития.
Второй довод ФАС России сводится к тому, что расширение конкуренции на рынке за счет подключения к уполномоченным дилерам параллельных импортеров способно благоприятно сказаться на потребителях в части снижения цен и расширения ассортимента импортируемых товаров. Подобные преимущества выглядят вполне закономерно в условиях расширения свободного рынка и легализации конкуренции между параллельными импор- терами и уполномоченными дилерами. Однако аргумент в виде снижения цен вызывает неоднозначные оценки среди экспертов. С одной стороны, основные преимущества от параллельного импорта получают конечные потребители, которым предоставляется возможность приобретать брендовую продукцию по более низким ценам (Чеботарева, 2019, с. 24); с другой – позитивные макроэкономические эффекты от легализации параллельного импорта весьма сомнительны (Рузакова и Пирогов, 2015, с. 3).
Что касается статистических данных, то в отчете по итогам исследования, проведенного по заказу Ассоциации европейского бизнеса, прогнозируется снижение розничных цен всего на 4–5 % при увеличении доли параллельного импорта до 25 %19. Прогнозы Евразийской экономической комиссии гораздо более оптимистичны: в них заявляется о возможном снижении цен на лекарственные препараты до 550 %, парфюмерно-косметическую продукцию – до 300 %, автомобильные запчасти – до 200 %, одежду – до 50 %20.
Помимо Федеральной антимонопольной службы, либерализация режима исчерпания права на товарный знак поддерживается акторами наднационального уровня в лице органов ЕАЭС, Евразийского межправительственного совета и Евразийской экономической комиссии. В условиях установления единого правового режима исчерпания права на территории ЕАЭС какие-либо изменения или изъятия из регионального режима возможны только при согласии всех государств-участников.
Несмотря на поддержку большинства стран в составе ЕАЭС, к консенсусу по вопросу исчерпания права на товарный знак прийти не удается. Тем не менее определенные шаги в этом направлении предприняты. Одним из них стало распоряжение Евразийского межправительственного совета о наделении его полномочиями по установлению в отношении отдельных видов товаров исключений из действующего на территории государств ЕАЭС режима21.
Кроме этого, среди государств-участников с 2014–2015 годов широко обсуждался проект протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС. Согласно проекту, в государствах ЕАЭС устанавливается дифференцированный режим исчерпания права на товарный знак, допускающий ряд изъятий из регионального подхода. Во-первых, в качестве условий частичной легализации параллельного импорта обозначаются недоступность товаров на рынке ЕАЭС, возможность приобретения товаров в недоста- точном объеме и по завышенным ценам, а также в иных случаях в соответствии с публичными социально-экономическими интересами государств-участников. Во-вторых, международный режим исчерпания планируется к применению в отношении наиболее импортозависимых, но необходимых товаров: автомобильных запчастей, лекарственных препаратов и медицинского оборудования22. Аналогичные положения легли в основу законопроекта, подготовленного ФАС России в 2018 году и позволявшего правительству открывать границу для параллельного импорта сроком на пять лет23. Законопроект в очередной раз не был поддержан Минэкономразвития России. В то же время проект Протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС согласовали все страны – участницы ЕАЭС за исключением Республики Беларусь. В итоге принятый в 2020 году Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров ЕАЭС не содержит положений об исчерпании права на товарный знак24.
В рамках ЕАЭС политическими акторами, ратующими за дифференцированный режим исчерпания, являются правительства Армении, Казахстана и Кыргызстана. В Законе Республики Армения «О товарных знаках» до сих пор сохранилась норма о международном режиме исчерпания права с изъятиями в случае участия правообладателя в санкционированных государством инвестиционных проектах или изменения импортерами материальных характеристик оригинальных товаров (ст. 14)25. Эти правила не применяются в силу присоединения Армении к ЕАЭС с единым региональным режимом исчерпания права на товарный знак. Однако допускается параллельный импорт лекарственных препаратов по сертификату об импорте, который выдается патентным ведомством страны при соответствии товара комплексу технических требований26.
Для Казахстана, как и для России, характерно отсутствие единой сбалансированной стратегии. До 2012 года институт исчерпания права на товарный знак не был формализован в Казахстане, поэтому фактически не имел территориальных ограничений и соответствовал сильной доктрине. В 2012 году в Закон Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» вносена поправка, изменившая статус-кво на национальный режим (ст. 43-1)27. В 2018 году эта норма трансформирована в пользу регионального режима с целью гармонизации с международным законодательством ЕАЭС. В настоящее время органы власти совместно с институтами гражданского общества Казахстана выработали единое управленческое решение в поддержку дифференцированного подхода к исчерпанию в рамках ЕАЭС. По словам председателя правления Союза независимого автобизнеса Казахстана Т. Жаркенова, «региональный принцип исчерпания прав – сдерживающий фактор для бизнеса и бьет по карману населения»28, «издержки населения и бизнеса от запрета на параллельный импорт ведут счет на миллиарды тенге»29.
Для Кыргызстана легализация параллельного импорта особенно актуальна в силу его высокой импортозависимости. Как утверждает министр экономики и коммерции Д. Амангельдиев, в республике «на сегодняшний день импортируется более 70 % потребительского и продовольственного товара, а также более 90 % лекарственных средств»30. Кроме того, в Патентный закон Кыргызской Республики в 2015 году включена норма о международном режиме исчерпания права (п. 6 ст. 13)31, тогда как в законодательстве о товарных знаках какое-либо упоминание об исчерпании отсутствует32.
Основными оппонентами, выступающими против легализации параллельного импорта даже на отдельные группы товаров, являются представители Ассоциации европейского бизнеса – независимой некоммерческой организации, объединяющей более 600 международных и европейских компаний, работающих в России.
Ассоциация европейского бизнеса хотя и не обладает формальными рычагами влияния на действующий режим исчерпания, но активно «продавливает» свою позицию при помощи прессы, экспертных заключений и непосредственного влияния на российские органы власти за счет авторитета своих участников. В Меморандуме по параллельному импорту Ассоциация «не поддерживает параллельный импорт как полностью, так и частично (посредством “пилотных проектов”)» в связи с его противоречием долгосрочным интересам России, импортозамещению и локализации производств, несоответствием интересам российских потребителей. Ассоциация указывает на такие негативные последствия параллельного импорта, как рост недобросовестной конкуренции (за счет снижения издержек на гарантийное обслуживание, сертификацию и рекламу), отсутствие гарантий качества товаров, увеличение ввоза контрафакта до 30–50 %33, снижение инвестиций и вызванное уходом зарубежных компаний с российского рынка сокращение рабочих мест34.
Представленные аргументы кажутся весомыми, но некоторые из них опровергаются другими научными данными. Например, исследование экспертов из Высшей школы экономики показало, что с 2003 по 2015 год при смене международного режима исчерпания на национальный доля инвестиций в производство товаров, внесенных в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС), находилась на уровне всего 3,5 % общего объема. Более того, некоторые крупные компании (Coca-Cola, Indesit, Ariston), локализующие производство на территории России, не вносят свои товарные знаки в ТРОИС и тем самым не препятствуют параллельному импорту (около 17 % инвестиций) (Волков и др., 2019, с. 65, 72–73). Выводы вполне закономерны: введенный в 2002 году национальный режим исчерпания права на товарный знак не оказал воздействия на увеличение инвестиций в российскую экономику.
Экспертами Центра стратегических разработок режим исчерпания также не рассматривается как ключевой фактор для принятия решения об инвестировании. Во-первых, в силу того, что многие зарубежные компании локализовали свои производства в начале 1990-х годов, несмотря на отсутствие определенности в выборе режима исчерпания и неудовлетворительные условия правовой защиты от контрафакции и параллельного импорта. Во-вторых, по мнению экспертов, транснациональные предприятия «обладают эффективными инструментами защиты от параллельного импорта даже в условиях отсутствия его прямого запрета на законодательном уровне» – от ценовой дискриминации по географическому принципу до мероприятий по самоот-бору потребителей35. В данном случае речь идет о географической сегментации рынков путем различных названий товарных знаков и создании специальных предложений для клиентов.
Что касается такого возможного негативного последствия легализации параллельного импорта, как увеличение объема контрафактных това- ров, то спрогнозировать подобный рост практически невозможно. В отчете, подготовленном по заказу Ассоциации европейского бизнеса, приводятся цифры от 10 до 30 %, но это только ожидания компаний36. С другой стороны, как пишет М. С. Нургалеев, при национальном исчерпании контрафактного товара в магазинах меньше не становится. Товар так же проходит через таможенную границу и так же попадает на рынок. Отличие лишь в том, что на сегодняшний день это может сделать либо непосредственно сам правообладатель, либо с согласия правообладателя его представитель. При международном исчерпании это может сделать любое лицо, в установленном законом порядке уплатившее все таможенные пошлины и сборы (Нургалеев, 2017, с. 232).
Еще один аргумент Ассоциации европейского бизнеса о противоречии параллельного импорта российской стратегии импортозамещения нивелируется другими внешнеполитическими интересами России, связанными с преодолением санкций. Запрет параллельного импорта еще в большей степени ужесточает санкционный режим против России и фактически является мерой, воздействующей на экономическую независимость государства (Сысоева, 2018, с. 78).
Что касается позиции других органов власти, то она скорее неопределенна, хотя еще в 2017 году, по оценкам ФАС России, у министерств оставались лишь «технические разногласия»37. На сегодняшний день Минэкономразвития России однозначно высказывается только по поводу необходимости полного запрета «чистого импорта» и не комментирует дифференцированный подход к режиму исчерпания права на товарный знак38. Представители Федеральной таможенной службы (ФТС России) также не предлагают единого комплексного управленческого решения: по словам заместителя руководителя ФТС России Т. Максимова, «правильно иметь инструмент возможного применения параллельного импорта», но важнее, «какой будет алгоритм вынесения предложения по исключению из регионального принципа исчерпания прав»39.
Важным политическим актором, без участия которого не может быть выработана единая стратегия исчерпания, является Республика Беларусь, отвергающая легализацию параллельного импорта. В законодательстве республики о товарных знаках до 2012 года применялся национальный режим исчерпания права на товарный знак, который был изменен на региональный в связи с присоединением к ЕАЭС (ч. 4 ст. 3)40. Власти Беларуси рассматривают параллельный импорт как очевидную угрозу внутреннему рынку ввиду, по оценкам белорусских экспертов, целого ряда потерь для правообладателей, уполномоченных дилеров и конечных потребителей41. Для последних потери выражаются прежде всего в снижении качественных характеристик товара и ухудшении условий гарантийного обслуживания, которые не могут обеспечить параллельные импортеры.
Таким образом, разработку единой политической стратегии по вопросу режима исчерпания права на товарный знак осложняют две группы политических акторов. Первая группа выступает за дифференцированный режим исчерпания. Такой подход основан на действующем региональном режиме в рамках ЕАЭС с изъятиями, обеспечивающими легализацию параллельного импорта для отдельных групп товаров при соблюдении условий недостаточности продукции на рынке ЕАЭС или завышенных цен правообладателей. Подобные инициативы поддерживаются ФАС России, правительствами Армении, Казахстана и Кыргызстана, а также представителями малого и среднего бизнеса. Вторая группа акторов в составе крупных международных бизнес-сообществ, обладателей известных товарных знаков и органов власти Республики Беларусь настаивает на сохранении существующего статус-кво. Несмотря на отсутствие точных прогнозных данных, для потребителей легализация параллельного импорта является скорее благоприятным явлением по причине исключения ценовой и ассортиментной дискриминации со стороны правообладателей.
В силу отсутствия консенсуса между двумя группами политических акторов закономерной предполагается политическая стратегия постепенной легализации параллельного импорта с регулярной оценкой получаемых социально-экономических результатов. Поскольку преодолеть сопротивление Республики Беларусь изменению режима исчерпания права на товарный знак не представляется возможным, Россия вынуждена исходить из собственных ресурсов по продвижению этого курса.
Предлагаемая нами к реализации стратегия предполагает ряд поэтапных действий. Во-первых, закрепление в статье 1487 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации правовой нормы, дающей право правительству устанавливать как территориальные, так и объектные (по отдельным группам товаров) изъятия из действующего режима исчерпания права на товарный знак. Во-вторых, в контексте правомочий, предоставленных кабинету министров гражданским законодательством, поддержка инициативы губернатора Калининградской области А. Алиханова по легализации параллельного импорта лекарственных препаратов на ограниченной территории субъекта Российской Федерации42. Выбор Калининградской области вполне обоснован в силу географического положения региона и близости к европейским поставщикам.
Разумеется, подобные мероприятия требуют соответствующей организации и контроля со стороны федеральных ведомств. Поэтому, в-третьих, исполнительным органам государственной власти, включая ФАС России, Минэкономразвития России, Роспатент, ФТС России, необходимо разработать соответствующие стандарты, которым должны удовлетворять параллельно импортируемые товары. Среди обязательных условий пропуска через границу должны быть дефицит подобных товаров в стране, завышенные цены со стороны правообладателей, удовлетворение потребностей в общественной безопасности и прочие условия, направленные на реализацию публичных интересов. Для обеспечения соответствующего качества товаров важно ввести различительную, например цветовую, систему маркировки продукции параллельного импорта с указанием данных импортера и порядка гарантийного обслуживания товаров. В целях соблюдения этих условий необходимо наделить Роспатент по аналогии с армянским патентным ведомством полномочиями по выдаче сертификатов соответствия параллельным импортерам.
В-четвертых, в качестве важной организационной меры необходимо создание специальных таможенных постов для проверки продукции, импортированной неуполномоченными дилерами, и пресечения перемещения через границу контрафактных поддельных товаров. О подобных мерах при непосредственном участии правообладателей еще в 2015 году заявляли представители ФАС России43.
Наконец, реализация стратегии локального экспериментирования не даст соответствующих результатов при отсутствии системы постоянного мониторинга и опубликования результатов. Только в таком случае возможно дальнейшее планирование долгосрочных действий по легализации параллельного импорта среди государств – участников ЕАЭС, в том числе изменение позиции Республики Беларусь по данному вопросу.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Институциональные условия, определяющие характер института исчерпания права на товарный знак, не позволяют сформировать единый сбалансированный подход в этой области. Тот факт, что режим исчерпания права на товарный знак в России трансформировался трижды за последние тридцать лет, не свидетельствует в пользу устойчивости института исчерпания права. Принятые десять лет назад международные обязательства России требуют установления общего правового режима в границах ЕАЭС, однако консенсус на наднациональном уровне не достигнут.
На внутринациональном уровне единство также отсутствует. Соблюдение баланса интересов при выборе режима исчерпания права на товарный знак осложняется противоборством двух основных групп политических акторов. Первая группа во главе с ФАС России поддерживает стратегию либерализации режима исчерпания и частичной легализации параллельного импорта при определенных условиях на отдельные группы товаров. Другая группа в составе прежде всего крупных бизнес-компаний оказывает противодействие инициативам по изменению регионального режима и выступает за сохранение существующего статус-кво. Обе группы политических сил апеллируют набором объективных аргументов относительно преимуществ и недостатков легализации параллельного импорта. Однако в существующих условиях не представляется возможным спрогнозировать реальные последствия международного режима исчерпания права на товарный знак в стране. Это касается и снижения цен, и объема контрафактной продукции, и объема инвестирования в локализованные производства, и качественных характеристик импортируемых товаров.
Такое положение дел способствует единственному возможному варианту дальнейших действий в виде стратегии локального экспериментирования, предполагающей легализацию параллельного импорта на отдельные группы товаров на определенной территории (например, на лекарства в Калининградской области). Только подобные эксперименты под контролем федеральных органов государственной власти с постоянным мониторингом результатов и информированием о них населения могут в дальнейшем стать предпосылкой для введения дифференцированного режима исчерпания права на товарный знак на территории стран – участниц ЕАЭС.
В настоящий момент государствам ЕАЭС необходимо направить усилия на создание оптимальных условий для обеспечения импорта товаров в таможенных границах союза. В первую очередь это касается организации параллельного импорта внутри ЕАЭС и создания необходимого для этого Единого реестра объектов интеллектуальной собственности.
Список литературы Политическая стратегия России в выборе режима исчерпания права на товарный знак
- Агамагомедова С. А., Любарец Ю. С. Проблема параллельного импорта в условиях глобализации // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Экономические науки. 2019. № 2. С. 63-71. DOI: 10.21685/2309-2874-2019-2-7 EDN: ALGXNZ
- Анишин А. А., Хромов А. В. Принцип исчерпания права на товарный знак и параллельный импорт в России: настоящее и будущее // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2018. № 19. С. 109-117. EDN: VRUXSU
- Вилинов А., Рябчикова А. Легализация параллельного импорта в России: позиции федеральных органов и бизнес-сообщества // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2013. № 2. С. 31-41. EDN: RBSUHV
- Волков А. Ю., Радченко Т. А., Банникова (Сухорукова) К. А. Инвестиции в локализацию и возможности для легализации параллельного импорта в России // Экономическая политика. 2019. Т. 14, № 1. С. 54-75. DOI: 10.18288/1994-5124-2019-1-54-75 EDN: YYFXBB
- Гаврилов Э. П. Принцип исчерпания исключительного права и его толкование в Постановлении Конституционного Суда РФ // Хозяйство и право. 2018. № 5. С. 36-46. EDN: XNZOLR