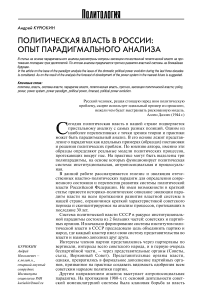Политическая власть в России: опыт парадигмального анализа
Автор: Курюкин Андрей Николаевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политология
Статья в выпуске: 7, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе парадигмального анализа рассмотрены вопросы эволюции отечественной политической власти на протяжении последних трех десятилетий. По итогам анализа предлагается прогноз развития властной системы на ближайшее будущее.
Политика, власть, система, парадигма, система власти, парадигма власти, политическая власть, прогноз, эволюция политической власти
Короткий адрес: https://sciup.org/170166459
IDR: 170166459
Текст научной статьи Политическая власть в России: опыт парадигмального анализа
Русский человек, решая стоящую перед ним политическую проблему, скорее использует идеальный пример из прошлого, нежели чем будет выстраивать рискованную модель.
Аллен Даллес (1944 г.)
С егодня политическая власть в нашей стране подвергается пристальному анализу с самых разных позиций. Одним из наиболее перспективных с точки зрения теории и практики может быть парадигмальный анализ. В его основе лежит представление о парадигмах как идеальных примерах (образцах) постановки и решения политических проблем. По мнению автора, именно эти образцы определяют реальные модели политических процессов, протекающих вокруг нас. На практике могут быть выделены три полипарадигмы, на основе которых функционирует политическая система: институциональная, антропосоциальная и процессуальная.
В данной работе рассматривается генезис и эволюция отечественных властно-политических парадигм для определения современного состояния и перспектив развития системы политической власти Российской Федерации. Не имея возможности в краткой статье привести историко-политическое описание эволюции парадигм власти на всем протяжении развития властной системы в нашей стране, ограничимся краткой характеристикой советского периода и сконцентрируемся на анализе процессов, протекавших в последние 30 лет.
Система политической власти СССР в ракурсе институциональной парадигмы состояла из 2 больших частей: советских и партийных органов. Изначально формирование системы институтов политической власти в СССР преследовало цель объединить партию и народ, где каждый кластер имел свою систему представительства во власти и взаимно дополнял друг друга.
КУРЮКИН Андрей Николаевич –
Интересы членов партии представлялись через парторганы по вертикали, интересы всего советского народа, и в первую очередь беспартийной части, – через представительные органы (Советы, съезд, Верховный Совет). Представительные органы власти, однако, превратились в формальное дополнение партийных органов, призванное на практике создавать видимость одобрения всем советским народом политики партии.
Другим направлением анализа выступает антропосоциальная парадигма. На протяжении 1980-х гг. основой деятельности советской номенклатурной системы была клановая борьба за власть и расширение привилегий. Советская номенклатура, представляя собой гиль-дийный тип политической элиты, усиленно бюрократизировалась, отрывалась от реальной действительности и уходила в область латентных политических процессов.
С точки зрения процессуальной парадигмы функционирование системы политической власти в СССР осуществлялось в двух ипостасях. С одной стороны, формальные политические процессы, которые представляли собой видимостное выражение единства народа и партии, а с другой –реальные латентные политические процессы клановой борьбы за власть и влияние, осуществлявшиеся как на высшем уровне политического руководства, так и в низовых партийных и советских организациях. В этих условиях объективные и публичные политические процессы, как минимум, пускались на самотек, а если они хоть в незначительной степени угрожали устойчивости сложившейся системы, то против них организовывалась борьба.
Приход к власти президента Б. Ельцина был связан с декларацией слома старой советской властной полипарадигмы и постройки новой парадигмы политической власти демократической свободной России. На практике все сложилось несколько по-иному. При распаде коммунистической системы на месте Центрального Комитета КПСС – наиболее сильного института власти – возник вакуум, который заполнил президент России Ельцин. Его возвышение происходило в борьбе с другими отечественными политическими институтами, окончательная победа в которой была достигнута танковыми пушками 1993 г. Сформировавшаяся модель властной системы может быть охарактеризована как «сильный президент при слабом государстве».
Стремление удержать такое положение продиктовало Б.Н. Ельцину четкую необходимость институциональных и кадровых трансформаций в отечественной властной системе. Формируя собственную властно-политическую опору в 1994–95 гг., Ельцин понимал, что ни федеральные органы государственной законодательной власти (Государственная Дума и Совет Федерации), ни правительство РФ ею стать не могут.
К этому выводу нас приводит то, что
Госдума 90-х гг. состояла во многом из политических противников первого президента РФ (КПРФ, АПР, в отдельных случаях – «Яблоко»). Совет Федерации также не выполнял функций «законодательного фильтра», которые были ему отведены авторами Конституции РФ 1993 г., и нередко голосовал за преодоление президентского «вето» по некоторым законам. На правительство РФ президенту также опираться было затруднительно. Первый вотум недоверия правительству был предъявлен 21 июня 1995 г. Хотя он и не получил подтверждения при повторном голосовании 1 июля, тем не менее – факт весьма показательный.
В этих условиях Б. Ельцин и его соратники приложили громадные усилия для формирования комплексной системы сохранения максимальной полноты власти в руках президента, для чего создали фактически дублирующее правительство в лице целого ряда учреждений и организаций, входящих в администрацию президента РФ, либо находящихся под ее патронажем. В качестве организационных основ ее формирования выступили, с одной стороны, кремлевские организационнополитические структуры, существовавшие на протяжении всего советского периода, а с другой – некоторые компоненты прежнего Центрального Комитета КПСС. Причем унаследована была не только организационно-кадровая структура этих учреждений, но и их права и полномочия. На определенном этапе президентская администрация действовала как теневое правительство.
В середине и второй половине 90-х гг. при такой структуре политической системы центральным политическим инструментом выступали не законы, а указы президента, исполнение которых разными средствами обеспечивала все та же администрация. Так, Государственное правовое управление (ГПУ) осуществляло «конвейерное» отклонение законов, принятых ГД РФ, в том случае, если их инициатором являлся не президент1.
Таким образом, комплексная парадигма ельцинской политической власти, выстраивавшаяся как антитеза советской парадигме, в т.ч. «горбачевской», напротив, восприняла и заострила далеко не самые положительные ее черты. Желая любыми способами сохранить полноту политической власти, Б.Н. Ельцин фактически создал в стране дублирующее государство, где были собственные исполнительные (президентская администрация) и силовые (служба безопасности президента, ФСО, ФАПСИ) структуры.
Страна фактически находилась в состоянии длящегося противоборства ветвей власти, в условиях которого наиболее эффективным инструментом управления стали указы президента. По сути, на федеральном уровне власти было реализовано прямое президентское правление, которое делало фактически не нужными законодательные органы Федерального Собрания. Такая ситуация вызывала справедливую критику, а иногда – и открытое противодействие.
Приход к власти в начале нового столетия второго президента РФ В.В. Путина ознаменовался формированием новой парадигмы, которую по сравнению с ельцинской мы можем назвать «антипарадигмой». Формирование системы институтов, подбор кадров и организация политического процесса строились, так сказать, «от противного», с целью преодоления пороков ельцинской эпохи. Путин и его соратники не стали вести коренную перестройку институциональной структуры государственной власти, сделав упор на приспособление имеющихся властнополитических институтов к эффективной работе. Для этого основной упор был сделан на кадровые трансформации. Ведущие позиции во властных институтах стали занимать выходцы из спецслужб. В рамках вертикали власти между представителями силовых структур, перешедшими на государственную гражданскую службу, должны были быть установлены более крепкие формальные и неформальные связи, призванные обеспечить повышение эффективности функционирования административного аппарата. Идентичная модель организации функционирования была привнесена и в законодательные органы. В Государственной Думе РФ 4-го созыва, имея конституционное большинство (304 голоса), безраздельно господствовала партия «Единая Россия».
Таким образом, коренного преобразования в сфере реальной деятельности властной системы так и не произошло. При низкоэффективной системе государст- венной власти и ослабленной гражданской инициативе модель «сильный президент-премьер» не теряет своей актуальности. И хотя В.В. Путин предпринимал попытки несколько сократить полномочия администрации и, напротив, укрепить вертикаль власти и активизировать деятельность законодательных органов, перелом так и не произошел. Администрация президента по-прежнему продолжала оставаться наиболее эффективным политическим инструментом.
Сегодня президентская администрация выполняет функцию обеспечения властно-политических полномочий президента. Она осуществляет проверку исполнения указов президента и тех документов, которые определены им как «взятые на контроль», а также общий надзор за правовой ситуацией в стране. Реализуя эту функцию, администрация взаимодействует с большим числом официальных органов в центре и на местах, ведет работу с политическими партиями, неправительственными организациями, иногда привлекает и иностранных политиков. Однако более важным аспектом ее властной политической роли выступает мониторинг политической ситуации в России и мире для выработки стратегии действий президента.
Изложенная выше ситуация приводит нас к выводу о том, что в сформированной институционально-политической системе имеются изрядные резервы для дальнейшей бюрократической централизации политической власти и ее концентрации в руках конкретной группы политического истеблишмента. Достаточно достроить эту систему правительством, председатель которого сам является бывшим президентом, и парламентом, квалифицированное большинство в котором занимает партия, лидером которой является Председатель Правительства, и мы получим готовую систему, в которой все 3 не совпадающие части фактически являются элементами единого целого. В этих условиях особое значение приобретает тезис о том, что в природе политического права правительства – требовать исполнения принятых им решений, а в природе всех остальных политических сил – критиковать принятые решения и, более того, оспаривать их и не соглашаться с ними.
В свете вышеизложенного следует отметить, что несколько иные характеристики приобретает и политический процесс, протекающий при такой парадигмаль-ной структуре властно-политической системы. Анализируя современную практику реализации концепции разделения властей в нашей стране, нельзя не видеть, что Конституция 1993 г. изначально заложила дисбаланс в сторону президентской власти и власти правительства, а не равное ее распределение между всеми ветвями.
После президентских выборов 2012 г. определяющим фактором развития страны станет та идеологическая стратегия, которая будет избрана новым президентом. Сегодня на роль выражения этой стратегии претендует дихотомия категорий «стабильность – порядок».
«Стабильность» заключает в себе совокупность действий по достижению политической и экономической устойчивости общества в краткосрочной перспективе, при этом цель – решить принципиальные проблемы, которые стоят перед обществом, либо разрешить противоречия, ему свойственные. В свою очередь, «порядок» предполагает определенную и четко выраженную степень соответствия между политическим режимом, общественной структурой и социальными процессами, свойственными данному обществу. В «обществе стабильности» на 1-е место выходит аппарат ее обеспечения, который осуществляет административное управление всеми политическими и общественными процессами и, соотнося суть процесса с самой категорией стабильности, выносит решение относительно его реализации или прекращения. «Общество порядка» ориентируется на само общество и общественный процесс в их естественных для данного момента формах. Главная задача власти в данном случае – не поддержание стабильности, а обеспечение выживания общества в целом и данного типа упорядоченности общественных процессов.
При этом в качестве общих критериев различения этих типов могут быть названы нормативные основы организации и осуществления власти (в обществе стабильности – это указ, в обществе порядка – право); отношение к частной собственности (в обществе стабильности общее право собственности принесено в жертву стабильности); подотчетность правительства. В обществе стабильности бюрократия получает чрезвычайную власть, вплоть до неограниченной, а нормативные акты и акты управления издаются в неопатримониальной манере. При этом в обществе все политизировано, но не политично.
Анализируя с этих позиций политические реалии современной России, нельзя не отметить, что, начиная с конца 90-х гг. ХХ в., отечественная система власти оделась в демократические доспехи, но говорить о формировании полиархической системы сегодня нельзя. Практика показывает, что созданный механизм политической власти и государственного управления по-прежнему находится в большой зависимости от индивидуального руководства, хотя делаются попытки привести аппарат в режим самостоятельной работы без понуканий, особенно в экстренных случаях. В целом же главная суть современной отечественной властной системы состоит в формировании однородного политико-правового пространства и общеупотребительных норм правления с сохранением пренебрежительного отношения к формированию активной гражданской позиции населения как сердцевине республиканских концепций.