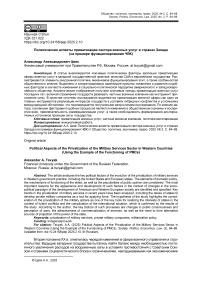Политические аспекты приватизации сектора военных услуг в странах Запада (на примере функционирования ЧВК)
Автор: Цвяк А.А.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 2, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются ключевые политические факторы эволюции приватизации сферы военных услуг в западной государственной практике, включая США и европейские государства. Рассматриваются элементы внутренней политики, механизмов функционирования элит, а также особенностей общественного мнения. Выделены и конкретизированы важнейшие причины появления и развития подобных факторов в контексте изменений в социально-политической парадигме американского и западноевропейского общества. Аналитическое отображение получили ключевые тренды приватизации военных услуг последних лет, включая стремление государств развивать частные военные компании как инструмент приложения силы. В качестве гипотезы исследования выделяются приватизация военной сферы как один из главных инструментов реализации интересов государств в условиях гибридных конфликтов и усложнение международной обстановки, что подтверждается полученными результатами исследования. По мнению автора, основными факторами подобных процессов являются изменения в общественном сознании и восприятии войн, привлекательность коммерциализации услуг, а также необходимость формирования альтернативных источников проекции силы государства.
Приватизация военных услуг, частные военные компании, политика милитаризации
Короткий адрес: https://sciup.org/149147426
IDR: 149147426 | УДК: 321.022 | DOI: 10.24158/pep.2025.2.10
Текст научной статьи Политические аспекты приватизации сектора военных услуг в странах Запада (на примере функционирования ЧВК)
условиями, так и политическими факторами (Калдор, 2015). К числу последних следовало отнести по крайней мере два важнейших параметра, приведших в дальнейшем к эволюции подходов к бюджетированию расходов на оборону.
Первым из таких факторов стал вопрос, затрагивающий особенности государственного управления в военной среде. С приходом Р. Макнамары на пост министра обороны США в 1961 г. начала реализовываться тенденция перетекания гражданских специалистов и соответствующих менеджерских практик в военную сферу. Р. Макнамара – выходец из Ford Motor Company – и его команда приступили к формированию гибкой системы управления, которая призвана была стать более устойчивой и приспособленной к быстроменяющимся обстоятельствам мировой политики, определяемым холодной войной и процессами деколонизации в странах Азии и Африки. Несмотря на то что на первых порах эти новшества касались скорее особенностей министерского управления, нежели деятельности самих вооруженных сил, во многом они предопределили курс последующих десятилетий на гибридизацию методов управления и достижения поставленных целей в области военной безопасности.
Вторым фактором стал запрос на изменение концепции приложения силы в зонах национальных интересов. Если ранее государства могли проецировать свою мощь и силовую компоненту в двух поляризованных видах – прямой силе с задействованием армии или скрытой, при помощи подразделений специального назначения или разведывательных структур, то с усложнением международной обстановки после Второй мировой войны появился новый запрос – на такое присутствие, которое могло бы быть осуществлено открыто, не ставя под сомнение первоначальный источник проецируемой силы, но в то же время не привязывало к ситуации правительство напрямую. Выход был найден в лице частных военных компаний (в национальных юрисдикциях зачастую именовавшихся просто охранными) (Rogers, 2017).
На практике такие ЧВК начали формироваться в качестве гибридных инструментов, соединяющих ключевые преимущества как вооруженных сил государств, так и неправительственных военизированных объединений. Из вооруженных сил компании переняли функциональные особенности, командно-приказную систему, а также принципы организации действий. Кроме того, сотрудники даже самых первых ЧВК по уровню индивидуального оснащения были приближены к стандартам вооруженных сил. От наемников частные военные компании взяли гибкий характер деятельности и относительную самостоятельность на местах. Тем самым был создан гибридный элемент, сочетавший в себе зачастую противоположные формы (McFate, 2019).
Однако в этом контексте важно понимать, что, несмотря на наличие элементов как с одной стороны, так и с другой, само руководство первых частных военных компаний происходило не из условно наемной среды, а из военной. Иначе говоря, руководители ЧВК были не наемниками, стремившимися к легализации и институционализации своих групп, а бывшими кадровыми военными, ушедшими в менее регулируемую область (Белозёров, 2009).
Подобная ситуация, подразумевавшая приватизацию государственных функций по обеспечению военной безопасности, не была распространена широко. Первопроходцем в этой части можно считать Великобританию, использовавшую компанию Watchguard International для решения внешнеполитических задач. Созданная в 1967 г. одним из основателей британского спецназа SAS, данная компания применялась, в частности, в Саудовской Аравии для охраны нефтяных месторождений, к которым Великобритания относилась как к объектам стратегической важности, но при этом по причинам дипломатического и внутриполитического характера не желала развертывать на территории Саудовского королевства свои вооруженные силы.
Другие государства обращались к ЧВК значительно реже. В США первопроходцем в области приватизации военных услуг стала компания DynCorp, начавшая активно работать по подрядам в сфере обслуживания авиационной техники. Франция обращалась к услугам Иностранного легиона, не входившего в вооруженные силы, но и не являвшегося частной военной компанией в классическом понимании этого термина. Иные европейские государства вроде ФРГ, Франции или Италии предпочитали более классическую схему, в которой за частным сектором оставалось исключительно производство материально-технической части для вооруженных сил, но не военные услуги как таковые.
Принципиально новым этапом в эволюции процесса приватизации военных услуг стали 1990-е годы. Во-первых, существенным образом изменились общественно-психологические подходы к восприятию использования вооруженных сил. В частности, в Соединенных Штатах после гибели бойцов подразделений специального назначения в Сомали в 1993 г., заснятой на видеопленку и опубликованной в СМИ, возник крупный внутриполитический скандал, остро обсуждаемый в обществе. Последствия этого события, во многом перечеркнувшего в общественном восприятии крайне успешную операцию «Буря в Пустыне» против Ирака в 1991 г., имели не только ситуационное, но и долгосрочное выражение. Так, даже по прошествии нескольких лет администрация Б. Клинтона воздержалась от развертывания сухопутного контингента армии США при операции на территории Югославии, задействовав для координации военного управления и подготовки на местах частного подрядчика, компанию MPRI, состоящую, впрочем, преимущественно из экс-военных.
Подобные процессы наблюдались и в Европе. На смену воинским контингентам в бывших африканских странах – колониях, продолжавших входить в сферу национальных интересов европейских государств, начали приходить сотрудники частных военных компаний, выполнявшие схожие функции контроля при значительно меньшем общественном внимании к своему присутствию. Одним из многочисленных примеров являлась деятельность южноафриканской компании Executive Outcomes (сменившей впоследствии регистрацию на британскую), задействованной как в ряде африканских войн, так и в обеспечении безопасности на территории континента крупнейших транснациональных предприятий вроде алмазодобывающей De Beers или горно-металлургической Rio Tinto Group.
Соответственно, подобный подход предполагал явные преимущества как на внутриполитическом треке, так и на внешнеполитическом. Задействование частных подрядчиков уводило в сторону от правительственных структур возможную критику и позволяло государствам проводить активную политику в тех регионах, где требовалось приложение силы (Косов, Гарас, 2023). Демократизация общественных настроений в странах Запада, связанная с фактической ликвидацией крупнейшего геополитического соперника и соответствующим снижением уровня милитаристской паники, привела к корректировке курса европейских правительств. Армия из ключевого звена обеспечения самого существования государства перешла на время в разряд поддерживающей общественную и государственную безопасность структуры. Фактически следовало говорить о том, что даже если бы кадровый военнослужащий и представитель частного подрядчика выполняли абсолютно идентичные функции, то характер отношения к этому со стороны общества был бы принципиально разный.
Во-вторых, отдельного внимания заслуживает вопрос смены управленческих подходов к вооруженным силам. Особенно актуальной данная тема стала для Соединенных Штатов, которые в начале 1990-х гг. перешли к принципиально иной системе развития и обеспечения устойчивого функционирования вооруженных сил. Ранее существовавшая схема, когда частные компании производили технику, вооружение и элементы снабжения, а уже обязанности по их эксплуатации возлагались на тыловые войска, сменилась на подход, где частные подрядчики присутствовали практически на всех этапах обеспечения армии. Одним из главных действующих лиц этого процесса стал Д. Чейни, начавший продвигать подобный курс на посту министра обороны, на котором он находился в период с 1989 по 1993 г. Д. Чейни распространил практику перехода к заключению аутсорсинговых контрактов с частными компаниями, начавшими занимать все более крупные позиции в сегменте военных услуг.
Такой подход имел под собой рациональную базу. В основе ранее главенствующих не только в США, но и в целом в сравнительном большинстве стран мира подходов лежало стремление каждой государственной институции иметь собственный обслуживающий аппарат. Даже выполнение таких обобщенных функций, как уборка или обеспечение питанием, в каждом ведомстве возлагалось на внутренние подразделения. С переходом передовых экономик на систему аутсорсинга, при которой максимально возможное число вспомогательных задач передавалось в ведение сторонних контрагентов, подобные изменения стали проникать и в сферу вооруженных сил, пусть и значительно более медленными темпами. Революция в этой области, наступившая в 1990-е гг., привела к тому, что в вооруженных силах США фактически не осталось задач, кроме контроля за стратегическими силами ядерного сдерживания, в которые не были бы вовлечены частные подрядчики.
Кроме того, подобные тенденции формировались в условиях смены парадигмы взаимовлияния гражданской и военной сфер. Если ранее стоял вопрос о прямой конверсии технологий, при которой прорывные решения создавались в наиболее сложной и наукоемкой отрасли экономики – военно-промышленном комплексе, а далее переходили оттуда в сферу гражданского применения, то к концу XX в. начала формироваться противоположная тенденция. Теперь уже гражданские разработки, создаваемые как крупными корпорациями, так и отдельными независимыми группами инженеров, находили применение в военном деле. Это явление получило название обратной конверсии. В таких условиях частный сектор только увеличивал степень своего воздействия на военную сферу.
Исходя из теории менеджмента, подобный подход приводил к снижению трансакционных издержек, однако у этого процесса были и иные, более политизированные, предпосылки. Лица, занимавшие руководящие посты, не могли получать прямую выгоду от взаимодействия с подчиненными им внутриведомственными структурами, кроме как при помощи явных коррупционных схем, а выделение услуг на аутсорсинг открывало путь как к персональной выгоде, так и к формированию подчиненного пула компаний. На практике это привело к тому, что слой высшего военно-политического руководства начал сливаться с частным сектором. Частные подрядчики, как выполняющие услуги по поставке и обслуживанию материальных средств, так и оказывающие сугубо военные услуги, получили огромный толчок к развитию в результате начавшейся кампании против терроризма в Афганистане (Небольсина, 2010), а затем и последующего вторжения в Ирак. Упомянутый Д. Чейни после ухода со своей должности стал председателем совета директоров нефтепромышленной корпорации Halliburton, которая впоследствии отметилась участием в активной разработке месторождений в Ираке в период, когда сам Д. Чейни уже был вице-президентом в администрации Дж. Буша-младшего. KBR, дочерняя структура этой компании, реализовалась, в свою очередь, как крупнейший подрядчик Министерства обороны США в области строительства, также отвечая за проекты в Ираке. Крупнейшим проектом KBR стало возведение так называемой «Зеленой зоны» – правительственного квартала в Багдаде, на территории которого расположилось американское посольство (Небольсина, 2012). Тем самым ЧВК использовались в качестве средства личного обогащения представителей военно-политической элиты западных стран, при этом осуществляя впоследствии финансирование избирательных кампаний. Такой подход фактически давал двойной результат для инициаторов и выгодоприобретателей данного процесса.
Отдельного внимания заслуживают и особенности участия частных подрядчиков в электоральном процессе. Так, знаменитая американская частная военная компания Blackwater, основанная выходцем из подразделения спецназа ВМФ США Э. Принсом, с момента создания агрегировала под своим знаменем прореспубликанские силы, а также неоднократно принимала участие в финансировании избирательных кампаний кандидатов от данной партии (Scahill, 2007). Пик известности этой ЧВК и наибольшее число заключенных контрактов пришлись на период президентства Дж. Буша-младшего, представлявшего именно Республиканскую партию. С приходом Б. Обамы на пост президента США и сменой администрации с республиканцев на демократов наблюдалось постепенное угасание влиятельности Blackwater, прошедшей через смену наименования и ставшей Xe, а затем и Academi.
Тенденции приватизации сферы военных услуг в настоящее время фокусируются в большей степени вокруг двух ключевых задач: наращивания прибыли частными компаниями и сокрытия государственного военного участия на принципиально важных направлениях. В рамках второго направления государства все чаще обращаются к опыту 60–70-х гг. прошлого века, используя компании прикрытия для полноценных силовых акций (Сазонова, 2017).
Примером подобного может служить деятельность американской ЧВК Forward Observations Group, основанной бывшим солдатом армии США Д. Бейлсом. Открытая формально как бренд военной одежды, аксессуаров и оборудования для тактической медицины, она отметилась присутствием своих вооруженных сотрудников в Киеве в 2022 г., вероятно выполнявших функции патрулирования и контроля важных военных объектов. В 2024 г. бойцы этой ЧВК (пусть и без официального статуса, но с набором функций, позволяющих отнести их к частной военной компании) приняли непосредственное участие в боевых действиях на территории Курской области, работая в виде прокси-формирования, фактического инструмента непрямого участия иностранного государства в конфликте (Сайфетдинов, 2022).
В заключение следует отметить, что приватизация сферы военных услуг в странах Запада является перманентным, устойчивым процессом, наиболее активно развивающимся с начала XXI в. Подобное явление, как рассмотрено в статье, обусловлено не только изменением управленческих подходов, но и усилением значимости политических факторов. Сам процесс приватизации военных услуг оказывается связан с действиями ведущих руководителей оборонного сектора, использующих аффилированные с ними компании как способ развития собственного влияния, а также с намерениями ряда государств усиливать проекцию силы на стратегически важных географических направлениях, избегая прямого участия собственных вооруженных сил.
Список литературы Политические аспекты приватизации сектора военных услуг в странах Запада (на примере функционирования ЧВК)
- Белозёров В.К. Негосударственные субъекты современных войн и военной деятельности // Проблемы безопасности. Бюллетень научно-издательского центра «Наука XXI». 2009. № 2 (5). С. 91-97.
- Калдор М. Новые и старые войны: организованное насилие в глобальную эпоху / пер. с англ. А. Апполонова, М. Дондуковского. М., 2015. 416 с.
- Косов Г.В., Гарас Л.Н. Частные военные компании: элитологический анализ // Вопросы элитологии. 2023. № 4. С. 72-82. https://doi.org/10.46539/elit.v4i4.176.
- Небольсина М.А. Правовое регулирование международного военного присутствия в Афганистане // Вестник МГИМО-университета. 2010. № 2. С. 133-142.
- Небольсина М.А. Частные военные и охранные компании в Ираке и Афганистане: аспекты деятельности и механизмы контроля // Ежегодник Института международных исследований Московского государственного института международных отношений (Университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации. 2012. № 1 (2). С. 288-306.
- Сазонова К.Л. «Гибридная война»: международно-правовое измерение // Право: журнал Высшей школы экономики. 2017. № 4. С. 177-187. https://doi.org/10.17323/2072-8166.2017.4.177.187.
- Сайфетдинов Х.И. Гибридные войны, проводимые США и странами НАТО, их сущность и направленность // Военная мысль. 2022. № 5. С. 13-20.
- McFate S. Mercenaries and war: Understanding private armies today. Washington, 2019. 51 p.
- Rogers P. Irregular war: The new threat from the margins. L., 2017. 256 p.
- Scahill J. Blackwater: The rise of the world's powerful mercenary army. N. Y., 2008. 560 p.